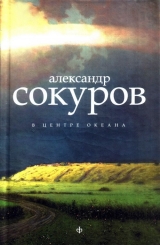
Текст книги "В центре океана "
Автор книги: Александр Сокуров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
У нас вообще отсутствует определившееся спокойное, вне аффектации, отношение к изображению полового акта. Все время существует соблазн что-то называть порнографией, хотя никто не знает точно границ запретного. В сексуальных отношениях нет ничего, что могло бы быть запретным. Существует, конечно, правильная в своей основе рафинированность раннего воспитания, предполагающая определенную опасность для детской психики эротических фаз движения. Но прежде для многих поколений деревенских детей зачатие не составляло секрета. Конечно, в искусстве существуют этические и эстетические критерии изображения, но мне никогда не было понятно, почему при изображении обнаженного тела, полового акта может у зрителя возникнуть культурный шок. Точно так же я не понимаю, в чем особый акцент темы гомосексуальной любви. Разве сама любовь, как угодно ориентированная, не есть большая проблема?
Человек создан в разобранном виде. Это некая коробка, где лежат элементы конструкции. Даже медицина, которая лечит болезни, а не человека, не знает или потеряла целостность человеческого существа. Искусство пытается объединить элементы, создавая образ. Мир создан с огромным дефектом. Если мир – замысел Создателя или Природы, то что за жуткая в него закралась ошибка? Люди во многом похожие и абсолютно разные. Показать мужчине и женщине: посмотри, я тебе это дам, а это отниму. Да еще и сообщить о том, что все умрут. Все смертны… А если приглядеться к живому миру, к прекрасной природе, то на самом безмятежном альпийском лугу среди прекрасных трав увидишь страшную борьбу. Телеканал «Animal Planet» круглые сутки подробно показывает, как все друг на друга охотятся и кто как кого съедает. Как живое существо гибнет в чудовищных муках, видя глаза и челюсти своего убийцы.
Искусству остается лишь примирить человека с несовершенством мира. Оно может смягчить нравы и прорепетировать уход человека в мир иной. Если бы не было этой подготовки, этой репетиции смерти в искусстве, человек, хороня близких, не смог бы жить дальше. Не менее важная задача для искусства – научить человека любви. Не только в общечеловеческом, но в сугубо физическом смысле. Образец эротического поведения человек черпает в литературе, в изобразительном искусстве, а сегодня, конечно, в кинематографе. Именно искусство создает эффект «воспитания чувств» и вырывает эмоциональную сферу жизни из лап пошлости.
Замечательное искусство рисовальщика лишает графику Эйзенштейна непристойности. В этих рисунках есть насмешка над обывательской тайной «полового вопроса», есть и гротескная вариантность, схематизм секса: эротическая тема разрешается в шарже – это своеобразная пародия на традицию жанра. Эротические серии есть у знаменитых, великих художников. Я думаю, что Эйзенштейн видел очень много старинных гравюр с эротической тематикой, ведь он был библиофилом. Конечно, здесь был и подсознательный импульс реализации личных эротических и творческих желаний.
Когда смотришь эти рисунки, комок подступает к горлу, потому что ты сталкиваешься с миром пронзительного одиночества Сергея Михайловича, творца, обреченного на изоляцию от внешнего мира, от полноценной жизни, обреченного на невозможность открыть себя. Не случайно большинство рисунков сделано в алма-атинской эвакуации во время войны. Это изобразительная компенсация подавленного желания свободной жизни. И это желание, без сомнения, было огромной непреодолимой силой как личности самого Эйзенштейна, так и творческих людей его поколения.
Революционный порыв возбудил деятельную энергию в обществе, но почему последующие агрессивные революционные события: массовые убийства, разрушение старого порядка – не вызвали трезвой, осмысленной оценки, откуда у таких, как Эйзенштейн, неспособность к этой оценке? Куда девалось очарование, да просто уважение к традиции культуры? Почему не сработала прививка классического XIX века?
Вероятно, мы не знаем чего-то главного про конец XIX века. Того, что вызвало такое мощное отторжение в следующем веке. Для того чтобы поддерживать весь развал страны, как это делали выдающиеся представители старой культуры, надо было бесконечно ненавидеть то, что было за спиной. Чего-то главного мы не знаем. Не знаем степени постыдной низости только что ушедшего века. Помимо социальных проблем, которые и в так называемом новом обществе, созданном большевиками, отнюдь не исчезли, были и другие факторы. По-видимому, культура XIX века не соответствовала уже требованиям общества. Она уже ничего не создавала, кроме самой себя. Даже охранительное поле культуры – настоящая публика – растворилось в толпе обывателей. Вспомните похороны Чехова, собравшие огромное число народа. Свидетеля похорон, Шаляпина, поразило, что люди, провожающие писателя в последний путь, – это уже не столько его читатели и ценители, сколько сборище любопытствующих зевак. «И для этой сволочи он жил, и для нее он работал, учил, упрекал» – так писатель Горький вспоминал слова Шаляпина, оплакивающего Чехова. Именно Шаляпин однажды назвал Чехова великим писателем, открывшим новое чувство – чувство пошлости. Эта культурная толпа на похоронах любимого писателя была для них пострашнее той, что действовала в эйзенштейновской «Стачке». Она, эта толпа, в конце концов стала питательной средой русского хаоса.
Феномен Эйзенштейна содержит еще один немаловажный фактор – усталость от культуры, от ее установлений. Может быть, потому Эйзенштейн с таким рвением взялся за так называемую десятую музу, что он был от самого рождения – старик. Он был умудрен всем, что было накоплено до него. И он выбрал начало, белый лист.
И это был выбор не только Эйзенштейна. Но активная революционность в областях искусства, имеющих древнюю традицию, процесс достаточно сложный. Вряд ли возможно опровергнуть в музыке великие достижения Баха, Бетховена – весь многовековой пласт фундаментального наследия. В кинематограф пришли люди, которым не пришлось преодолевать мощное давление традиции: они просто делали вид, что начинают с нуля. Художественный результат становился следствием индивидуальной одаренности.
А тут еще и бурный динамизм киноизображения. Кадры, кадры, кадры. Каждый кадр сменяется следующим. И ни на чем не делается акцент. Все пролетает. Никакой связи с опытом нравственной рефлексии, опытом, накопленным литературой, с которым сопоставим, например, поздний Бергман. Вероятно. Эйзенштейн даже представить себе не мог, что в кино можно сделать то, что будет сделано много лет спустя в «Персоне», в «Шепотах и криках».
Живописец может создать художественное произведение, абсолютно независимое от течения жизни. На основании только неких художественных приемов. Он может изобразить только духовную суть явления, независимо от жанра картины. К сожалению, режиссер кино накрепко связан с объектами реальности. Если начинаешь разрывать эту связь, видимо, что-то неизбежно рушится.
Какой-то колоссальный изначальный дефект заложен в этой зависимости кинематографа от реальной жизни. Может, в этом виноваты те, первые, в том числе и Эйзенштейн, кто слишком резко ворвался в это новое, неосвоенное пространство. Кино чересчур быстро прошло младенческий период и очень похоже на ребенка, которого в полгода научили читать на разных языках. И он столько всего успел начитать… Половину забыл, половину так и не понял. Эйзенштейн и его современники-коллеги имеют прямое отношение к тому, что кино так и осталось гомункулусом. Ни школы, ни опыта, ни героев, ни сложившейся личности, ни страдания, ни прожитого пути – ничего за ними не стояло. Эйзенштейн, в 27 лет создавший «Броненосец „Потемкин“», с налета открыл дверь в искусство и достиг результата. Где, в каком искусстве можно получить высокий художественный результат сразу, без серьезной профессиональной школы? Какое искусство может развить такое столь значительное высокомерие художественного автора? Попробуйте это сделать в музыке. Шостакович, написавший свою первую симфонию в юности, выстрадал свой новаторский дар, пройдя все этапы освоения традиционных стилей. Вся его жизнь была борьбой за новую форму, через которую он выразил лирическое содержание своей личности.
Искусство Эйзенштейна не успело востребовать лирики. Кино давало ему поле реализации до определенного времени, пока его не стали хватать за руки. Мастерство Эйзенштейна – в точности постановки задачи: не делай того, чего не должен делать. Эпизоды-кадры иногда крохотные! Персонаж на экране остается пять-шесть секунд, но за это время мы всё про него уже понимаем. И абсолютная органика каждой фигуры.
В борьбе за выживание, за то, чтобы работать в профессии, чтобы оставаться в искусстве действующим лицом, художник может пойти на самые разные компромиссы. Когда так часто хватают за руку и не дают делать то, что хочешь, ты вынужден делать то, что возможно. По-моему, «Александр Невский» – это не то, что автор хотел, а то, что было возможно сделать. Я не уверен, что мексиканская картина Эйзенштейна, сделай он ее до конца, стала бы для него новым этапом. Скорее всего, это было проникновение в романтизированный этнографический стиль, в мифологию древнего культа мужественности.
Да, Эйзенштейн вышел на новые для себя рубежи, когда он снимал «Ивана Грозного». Может быть, это в каком-то смысле был его настоящий дебют художественности. Такая абсолютная «дипломная» игровая картина уникального студента. Но здесь все и остановилось.
Несмотря на социальный заказ, переданный через самого «хозяина», Эйзенштейн вышел в «Грозном» на уровень высокой абстракции, достиг той зрелости, когда индивидуальные мотивы уходят на второй план. Думаю, что к этому времени он очень хорошо понимал механизм власти вообще и конкретной кремлевской в частности. Он был склонен к аналитическим обобщениям, жил в среде, где слухи неизбежно заменяли информацию, наконец, у него были контакты в высоких сферах власти.
В том, что «Ивана Грозного» воспринимают как картину аллюзионную: Грозный – Сталин и прочее, много натяжек. В рамки ни сталинистской, ни антисталинской тенденции фильм не укладывается. В «Иване Грозном» Эйзенштейн попытался заглянуть в душу еще не человека, но национального архетипа – в сумеречную душу своего времени, своего народа.
В «Иване Грозном» воплощена трагедия личной власти над обществом, над людьми – над миром – как сущностная проблема творчества. Созидание государства или кинематографа – в обоих случаях амбициозная и изнуряющая задача, оплаченная страхами, ужасом, мукой и одиночеством творца. Творца, которого всегда останавливает смерть. Скорее всего, за «Иваном Грозным» должна была последовать самая главная картина Эйзенштейна, где бы он показал все, на что был способен. Это должна была быть большая человеческая картина. Но Провидение решило, что он уже высказался. И наступила смерть.
Я думаю, что всякий человек, который соприкасается с кинематографом, в конце концов остается у разбитого корыта. Литератор или музыкант происходят из огромных старинных «профессиональных семей», где все существуют одной заботой сохранения если не традиций, то самого продолжения рода – рода деятельности к приумножению духовного богатства.
Кинематограф еще долго не создаст «семью с родословной». Проблема кинематографа даже не только в результатах, которые весьма относительны, проблема в самих авторах. Здесь слишком много побочных детей и попросту самозванцев. Здесь легко устанавливается мафиозная власть кланов, семей, ныне процветающая, например, в России. Замена искусства аудиовизуальным товаром привела к беспримерному гиперболическому развитию массовой культуры, парализующей всю духовную жизнь общества. Сведенная к быстро перевариваемой, неприхотливой пище, она опускает вкус потребителей до скотского уровня. Масскультура поглощает религию, искусство, не позволяет развиться гражданскому обществу. В виде своего клона – телевидения – она проникает всюду и действует на человека как разрушительный, оглушающий транквилизатор. Расширение границ визуального воздействия – опасный инструмент. При определенных условиях он может нанести неизлечимые раны.
Горько сознавать, что такие люди, как Эйзенштейн, с таким даром могли вообще допустить мысль на кого-то влиять, кого-то воспитать. Могли отозваться на примитивно-утопическую затею: создать новых людей. Сегодня это кажется бредом. У первых людей советского кинематографа, очень одаренных или даже гениальных, все было впереди. Они сделали только первые шаги.
Кино отличается все же от других искусств. Здесь звенья освоенных новых технических средств образуют историческую цепочку. Овладение старыми приемами и создание новых – кинематографический закон. Хотя профессионализм вовсе не является гарантией художественного результата. Можно быть хорошим профессионалом и никаким художником – это в последнее время стало даже залогом публичного успеха.
При новаторской направленности картин Эйзенштейна, обусловленной его появлением у истоков ремесла, они содержат мощный художественный ресурс. Это и есть главная ценность наследия Эйзенштейна. Проживи он дольше, его приемы непременно подверглись бы изменению. Изменился бы свет в кадре, он, наверное, перестал бы сотрудничать с прежними операторами. Он, вероятно, стал бы больше работать с общими планами и реже делать ставку на крупные, изображение ушло бы от статуарности, и актеры стали бы более подвижны внутри кадра. Обязательно изменились бы у Эйзенштейна приемы монтажа.
Теория монтажа Эйзенштейна – драгоценный камень в его короне, но это явление скорее эстетическое, чем методологическое. Она имела бы непреходящее значение, если бы кинематограф стал фундаментальным искусством. Но кинематограф все еще находится в стадии становления, и все последующие открытия могут превратить эту теорию в свод элементарных упражнений для начинающих. Не хотелось бы, чтобы это произошло.
Художественные идеи все же должны идти впереди технического поиска, так как именно они определяют возникновение образа.
Время в кино более многослойно, чем в литературном или музыкальном произведении: здесь есть и вертикаль и горизонталь. Здесь все существует одновременно, даже кадр, который промелькнул и исчез.
В графике Эйзенштейна есть и законченность композиции, и незапечатленное мгновение – предвестие перемены. Это настоящее откровение. Конечно, у него были задатки великого художника, не зря Пикассо так ценил его графику и сожалел, что он пожертвовал ею ради кино. Когда смотришь эти рисунки, испытываешь чувство боли. Нет, не потому, что они эту боль содержат: это игра одинокого, но самодостаточного воображения. В этих рисунках есть зародыш чего-то, чему не дано было родиться. Точно смотришь наброски на полях книги, на страницах которой нет никакого текста.
Литературная редакция А. Тучинской
К РЕТРОСПЕКТИВЕ СВЕТЛАНЫ ПРОСКУРИНОЙ В РОТТЕРДАМЕ
…Набираю номер телефона.
Гудки, гудки…
Представляю, как несется электричество с моего номера через семь сотен ночных темных русских верст из Петербурга в Москву.
Гудки, гудки…
И я опять звоню ей…
…В первый раз я увидел ее на киностудии «Ленфильм» в городе, который тогда еще назывался Ленинград.
Кажется, это было после 1984 года.
…Светлые волосы. Быстрая в движении… Яркая… Взгляд человека, привыкшего много читать. Она не перебивала, осторожно переспрашивала, уточняя мысль собеседника, и глаза ее смотрели без суеты бокового зрения.
Мне почему-то тогда показалось, что передо мной человек, который всякого запоминает надолго. Поражала сформулированность речи этой молодой женщины, уникально чистый русский язык, сама особая атмосфера ее русского языка, которую я до нее чувствовал, только разговаривая с теми, кто давно покинул советскую Россию и сохранил в изгнании тот загадочный чистый русский, на котором говорили образованные русские еще в начале XX века…
Я обратил внимание на это, потому что сама по себе советская кинематографическая профессиональная среда редко когда представлялась людьми по-настоящему образованными и утонченными. Да и женщин-режиссеров было всегда меньше, чем мужчин.
…Нас, молодых, на этой большой студии тогда было много, и у каждого были свои тяжелые и тревожные вопросы к жизни. От многих я потом часто слышал о трудностях, с которыми Проскурина постоянно сталкивалась и в жизни, и в профессии…
Несколько лет мы со Светланой не встречались.
Я эгоистично был погружен в свою борьбу с советским государством, эта борьба заслонила все и вся…
…Первый фильм Светланы, который заставил меня обратить новое внимание на нее, – ее «Случайный вальс». Я был поражен несоветской природой замысла этого фильма, несоветской стилистикой, открытостью душевной и физической стати героев. Ее женщины и мужчины были просто женщинами и мужчинами – и никаких социальных посланий.
Это загадка: как Светлане Проскуриной удалось защититься от влияния социалистического реализма, под пятой которого пребывали десятки ее коллег в советском кино?! Ведь она так же, как и они, большую часть жизни прожила при советском социализме, воспитывалась, получила образование… Не думаю, что этой защитой являлся ее «женский взгляд», которым другая могла бы вполне и прикрываться-защищаться.
…Я уверен, что Проскуриной удается создавать фильмы, которые нельзя назвать женским кино. Это не женское кино, это просто кинематограф художественного качества.
Я уже говорил о своем предположении, что литература занимает в жизни Светланы особое место, – так вот, вообще литература в жизни русской женщины, наверное, занимает особое место.
Совершенно поразительно, как удается русским женщинам, принимая идеальные литературные сюжеты, не попадать под их тотальное влияние и продолжать жить рутинной жизнью в окружении, как правило, неталантливых мужчин.
Светлана выбрала кинематограф как кинематограф. Она слишком хорошо чувствует разницу между искусством и визуальным товаром. Она хорошо видит разницу между разнообразными инструментами монстра, которым постепенно становится некогда скромный и тихий кинематограф…
Владение инструментами? Это когда реальные сюжеты она «охудожествляет документальным инструментом», а в реализации ее фантазий – рядом с ней – оказываются внимательные и умные актеры. Не нужны ей марионетки – ее актеры обладают независимыми, строптивыми характерами. И как это хорошо!
…Но тревога не покидает меня… Как ее жизнь сложится дальше, будет ли у нее возможность работать в России, хватит ли сил сопротивляться сжимающемуся кольцу, хватит ли у нее сил на внутреннее обновление, естественную смену одежд, которую предлагает художнику жизнь в соответствии с новым возрастом души и тела?
Она слишком талантлива, слишком честна, чтобы быть счастливой и удачливой в жизни… В России часто так говорят о таких одаренных людях, как она.
Но Светлана, в отличие от многих из нас, – человек верующий в Бога, верующий душой своей, и в этом ее спасение и ее промысел.
…Звонок телефона, второй.
В ее московской квартире тихо.
Покойно.
Когда попадаешь сюда, кажется, что в этой маленькой квартире живет семья со старыми русскими московскими корнями. Старинная, простая, удобная, со вкусом подобранная мебель. Совершенно русский признак – хорошая домашняя библиотека…
Боже!! А как здесь пахнет!!!
Нигде ни в России, ни в мире я никогда не ел вкуснее… Эта женщина все умеет приготовить сама.
…Ну, вот и не знаю, не знаю – встречал ли я где-нибудь, когда-нибудь более русскую женщину, более русскую натуру, чем наша героиня…
…Еще гудок в трубке… Наконец!!!
Она взяла трубку, и я с облегчением, с легким сердцем говорю ей:
– Светочка, милая моя…
2007 г.
МОЕ МЕСТО В КИНО
Трудный для меня вопрос. По сути, это вопрос: а есть ли мое место в искусстве. Являюсь ли я человеком, уверенно расположившимся в какой-то из ниш этого вавилонского строения, которое мы определяем как искусство. Уверен – я просто ученик и мое место на ученической скамье или в аудитории, где меня в любой момент могут чему-то научить. Я хорошо и рано понял, что задача искусства – поддерживать в сохранности некую старую цепь, ремонтировать ее отдельные звенья и повторять все время одно и то же, одно и то же. Искусство статично и уже свершилось, а человек – всего лишь непрерывно идущий по некой дороге маленький персонаж, который не обречен быть человеком, а вполне может быть и хищным животным.
Видимо, я существую только как человек, книга судьбы которого частично написана Провидением, но и частично исправлена, переписана мною самим. Ибо я верю, что до определенного возраста человек живет как растение и от него, по сути, ничего не зависит, но позже, в юношеском возрасте, судьба, присмотревшись к человеку, ослабляет контроль, наблюдая за тем, как человек распоряжается свободой.
После 25 лет начинается сопротивление человека своей судьбе – она пытается забрать обратно данную ранее свободу и заставить человека жить сообразно физиологическим и социальным законам.
Полагаю, что особенно ожесточенно эта борьба идет в жизни мужчин. Ибо жизнь женщины предопределена и абсолютно защищена природой. Жизнь каждого мужчины – спазматическая битва за свое маленькое место в жизни.
Конечно, есть мужчины, которые умеют находить компромисс и успевают все. Но это избранные, и таких очень мало.
До последнего вздоха человека судьба пытается сломить волю человека.
Искусство – космос. Но я полагаю, что все же кинематограф очень осторожно может быть соотнесен с искусством. Возможно, что на сегодня кино – это одно из уникальных ремесел, но не искусств.
Возможно, что кино – самое уникальное ремесло из всех известных доныне. Не случайно же кино стало использоваться миллионами людей. Миллионы людей получили простой доступ к «творческому» труду через обретение дешевого, простого в обращении персонального инструмента.
Никакое ремесло и никогда не имело такой силы экспансии, как это. Не случайно кино возникло в XX веке, когда у миллионов людей появилась социальная и физическая ненаказуемая возможность полениться, просто проспать свое жизненное время.
Причиной сомнений в достоинствах кино как искусства является вторичность природы, компилятивность метода, с помощью которого создается визуальное временное произведение, называемое сегодня слишком обобщающим словом кинематограф… Это заставляет меня быть очень осторожным, когда вокруг поют гимны кинематографу.
Возможно предположить, что сегодня у кино нет даже окончательно сформировавшегося языка. Нет своего алфавита. Может быть, названы только отдельные буквы, но явно не все. Природа вторичности в том, что у кино нет того, что было бы рождено им самим или сформировалось бы им же в процессе развития. Кинематограф – мелкий воришка, торопливый и хитрый. У театра он стащил драматургию, у оркестра – симфонизм, у живописи – цветовой интерес, у фотографии – композицию, у литературы – сюжет, у человеческого общества – интерес к интимной жизни. Не исключаю, что кто-то скажет: да нет же! Кино – это просто очень хороший ученик! В ответ на это я отвечу: тогда согласитесь, что ученику еще рано быть наставником жизни человечества. Ученик по определению должен вести себя осторожно и деликатно.
Конечно, все сложнее. И этот кукушонок, оказавшийся в гнезде какой-то трудолюбивой и нравственной птицы, желает быть главным и получать все, и безо всяких обязательств перед кормилицей. А это уже знак времени.
Примечательно: то, что мы называем кинематографом, все время находится в движении – сама природа кино все время меняется. Так же как и человек – вслед за переменами в обществе.
Попробую дать некое определение кинематографу.
Кино – это визуальная культура, принципиально компилятивная, вторичная и существующая только в границах определенного автором отрезка времени. В основе кино – часовой механизм, который человек должен запускать каждый раз, когда он считает для себя возможным обменять время течения своей жизни или включить во время течения своей жизни восприятие изображения. Впрочем, и музыка, и литература, и живопись так же зависимы от течения времени. В живописи время «останавливается» и из категории физической становится явлением эстетическим или этическим. В музыке время, превращенное в темпы, ритмы, паузы, в осколки, становится предметом, с которым можно играть. Человеку иногда даже начинает казаться, что в музыке он победил время, переиграл его, управляет им…
Следовательно, мы видим, что как художественное произведение кинематограф не существует сам по себе без волевого усилия.
Необходимо огромное усилие, чтобы создать фильм, но необходимо большое усилие и чтобы посмотреть фильм. Конечно, я имею в виду кино именно как художественное произведение и просмотр кино – как труд восприятия зрителем всего многозначного кода, который неизбежно присутствует во всяком художественном произведении.
Композиция – это некий код.
Образ – сложнейший код.
Характер персонажа – код.
Драматургия кодирована и имеет подтекст.
На разгадки всего этого «шпионского» текста у зрителя есть только то время, в течение которого длится просмотр фильма.
Время – это капкан, в который попадает и автор, и зритель.
Сегодня из этого капкана никому выбраться не удается.
Конечно, автор может остановить течение времени, но это только для самого себя – время останавливается для человека, лишь когда он покидает этот мир.
Время – символ границ, символ несвободы искусства, это некий надсмотрщик, который подгоняет человека и, если тот падает, забивает его насмерть.
Если вы спросите у меня, что есть Бог, я отвечу вам: Время есть Бог. Именно в факторе Времени Бог, Создатель явился нам и дал о Себе знать, открылся нам.
Создавая кинематографическое произведение, мы вторгаемся в дела Господни – мы создаем Другой мир.
Это привилегия не человека – и не будем забывать об этом.
Как бы чувствуя свою вину, большая часть режиссеров пытается создать на экране некое отражение реального мира, «показать, как в жизни бывает».
Они погружаются в подробности описания окружающего человека социального мира, подробности социальных отношений – то есть говорят о том, что и без них каждому зрителю хорошо известно.
Да, приятно зрителю на экране увидеть все то, что он и в жизни видел. И тем самым оказаться на одной ступени жизни с автором произведения. Сговор между зрителем и автором порождает опаснейшее явление, которое называется массовой культурой.
Надо признать: искусство и воля человека – неразделимы. Для создания произведения нужна огромная воля, и само произведение, которое становится искусством, неизбежно есть источник добра и сочувствия… Как совместить силу и нежность, шепот и крик… Как быть нежным, являясь сильным…
И еще проблема: как быть умным и как при этом не дать своему мозгу задавить интуицию, предчувствие, некий хаос внутри… Большая часть художественных открытий все же совершается, когда автор не знает, как он это сделал… Спросите композитора, поэта, как он написал удивляющую весь мир строчку, – он скажет: так почувствовал, ко мне пришло… не знаю как… приснилось… пришла ассоциация… рука сама вела кисть, перо.
Я не фанат кино.
Воспитан литературой XIX века – русской и европейской.
Хочу всю оставшуюся часть жизни сохранять способность к чтению и святую веру в Писателя.
Что же касается кино – я просто там работаю.
Декабрь 2007 г.








