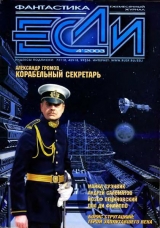
Текст книги "Журнал «Если», 2003 № 04"
Автор книги: Александр Громов
Соавторы: Дэвид Моррелл,Майкл Суэнвик,Дмитрий Володихин,Андрей Синицын,Дмитрий Байкалов,Андрей Саломатов,Томас Л. Шерред,Пол Ди Филиппо,Сергей Кудрявцев,Тимофей Озеров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Критика
Дмитрий Володихин
Желаете бобов?
Подобным вопросом милейшая красавица из одного классического британского фильма доводила главного героя до белого каления. «Нет, ну ты все-таки хочешь бобов?» У них там эта фраза звучала рутинно. У нас здесь, скорее всего, ответили бы: «Ты чо! Какие бобы?» – разумеется, если бы дело происходило на страницах какого-нибудь отечественного НФ-романа. Потому что герои отечественных НФ-романов бобов не едят. Они вообще потребляют крайне скудный ассортимент продуктов, да и о тех-то вспоминают исключительно редко. А до бобов ведь еще додуматься надо.
Нет, дело не только в том, что в 90-х резко упал уровень ремесленного мастерства, и сейчас мало кто всерьез разрабатывает антураж: пищу, одежду, жилище, внешность персонажей. Хотя и это, конечно, заметно. Основной фактор явно какой-то другой. И нельзя сказать, что литературе «пусков и поисков» чужды бытовые зарисовки, она все о высоком да о высоком. Ведь как хорошо помнится старое доброе «Молекулярное кафе» Ильи Варшавского! Или, скажем, совместный обед секретного агента Жилина и академической знаменитости Опира в повести «Хищные вещи века» братьев Стругацких… Да и космодесантник Леонид Горбовский, как известно, вкушал не просто снедь, а гречневую кашу… И ничуть эта самая гречневая каша не мешала – ни поискам, ни пускам, ни высокому.
А сейчас персонажи едят просто еду. Поглощают паек. Потребляют рацион. Или вообще на время романа забывают о существовании всего съедобного. В подавляющем большинстве случаев что значит для героев современного российского НФ-романа поесть?
Перехватить наскоро, пометать на стол случайное содержимое холодильника, по-быстрому сбегать за харчишками в продуктовый и так же по-быстрому затолкать их в себя. Вот, например, начало романа Дмитрия Янковского «Нелинейная зависимость». В первый раз главный герой питается тортом, потому что торт ему принесли знакомые. Во второй раз – кофе с печеньем, за которым ему как раз пришлось сбегать в магазин. В наибольшей степени представителен третий раз. Товарищ главного героя принес с собой две бутылки красного. К вину предлагается сыр, на что товарищ отвечает: «Тогда без вина сообрази что-нибудь погорячее». И слышит ответ: «Вот ты зараза… Сейчас вместо работы проторчим на кухне два часа». На что резонно парирует: «Не проторчим. Сунь кусок чего-нибудьв микроволновку и успокойся (курсив мой. – Д. В.). У меня с утра во рту ни крошки не было. Совесть имей». Апофеоз: «Андрей молча достал из-под стола пакет с картошкой, высыпал в блюдо несколько штук и поставил в печь».
А на самом деле лучше ничего не есть и никогда не спать. Вот пьют много – это да. Порой даже кажется, что в организмах центральных персонажей произошла массовая трансформация физиологии: питаться им больше не надо вообще, еду полностью и окончательно заменила выпивка. Сравнительные достоинства выпивки обсуждаются в подробностях, эрудиты блещут винными и коньячными марками, люди попроще поминают благородные и запаршивевшие породы водки. Ну и пиво, конечно. И виски. И бренди. И алкогольные коктейли инопланетного происхождения… «Процесс принятия» кочует из романа в роман, преподносится то под ироническим соусом, то как социальная зарисовка, а то и в черных тонах: «Злой яд! И что вы в ней нашли?!» Классическую, развернутую до мельчайших подробностей пьянку выдал Александр Громов в романе «Крылья черепахи». Действия обитателей дома отдыха средней руки обретают какой-то всенародный размах и эпическую глубину. Пьянка мила сердцу российского фантаста, и он, соответственно, рад поделиться с читателями добрыми зарисовками среды обитания. В целом это следует оценивать положительно: ведь не колются же! Кроме, конечно, отдельных недоумков.
Пища в большинстве случаев выступает в роли закуски. И тут живой опыт подпитывает писательское воображение. Закусывают яблоками, копчеными курами, ветчиной, огурчиками разных сортов, ломтиками селедки, пирогами, колбасами, заливным языком, бутербродами с икрой, котлетами, маслинами, шоколадом, экзотическими стимуляторами, комбикормом да и просто ничем (меню из романов Михаила Тырина, Евгения Прошкина, Олега Дивова). Вот характерный пассаж: «Закуска была добротная, но умеренная… обычный набор: картошка, селедка, дачные соленья и пара условно хрустальных салатниц. Рядом, на журнальном столике, по-домашнему стояла щербатая пятилитровая кастрюля с «оливье». Женщины что-то еще говорили про мясо в духовке. Запивать мама, как всегда, сварила компот». И при такой уймище харчей они все-таки воспринимаются как закуска, т. е. утрачивают самостоятельную ценность («Слой Ноль», Евгений Прошкин). В «чистом» виде еда может даже вызывать отвращение. У того же Прошкина, например, в романе «Зима 0001» центральный персонаж долгое время вынужден поглощать одну только рыбу; по замыслу автора, сам он осознать это неприятное ограничение не способен, зато подсознание постепенно вырабатывает в нем стойкий рвотный рефлекс. Пиком «табуирования» пищи-не-закуски является его же описание несвежей колбасы в романе «Слой Ноль». Прочитаешь и проклянешь саму необходимость питаться!
Приятное исключение представляют собой романы Сергея Лукьяненко «Спектр» и Алексея Бессонова «Черный хрусталь».
Главный герой первого из них, частный детектив Мартин Дугин – истинный гурман. Он не готовит пищу, а священнодействует. Он не ест, а завершает ритуал. Он не говорит о еде, а делится откровениями. Вот, например, одно из них: «…к каждой пище есть свой, географией и историей дарованный аккомпанемент. К вареной картошечке и малосольной селедочке не придумано ничего лучше простой русской водки, к пряной бастурме годится густой армянский коньяк… к нежным устрицам – белое французское вино, прохладное и легкое, к жирным и вредным для организма сосискам – чешское или баварское пиво». Жизнелюбие Мартина Дугина выигрышно выделяется на фоне окрыленных и слегка бесплотных искателей, героев киберпанка (этим «хард» и «софт» легко заменяют первое и второе), а также рейнджеров всех мастей, которые, судя по общей суровости вида, грызут на завтрак, обед и ужин автоматные гильзы, запивая их ружейной смазкой. Лукьяненко, видимо, специально сфокусировал внимание читателей на гурманстве Дугина. Вероятно, автор «Спектра» счел необходимым показать драгоценные домашние мелочи, уют «малой жизни», столь важный в реальности и столь чуждый современной НФ.
Упомянутый выше роман Алексея Бессонова – настоящее шоу для одинокого мужчины средних лет. Основные аттракционы: классные женщины, крутой прикид, суперхитовое оружие и эксклюзивная снедь. Эта самая снедь, в смысле еда, под стать прикиду, в смысле одежде. Кружевным манжетам, высоким сапогам и широкополым шляпам, естественно, должно соответствовать что-нибудь столь же романтическое. Водка точно не подходит, только благородное вино! На худой конец – ром, любимый напиток пиратов. Или, скажем, мясо, приготовленное на решетке. «Можно позавтракать, – сказал он мне, вынимая из сумки холодного гуся и вино…» Или какие-нибудь изысканные сласти, например, совершенно особенные вафли. А может быть, пирожные. Потому что Черные Мстители Испанских Морей – а герои у Бессонова примерно таковы – никогда не станут хлестать сивуху и заедать ее вареной колбасой. Они просто стилистически не способны на это…
Ну и, конечно, не будут они, уподобляясь женщинам, ставить на стол какие-нибудь кретинские овощи и дурацкие фрукты. Такого – и в мыслях нет.
И все-таки, как уже говорилось, Сергей Лукьяненко и Алексей Бессонов – исключения из общей традиции нашей современной НФ. А вот в фэнтези положение дел совершенно иное. Там авторы в большинстве своем обращают внимание и на пищу, и на одежду, и на внешность героев, и на прочие мелочи; там антураж чаще всего по-настоящему работает – либо на идею, либо на сюжет, либо на эстетику текста. Достаточно вспомнить гомерические трапезы тайного сыщика сэра Макса в многочисленных тавернах славного города Ехо. Там ведь каждый потребляемый продукт подробно комментируется, да еще прилагаются пространные комментарии по поводу достоинств и недостатков той или иной кухни, запрещенной или разрешенной на данный текущий момент поварской магии…
В чем тут дело? Может быть, играет роль пресловутая «психология пола»? Все-таки известные авторы российской НФ в большинстве своем – мужчины, а вот в фэнтези, напротив, очевидна успешная экспансия женщин. Так, может быть, в первом случае проявляется мужской взгляд на жизнь – более бесшабашный, более внимательный к обобщениям, более тяготеющий к действию и бегущий подробных описаний; а во втором случае чувствуется женский глаз, неторопливо изучающий, внимательный к нюансам, скрупулезно дешифрующий мелочи повседневной жизни и сторонящийся действия?..
А может быть, дело в другом: издатель требует от автора НФ действия, действия, действия. Быстрее. Еще быстрее. И еще быстрее. А на фэнтези махнули рукой: со времен Толкина там у одного на сотню получается – чтобы быстро и качественно в одном флаконе. Сами «условия игры» препятствуют этому. Может быть. Пока, во всяком случае, стопка «белой реки» и картонная тарелочка с нехитрой закусью могут считаться одним из главнейших символов отечественной НФ.
Рецензии
Бен БоваВенера
Москва: ACT, 2003. – 376 с. Пер. с англ. С. Фроленок. (Серия «Координаты чудес»). 5000 экз.
Мода, вызревшая в конце XX века в западной НФ, набирает силу: сюжеты и образы, казалось бы, исчерпанные еще во времена «Золотого века», неожиданно вновь появляются на страницах научно-фантастических произведений. Первыми это сделали авторы «космооперы», возродившие в 80—90-е годы угасавшее направление НФ – причем возродившие на несравненно более высоком литературном уровне. Сейчас оживился интерес и к традиционной теме исследования космоса.
Завязка романа типична для классики НФ. Середина XXI века. Потрясенный смертью своего старшего сына, погибшего во время экспедиции на Венеру, богач-промышленник Мартин Хамфрис предлагает награду в десять миллиардов долларов тому, кто привезет на Землю тело погибшего. Вызываются двое: младший сын миллиардера Ван Хамфрис и старатель из пояса астероидов капитан Ларе Фукс (по своему характеру и манерам – копия незабвенного Вульфа Ларсена из «Морского волка» Джека Лондона). Корабль Вана стартует с Земли, планетолет его конкурента отправляется из окрестностей Юпитера. Они почти одновременно достигают планеты и, пытаясь опередить друг друга, начинают медленное погружение в бурлящую атмосферу Венеры… Даже общая «космография» расселения человечества по Солнечной системе в романе Бовы напоминает схемы, использовавшиеся в 40—50-е годы: обжиты Луна и Марс, ведутся разработки в поясе астероидов. На повестке дня – исследование Венеры, Меркурия и внешних планет. Автор модернизировал лишь политический антураж будущего и использовал новейшие научные данные о Венере. При этом текст композиционно выверен, интрига закручена мастерски. Жаль только, что ближе к концу романа Бова не удержался от некоторых откровенно мелодраматических ходов. Читать роман интересно, хотя подобное произведение могло быть написано и в начале 50-х годов – только вместо удручающей жары и ураганных ветров Венеры главными врагами героев оказались бы гигантские ящеры да бескрайние венерианские болота.
Глеб Елисеев
Евгений ПрошкинСлой ноль
Москва: ЭКСМО, 2003. – 480 с.
(Серия «Абсолютное оружие»). 10 000 экз.
Новая книга Евгения Прошкина сюжетно и тематически связана с его же романом «Слой». Те же реальности, или «слои», бесконечные двойники, интеллектуальные сущности, переносящиеся из тела одного двойника в тело другого. Только новый роман дает более широкую панораму всей этой системы; предыдущий по отношению к нему является своего рода сюжетной вклейкой. Гораздо важнее изменения иного рода. «Фирменный» центральный персонаж Прошкина (у московского писателя повествование ведется из точки, где главный герой в значительной степени сливается с автором, третье лицо становится почти что первым) представляет собой маленького человека, мечущегося и страдающего от всеобщего неуюта жизни. Никак не отыскать ему ни высоких смыслов, ни надежного материального комфорта, ни истины, за которую можно ухватиться, ни даже простого милосердия окружающих. Он твердо знает: нельзя убивать, насиловать – и не хочет, чтобы его самого мучили, унижали, лишали свободы. Все остальное в нем переменчиво. То есть, что нужно,он не знает. Так вот, Виктор Мухин, центральный персонаж романа «Слой Ноль», – концентрированная, «заматеревшая» версия прошкинского маленького человека. И эта «модель» способна оказаться родной, душевно созвучной для очень большого числа современных мужчин, в действительности живущих именно так. Здесь же намечена потенциальная траектория развития маленького человека: выход в том, чтобы становиться человеком «большим», сменить упрямство на твердость, сочувствие на деятельное добро, то есть выход прежде всего – в преодолении страха. А в прежних романах (за исключением, пожалуй, «Загона») этот «асоциал» так и барахтался от пролога до эпилога, ничуть не претерпевая душевной эволюции.
Кроме того, хотелось бы отметить возросшее «ремесленное» мастерство Евгений Прошкина, что особенно видно в описаниях материальной обстановки, эскизной чуткости, пристрастии к детализации портретов – и когда это касается внешности персонажей, и когда речь идет об их психологии.
Дмитрий Михайлович
Сергей Лифанов, Ирина КублицкаяПриют изгоев
Москва: ACT, 2003. – 477 с. (Серия «Заклятые миры»). 7000 экз.
Нижегородские фантасты придумали новый фэнтезийный мир, который, должно быть, очень дорог авторскому сердцу, раз уж его описанию посвящена целая книга. На полутысяче страниц они подробно и со вкусом расписывают реальность-2 – некую империю со множеством провинций, где есть место клинкам и магии, где простой народ вкалывает, а наиболее влиятельные из аристократов ведут пышную придворную жизнь со сложным церемониалом и плетут интриги в борьбе за власть. В этом мире есть государство Талас, существующее на стенке многокилометрового Обрыва и узкой полоске Отмелей у края Великого Океана. В Таласе не одобряют убийства, здесь нет праздных людей, а царит справедливость и небывалый расцвет наук и ремесел. Утопия, словом. В Великом Океане есть острова и архипелаги – для любителей путешествий и приключений. Ну и, конечно, никак нельзя обойтись без Жуткой Пустыни, в которой обитает могущественный и злобный колдун. А кроме того, в романе наличествуют подробные очерки нравов и обычаев, изложенные в доступной форме принципы устройства местных технических новинок, описания таласской флоры и фауны. Однако, увлекшись конструированием мира, авторы напрочь забыли о сюжете, равно как и об основном конфликте, который должен объединять действия и отношения персонажей. Такого конфликта в «Приюте изгоев» нет, есть лишь отдельные, почти не связанные между собой сюжетные линии. Причем свое пренебрежительное отношение к сюжету авторы даже не скрывают – иначе разве вложили бы они в уста одного из своих персонажей, демиурга этого мира, следующие слова: «Чего тут не знать-то? Сюжет-то стандартный, ситуации отработаны сотни и сотни раз. Все известно заранее. Шестьдесят три стандартных положения, считая вариации».
Еще одна серьезная претензия относится к редактору книги, точнее, его полному отсутствию: сплошь и рядом пропущенные слова, грубые стилистические ошибки… Роман и так-то читается нелегко, а в этой ситуации вообще превращается в дорогу, полную колдобин.
Ксения Строева
Дэвид БринРиф яркости
Москва: ACT, 2003. – 633 с.
Пер. с англ. Д. Арсеньева. (Серия «Золотая библиотека фантастики»). 10 000 экз.
Завершив в 1987 году роман «Война за Возвышение», Дэвид Брин долго не возвращался к созданной им Вселенной Пяти галактик. Эта воображаемая Вселенная была жестоким местом, где могущественные инопланетные расы (галакты) соревновались в поиске животных, обладающих потенциалом для возникновения разума. Найденных особей постепенно развивали, проводя через длительный процесс Возвышения (приобретения интеллекта), а затем превращали в идеальных слуг. Однако в первой бриновской трилогии («Прыжок в Солнце», «Звездный прилив», «Война за Возвышение») важнейшие линии оказались не развитыми, главная история – повествование о бегстве земного звездолета «Стремительный» через всю галактику – не законченной.
Поэтому в середине 90-х фантаст опять вернулся к героям трилогии. Российские читатели, правда, узнали об этом весьма странным путем. В 2001 году в сборнике «Далекие горизонты» был опубликован рассказ «Искушение», из которого следовало, что действие трилогии-продолжения (вышедшей в свет на языке оригинала в 1996–1998 годах) связано с планетой Джиджо и с наследием загадочной цивилизации буйуров, некогда владевшей этим миром. Также было понятно, что судьба Джиджо тесно сопряжена с историей полета «Стремительного». Однако в «Рифе яркости», первом романе второй трилогии, такой четкости поначалу нет. Повествование автор начинает издалека, с демонстрации цивилизации Шести рас – потомков изгнанников, незаконно поселившихся на планете буйуров. Там крабоподобные квуэны, колесники-г'кеки, люди и другие разумные расы научились жить в мире, с трепетом ожидая, что их обнаружат галакты и накажут за преступления предков. Однако, когда небо над Джиджо наконец-то раскалывается от грохота двигателей космолетов, выясняется, что реальность намного сложнее, чем думали мудрецы Шести рас… Брин долго «запрягает», но быстро «едет» – постепенно разворачивающаяся экспозиция взрывается фейерверком событий ближе к финалу книги.
Глеб Елисеев
Джон Закур, Лоуренс ГэнемПлутониевая блондинка
Москва: ACT, 2003.– 316 с. Пер. с англ. А.Юрчук. (Серия «Координаты чудес»). 5000 экз.
У «Корпорации МИФ», созданной воображением Р.Асприна, появились научно-фантастические конкуренты. «Плутониевая блондинка» заявлена как начало трилогии, от которой до сериала всего один шаг. Детектив Закари Джонсон – личность оригинальная во всех отношениях. Он не просто последний частный сыщик планеты, но еще и пародия на всех своих литературных предшественников. Его мир – «светлое будущее» по-американски, где правит Всемирный Совет, а бандиты и мафия служат лишь для того, чтобы обеспечить рабочие места полицейским. Лучший друг и напарник героя – компьютер, запрятанный в контактную линзу. За последние годы ни одного дела о каком-нибудь простом хищении Джонсону не доставалось, зато маньяки-ученые шли косяком. Пресловутая «плутониевая блондинка» – сбежавший андроид, желающий изничтожить весь род людской, предварительно перебив все компьютеры. Это бы ей удалось, но создатели (гигантская корпорация «Экс-Шелл») решились нанять человека со стороны, и в дело вступил Закари Джонсон.
Как и положено «маленькому детективному агентству», контора последнего частного сыщика состоит из Джонсона, его компьютера, секретарши-экстрасенса, полубезумного инженера и двух «внештатных игроков» – полицейского Рэнди и доктора Гевады. Вся эта братия отправляется на поиски обезумевшего андроида, а тот принимается чинить против них всевозможные козни, заручившись поддержкой различных злодеев и целой толпы уродливого вида громил. Впрочем, несмотря на все прелести жанра во главе с обязательным хэппи-эндом и явным намеком на продолжение, «Блондинка» не держит марки. Постоянные сноски на прошлое заставляют заподозрить, что это далеко не первая книга сериала. Плюс к тому весьма картонные шутки, а местами заведомая лубочность сюжета, объяснить которую просто: авторы не видят разницы между пародией и сатирическим детективом. Получается что-то среднее, смешанное, но не взболтанное.
Алексей Соколов
Святослав ЛогиновСвет в окошке
Москва: ЭКСМО, 2002. – 320 с. 15 000 экз.
Роман С.Логинова представляет еще один вариант ответа на вечную загадку: что ждет нас за гранью смерти – иная жизнь или ничто? Оригинальным образом фантаст сумел совместить оба варианта: умерший человек оказывается на пустынной равнине среди бесцветной желеобразной субстанции, которую называют «нихиль», то есть «ничто». Новопреставленный гол и бос, и единственным имеющимся у него предметом оказывается кошелек с монетами. Монеты, конечно, не простые – на самом деле это людские воспоминания. Вспомнил кто-нибудь в мире живых покойника – и у него на том свете в кошеле монета прибавляется. С помощью этих монеток можно создать из нихиля все, что угодно – одежду, еду, оружие. Вообще любой когда бы то ни было виденный при жизни предмет. Можно вернуть себе молодость, изменить свою внешность, приобрести навыки и способности, невозможные в прошедшей жизни: например, владение абсолютно всеми языками, древними и новыми. В общем, пока у тебя есть деньги – то есть пока тебя помнят, – ты живешь. А когда они заканчиваются, то рассыпаешься серой пылью, уходишь в нихиль. И все…
Как известно, человек ко всему привыкает. Вот и после смерти люди приспосабливаются жить так же, как и при жизни. Выстроили город, создали индустрию развлечений, даже единую компьютерную сеть организовали, а в сети – виртуальный Дополнительный Город Доп-Таун, по образу и подобию выдуманного в мире живых (и в романе С.Лукьяненко «Фальшивые зеркала») Диптауна. Но «Свет в окошке» – не просто описание некоего мироустройства с особыми физическими и этическими законами. Это, в первую очередь, роман о человеческих взаимоотношениях. О том, как важны, необходимы нам любовь и память. И о том, как легко они теряются со временем… Название романа двузначно: во-первых, «свет в окошке» – так говорят о человеке, который кем-то любим, без которого просто не могут жить. А во-вторых, за этим образом закрепилось значение места, где тебе будет хорошо, где ты нужен…
Ксения Строева







