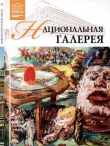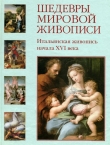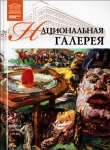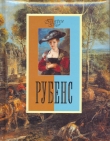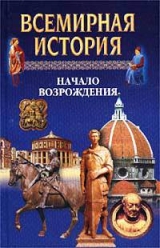
Текст книги "Всемирная история в 24 томах. Т.9. Начало Возрождения"
Автор книги: Александр Бадак
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 41 страниц)
КУЛЬТУРА ШОТЛАНДИИ XIV – XV ВЕКОВ
В ходе многовековой – с XII по XVII века – борьбы за независимость своей страны сложилась шотландская народность с яркой самобытной культурой. Хотя с присоединением Шотландии к Англии различия в их культурном развитии стали стираться, шотландское искусство, особенно народное, сохранило целый ряд специфических особенностей.
В архитектуре Шотландии, в народном жилище, замковом и культовом строительстве, примечательно сочетание суровой простоты, компактности масс с живописной композицией архитектурных комплексов.
В изобразительном искусстве заметно тяготение к простой, несколько прямолинейной композиции, активной эмоциональной выразительности, к цельным, энергично выявленным человеческим характерам. Смелость декоративного ритма, жизнерадостные контрастные сочетания цветов отличают декоративное искусство Шотландии.
В XI веке возникло единое шотландское королевство, тесно связанное с Англией. Равнинная часть Шотландии находилась под сильным влиянием норманнской строительной культуры, но уже с XIII века в Шотландии распространилась готика. Церковь аббатства Холируд в Эдинбурге, построенная при участии французских и фламандских мастеров, имела готический свод. Однако в Шотландии предпочитали деревянные перекрытия над центральным нефом, как, например, в величественном соборе в Глазго.
Пышным геральдическим орнаментом украшен дубовый потолок гранитного собора в Абердине, имеющего две башни на западном фасаде и продиктованные материалом упрощенные формы. Крупнейшим из готических культовых зданий Шотландии был собор в Сент-Андрусе с высоким хором и центральной башней.
С конца XIII века начались войны за независимость с английскими захватчиками, пытавшимися подчинить Шотландию. Пробуждение национального самосознания способствовало выработке своеобразных форм шотландской церковной архитектуры. Наряду с нервюрными, несколько грубоватыми и низкими сводами распространились непопулярные в Англии цилиндрические своды, часто усиленные под-пружными арками.
Характерны невысокие башни, широкие опоры, восьмигранные и круглые, с базами в форме колоколов, раскрашенный и позолоченный геральдический орнамент. Небольшие однонефные приходские церкви строились из тесаного камня и сплошь покрывались цилиндрическим сводом. Хор часто отсутствовал, а неф делился на два помещения. В XVI веке после реформации эти перегородки были убраны, чтобы облегчить проповедь, а в больших церквах – в Линлитгоу, Стерлинге, в Эдинбургском соборе, где одному священнику было трудно проповедовать, неф разделяли поперек глухими стенами на отсеки.
В XIV веке возродилась крепостная архитектура. Шотландия – классическая страна замков. Значение их было обусловлено постоянными вторжениями английских феодалов и распрями воинствующих кланов.
Сложился тип шотландского замка – вздымающаяся прямо от земли глухая, обычно четырехгранная башня-донжон, имевшая наверху зубцы, машикули, башенки-турели. В толще стен устраивалась винтовая лестница. Гористый характер страны усиливал неприступность замка.
В замке Танталлон начала XIV века донжон вынесен вперед, играя активную роль в обороне замка. По мере прекращения войн замки перестраивались и оборонные соображения приносились в жертву комфорту.
Исчезали зубчатые парапеты, двускатные кровли сменяли плоское покрытие, машикули превращались в декоративный карниз. Но башни, считавшиеся символом величия рода, сохранялись.
С конца XV века при замках сооружали двухэтажные холлы-дворцы. В Линлитгоу свободно стоявшие башни были на рубеже XV – XVI веков объединены встроенным между ними холлом.
Со временем холл оказывался центром ансамбля и замок становился «дворцом с башней». Ряды круглых или прямоугольных в плане башенок возникают ряд верхними этажами и создают типичный для «баронского стиля» силуэт замков Келберн, Фрейзер, Стюарт, Килкой и других замков.
Благодаря французским связям знати в архитектуру шотландских замков в конце XV века проникали черты ренессанса. Возможно, первой ренессансной постройкой на Британских островах была капелла замка Стерлинг, возведенная по рисункам побывавшего в Италии авантюриста Кокрена. В замке Кричтон одна из стен двора облицована квадрами с алмазной гранью. Красивая ренессансная постройка возникла в начале XVI века в ансамбле замка Дерлтон.
Шотландия усеяна и меньшими башнями – остатками укрепленных жилищ горцев и овцеводов. Сложенная на известковом растворе каменная башня была лучшим укрытием в беспокойное время. Необходимость защиты от нападений и суровый климат определили облик шотландского дома.
Это было здание с толстыми каменными стенами, узкими дверями, небольшими окнами, высокими дымовыми трубами. Камень грубо штукатурили и белили, наличники окон красили в яркие цвета. В средних областях Шотландии преобладают хуторские поселения, на Севере – деревни с уличной планировкой.
С окончательной утратой независимости строительство замков в Шотландии прекратилось, а с утверждением кальвинизма перестали строить и церкви старого типа. Лучшие архитекторы-шотландцы Ванбру, Гиббс, Чеймберс, братья Адам почти перестали строить на родине, предпочитая богатую Англию и ее растущие промышленные центры.
Средоточием строительной деятельности стали города. В горной Шотландии почти все города недавнего происхождения.
Но в долинах еще в раннем средневековье поселения городского типа возникали вокруг аббатств, королевских замков, университетов: Эдинбург, Линлитгоу, Глазго, Сент-Андрус, Аберин и другие города.
«Высокая», то есть главная, улица служила центром, где располагалась ратуша – «толбут», и другие важнейшие городские сооружения.
В рядовой застройке преобладал рваный камень, грубо оштукатуренный и побеленный. Двускатные кровли крылись соломой и сланцем.
Войны за независимость, требовавшие напряжения всех сил нации, вызвали наступление периода длительного застоя в шотландском искусстве, обнищание страны, замедленное развитие городов и ремесел. Поэтому сохранилось немногое: известны единичные иллюминованные рукописи, отдельные образцы массивной мебели конца XV века, резные деревянные панели в интерьерах «баронских замков», каменные резные фонтаны и солнечные часы, ковры с орнаментом и придворными сценами, роспись, резьба и лепка на потолках и стенах замков.
Серебряные потиры, посуда из серебра и олова показывают мастерство шотландских ювелиров, внимание их к форме изделий и сдержанную простоту декора.
Шотландская литература развивалась в южных и восточных областях преимущественно на шотландском языке, сделавшемся в XV – XVI веках литературным языком страны, затем также на литературном английском языке. В северных и западных горных областях употреблялся главным образом гэльский язык.
Наиболее ранние литературные памятники шотландского народа относятся к XIII веку. К этому времени приурочивают творчество легендарных поэтов Томаса Рифмача и Хухона, автора написанного на библейские темы «Послания о бедной Сусанне». В этот же период было создано несколько рыцарских романов о короле Артуре.
В борьбе против Англии за национальную и политическую независимость в конце XIII и начале XIV веков возникла и развилась литература Шотландии. После освобождения от английского владычества шотландский язык становится государственным и литературным языком вплоть до Реформации.
Герою национальной борьбы за освобождение посвящена поэма «Брюс» 1375 года Джона Барбора. Период жизни и творчества этого поэта, считающегося «отцом шотландской поэзии», приходится на 1320—1395 годы.
Продолжателем Джона Барбора был поэт середины XV века Гарри Слепой, являющийся автором патриотической поэмы «Уоллес». В переработке, которая была сделана в XVIII веке, эта поэма стала в Шотландии одной из самых популярных народных книг.
Восстание шотландского народа против английских захватчиков, вспыхнувшее в ответ на попытку английского короля Эдуарда I присоединить к Англии Шотландию, завершилась полным изгнанием англичан из страны. Это героическое сопротивление английской агрессии вызвало интерес к истории страны, результатом которого было написание в 1420 году древнейшей хроники на шотландском языке «Хроника Шотландии» монаха Андру из Уинтауна.
В XV веке народно-героические образы Барбора и Гарри Слепого уступают место ученой, аристократической поэзии.
Центром культуры и искусства того времени являлся эдинбургский двор. Основоположником нового «изящного» стиля в поэзии был король Яков I, находившийся у власти с 1394 по 1437-годы. Он является автором аллегорической любовной поэмы «Книга короля».
Значительное влияние на шотландскую литературу конца XV века оказывает литература Англии. К традиции английского писателя Чосера примыкал поэт Роберт Генрисон, обогативший шотландскую литературу жанрами пасторали – «Робин и Макайн» – и литературной басни.
Традициями английской литературы проникнуты произведения крупного поэта Шотландии Данбара. Его творчество, отличающееся смелыми сатирическими мотивами, яркостью и реализмом бытовых картин предваряет шотландскую литературу Возрождения. Известны такие его произведения, как «К купцам Эдинбурга» и «Танец семи смертных грехов».
На литературу Шотландии конца XV века оказала воздействие и культура Возрождения европейских стран. Пробудился интерес к античной культуре. Младший современник Данбара, Дуглас переводит на шотландский язык античные произведения, в частности, «Энеиду» Вергилия.
Последним крупным представителем шотландской литературы «золотого века» был поэт и сатирик Давид Линдсей, обличитель злоупотреблений светской и духовной власти.
На грани между книжной литературой и народной поэзией находятся анонимные поэмы XV века, главным образом из крестьянской жизни. Их отличительной особенностью являются демократизм, юмор, яркое изображение массовых народных сцен, праздников и ярмарочных гуляний. Наибольший интерес из произведений этого жанра представляют «Свинья Коклби», «На празднике в Пиблсе» и «Христова церковь на лужайке».
XV век был расцветом устной народной поэзии, живая традиция которой в следующие два столетия постепенно замирает в результате экономических и политических перемен в шотландском обществе. Мировую известность получили развившиеся в эту пору шотландские народные баллады с их острым драматизмом, сжатой и энергичной манерой рассказа.
Наряду с национально-героическими рассказами, такими как группа «порубежных» баллад о столкновениях и битвах на границе Шотландии и Англии, в балладах отразились мотивы родовых и семейных распрей, а также любовного соперничества. Запись и собирание этих баллад началось в XVIII веке, в период возрождения литературы на шотландском языке, связанный с пробуждением интереса к национальной культуре.
Литература на гэльском языке Северной Шотландии возникла значительно позднее, чем литература равнинной Шотландии. Это запаздывание было следствием своеобразия экономики и быта горных областей, в которых до середины XVIII века сохранялся клановый родовой строй.
Здесь господствовала устная поэзия, хранителями которой были местные родовые певцы – барды. Их репертуар составляли лирические, хвалебные и военные песни. Значительным распространением, благодаря близости языков, пользовалась более развитая ирландская литература.
Первая запись древних поэтических памятников была сделана в начале XVI века. Это – собрание песен бардов на шотландско-гэльском диалекте, записанных Макгрегором,– «Книга Лисморского настоятеля». Среди песен этого собрания имеются древнейшие по времени записи шотландских баллад на мотивы оссиановского эпического цикла, получившего впоследствии мировую известность благодаря Макферсону.
Другой старейший сборник поэзии бардов составлен в конце XVII века Макре. Кроме того, сохранились составленные бардами родовые хроники клана Макдональдов – «Красная и черная книги Кланре-нальда».
Валлийская или уэльская литература развивалась в атмосфере непрекращающейся борьбы бриттов, позднее валлийцев, с англосаксонскими завоевателями. Героическая поэма барда Анейрина «Гододин» повествует об отчаянной борьбе бриттов и полна скорби по их былой боевой славе.
Ожесточенное сопротивление оказали валлийцы и завоеванию норманнов, что обусловило воинственный характер валлийской поэзии вплоть до покорения Уэльса в 1282 году.
Выдающимся памятником этого времени является прозаический сборник «Мабиногион». Этот сборник содержит рассказы на излюбленную тему о подвигах короля Артура и рыцарей Круглого стола, обработку кельтских мифов, рыцарских легенд и народных преданий.
Валлийцы не примирились с завоевателями, о чем свидетельствует написанная Гриффид-аб-ир-Инад-Кохом элегия последнему валлийскому принцу. В XIV веке Давид-аб-Гуйлим создал стиль лирической поэзии, сохранившийся в валлийской литературе и в XIX веке. Свободолюбивая валлийская поэзия заставила английского короля объявить бардов вне закона, что сковало развитие литературы Уэльса.
-=ГЛАВА 4=-
ГЕРМАНИЯ В XIV – XV ВЕКАХ
В четырнадцатом веке продолжался распад «Священной Римской империи». Эта империя формально занимала огромные пространства. На востоке она граничила с землями Тевтонского ордена, Польшей и Венгрией, а на западе – с графством Фландрия, Францией и герцогством Бургундия. На севере границы империи достигали Балтийского моря, а на юге проходили местами по берегам Адриатического и Средиземного морей, включая в свой состав некоторые государства Северной Италии и французское графство Прованс.
На самом же деле эти границы были номинальными. В их пределах существовали самостоятельные государства – североитальянские, Чехия и Швейцарский союз. Но и собственные германские земли вместе с захваченными территориями западных славян представляли собой целый ряд экономически и политически обособленных образований.
К этому времени развитие производительных сил в разных частях Европы и Азии привели к значительному расширению мировых связей. На севере Европы велась оживленная торговля между странами, расположенными по берегам Балтийского и Северного морей. В этой торговле участвовали скандинавские города, Лондон, Новгород, нижнерейнские и нидерландские города. Не менее значительной была торговля между Западной Европой и странами Востока, которая велась по Средиземному морю.
Занимая выгодное положение, Штральзунд, Росток, Висмар, Любек, Гамбург и другие северогерманские города стремились сосредоточить в своих руках всю посредническую торговлю между Россией, Скандинавскими странами, Англией и Нидерландами. Для этой цели они объединились в четырнадцатом веке в так называемый Ганзейский союз (Ганзу), основавший свои заграничные торговые конторы в Новгороде, Каунасе, Бергене, Стокгольме, Брюгге, Лондоне и в других городах.
Южногерманские и рейнские города сумели использовать свое центральное положение на мировых торговых путях, принимая участие в торговле между Западом и странами Востока. Северный район торговли и крупные торговые центры на Средиземном море – Венеция и Генуя – были связаны торговым путем, проходившим через Альпийские проходы и по Рейну, то есть также через Германию. Немецкие купцы были единственными иностранными купцами, которые имели в Венеции свое торговое подворье и за которыми североитальянские города признавали право свободного плавания по Средиземному морю.
Естественно, что выгодное положение Германии на путях мировой торговли имело большое значение для развития ее промышленного производства. Одно содействовало другому. К пятнадцатому веку выделка шерстяных тканей сделалась в Германии, как и в других странах, главной отраслью производства, работающего на далекие рынки. Этому благоприятствовало развитие овцеводства в Северной Германии и наличие основных красящих веществ. Грубые сукна из германской шерсти, более дешевые, чем сукна Фландрии и Англии, по качеству более тонкие, находили выгодный сбыт в районах северных морских торговых путей. Они были практичнее для холодного климата.
Но германские производители, особенно в городах Нижнего Рейна, много внимания обращали на выработку и тонких сукон, используя для этого английскую шерсть. Заметные успехи были достигнуты и в других отраслях текстильной промышленности. Так к примеру хлопчатобумажные изделия и полотно хотя и производились главным образом для продажи на местных рынках, однако находили сбыт также в Италии, Испании и других странах.
Большие изменения произошли в эти века и в области обработки металлов, центром которой стал крупнейший тогда в Германии город Нюрнберг.
Немецкие купцы проявляли все больше инициативы и деловитости. Благодаря им начала развиваться горная промышленность.
Горные богатства являлись собственностью князей и императоров, которые, нуждаясь в деньгах, отдавали рудники в заклад различным денежным магнатам за крупные суммы. Так в конце пятнадцатого и в начале шестнадцатого веков богатейшие горные промыслы Германии – разработки серебра, свинца, меди и золота в рудниках Саксонии, Гарца, Шварцвальда, Зальцбурга и Тироля, попали в руки крупных торгово-ростовщических фирм, прежде всего Фуггеров и Вельзеров. Эти промышленники прибегали к расширению разработок, к углублению шахт и к установке в них водоотливных и воздухопроводных сооружений. Потребность в продукте, которая все более росла благодаря торговле, вызывала необходимость усовершенствовать методы добычи.
Но были и обстоятельства, которые тормозили развитие экономики Германии. Отдельные города и районы страны плохо были связаны между собой, а то и вообще связь отсутствовала. Успехи овцеводства и производства шерстяных тканей на севере Германии мало затрагивали другие области страны. То же самое происходило с промышленностью южногерманских городов, которые более были связаны с рынками Италии и Испании, со средиземноморской торговлей.
Между востоком и западом Германии почти не было никакого обмена. А ведь имелось, кроме того, много таких мелких городов, которые находились в стороне от главных торговых путей и представляли собой замкнутые центры.
Горнопромышленные районы, где в производстве господствовали крупные торгово-ростовщические дома, тоже экономически мало зависели от других частей страны. И получалось так, что росту мировых связей не предшествовало внутреннее экономическое объединение. Германия в этом смысле как бы повторяла путь Италии. Расцветающие немецкие городам начали играть центральную роль в мировой торговле, а внутренний национальный рынок еще не сложился. Не было единства даже между немецкими городами одного и того же района. Показательным примером может служить характер торгового союза северогерманских городов – Ганзы.
Образование этого союза в четырнадцатом веке объяснялось не внутренними потребностями, а задачами внешней торговли. Поэтому получалось так, что каждый город, член Ганзейского союза, придерживался своих интересов и не однажды вступал в борьбу с другими членами союза. Экономическая раздробленность, естественно, вызывала и политическую раздробленность, господство и произвол территориальных князей, приниженное и подчиненное положение в политическом отношении городов.
Первые элементы капиталистического производства в Германии встретили мощное препятствие в существующем феодальном строе.
РАЗДРОБЛЕННОСТЬ ГЕРМАНИИ
Немецкие города росли и крепли, развивая торговлю и промышленность. А это приводило к значительным изменениям в сельском хозяйстве и в самом положении крестьян. В стране появилось обилие иностранных товаров. Немецкое дворянство стремилось к роскоши. А чтобы увеличить доходы, необходимо было увеличить нажим на крестьян.
Со второй половины четырнадцатого века по всей Германии стало наблюдаться стремление феодалов усилить личную зависимость крестьян и увеличить разнообразные повинности. Это происходило по разному в отдельных частях страны и зависело от особенностей их экономического и политического развития.
На востоке Германии в связи с началом активного вывоза хлеба из некоторых стран Северо-Восточной Европы за границу – в основном во Фландрию и Северные Нидерланды – уже в пятнадцатом веке наметился подъем хозяйственной активности в среде дворянства. По сообщению одного польского хрониста, летом 1481 года из польского порта Гданьска отплыли на запад – в Голландию и во Фландрию тысяча сто больших и малых кораблей, груженных польским и немецким хлебом. Немецкий город Любек старался не отставать от Гданьска.
Он стал центром хлебного вывоза для северовосточных земель Германии.
Другие города Ганзейского союза – Росток, Вис-мар и Штральзунд – старались занять такое же положение, как и Любек.
Вывоз хлеба за границу вел к повышению цен на него в городах Северо-Восточной Германии и породил у дворянства стремление расширить свои хозяйства. А это можно было сделать только за счет крестьянских наделов. Автор Любекской хроники конца пятнадцатого века писал, что «дворяне этих земель вместе с жадными купцами сделались хлеботорговцами по причине большой дороговизны хлеба во Фландрии... Они отправляют рожь на кораблях во Фландрию и тем самым повышают цену на рожь в Любеке...»
При всем желании феодальных господ восточно-германских областей сгон крестьян с земли и перевод их на барщину еще не могли быть осуществлены в широком размере в пятнадцатом веке. Немецкие крестьяне в этих землях находились в относительно привилегированном состоянии. Эти земли были захвачены у славян и литовцев. На тех и ложилась основная тяжесть гнета немецких феодалов.
Несколько иное положение было в Северо-Западной Германии. Здесь первостепенное значение для сельского хозяйства имело развитие местного рынка. Все более и более увеличивался спрос на хлеб со стороны ближайших и бурно развивающихся городов.
Производство шерстяных материй в городах Северо-Западной Германии, которое развивалось все более успешно, усилило здесь спрос на шерсть и тем самым стимулировало овцеводство. В этой части Германии уже во второй половине четырнадцатого века проявилось стремление феодалов к расширению своих хозяйств за счет крестьянских наделов.
Но здесь имелась сильная зажиточная прослойка крестьянства, связанная с местным рынком и использовавшая в своих интересах существовавшие в северо-западных землях противоречия между князьями и рыцарством. Это обстоятельство сильно препятствовало осуществлению намерений феодалов в больших размерах.
Население Германии в своем большинстве было сосредоточено в южной и юго-западной ее частях. В сельском хозяйстве этих областей Германии хлебные культуры занимали сравнительно небольшое место. Главное в этой части Германии значение имели огородные культуры, культуры винограда и льна, а также животноводство. Основная масса продуктов производилась в мелких крестьянских хозяйствах, с которых феодалы взимали натуральные и денежные поборы.
Возросший спрос на продукты питания и на сырье для текстильного производства, что было вызвано быстрым ростом городов, побуждал феодалов увеличивать поголовье овец и крупного рогатого скота, расширять посевы льна и других технических и сельскохозяйственных культур.
Этот спрос побуждал феодалов захватывать повсюду общинные луга, леса и другие угодья. Этим захватам не трудно было придавать законный вид и представлять их в виде "судебных решений", потому что суд находился в руках феодалов. Крестьянам отводились худшие и недостаточные для них угодья. Но и те облагались особыми поборами и повинностями.
Все больше распространялась в этих краях барщина, что было связано с расширением площади виноградников, посевов льна и других технических культур в барском хозяйстве.
Расширением хозяйств за счет крестьянских наделов и общинных угодий феодалы не довольствовались. Они стремились также к увеличению своих доходов от самих крестьянских хозяйств, которые опутывались новыми поборами и повинностями в дополнение к прежним, как регулярным, то есть взимающимся ежегодно, так и «случайным» (связанным с рождением, браком, смертью крестьянина и т. д.)
Для пятнадцатого века характерно также стремление феодалов часто изменять условия крестьянского держания. Тут активно помогали хозяевам юристы, уверявшие, что они руководствуются нормами римского права, согласно которым землевладелец может распоряжаться земельной собственностью по своему усмотрению, а крестьяне никаких прав на землю не имеют.
Все более усиливалась личная зависимость крестьян, то есть их возвращение в крепостное состояние, которое утратило свою силу в тринадцатом и начале четырнадцатого веков, когда происходил процесс внутренней колонизации захваченных ранее земель к востоку от Эльбы. Усердствовали в массовом и насильственном превращении поземельно зависимых крестьян в крепостных монастыри.
Автор одного политического памфлета тридцатых годов пятнадцатого века, возмущаясь тем, что одни люди объявляют других своей «собственностью», писал о тяжелом положении крестьян: «Им запрещают пользоваться лесами, их облагают поборами, у них отбирают повседневное питание без всякого милосердия. Отнимают у них насильственно и вместе с тем живут за счет их труда. Ведь без них никто не может существовать. И зверь в лесу, и птица в воздухе нуждаются в крестьянине».
Каковыми же были политические условия того времени?
В обстановке раздробленности и отсутствия единого центра в стране господствовала феодальная анархия. Происходили постоянные столкновения императора, князей, городов и рыцарей.
В этих столкновениях в основном выигрывали князья. Немецкие князья считали себя и не без оснований настоящими государями своих территорий. Однако императорская власть им была выгодна, она подавляла народное недовольство. Кроме того, они использовали императорскую власть для расширения своих территорий за счет городов и рыцарей и для осуществления своих агрессивных планов против соседних народов. Только этим можно объяснить то, что крупные немецкие князья после длительного междуцарствия (1254—1273 гг.), когда в Германии не было императора, избрали на пустующий престол одного из князей – Рудольфа Габсбургского (1273—1291 гг.).
Положение императора в Германии тоже было своеобразным. Время от времени он собирал общеимперские съезды (так называемые рейхстаги) на которых рядом с князьями выступали также представители имперских городов. Однако ни у императора, ни у рейхстага не было никакого исполнительного аппарата. Император сам был одним из территориальных князей и распоряжался войсками своего княжества. Вся сила его в этом и заключалась – сколько войск, столько власти.
В стране не было ни общего законодательства, ни общего имперского суда, ни общих имперских финансов.
Далеко не во всех княжествах существовали ландтаги, то есть учреждения, состоявшие из представителей дворянства, духовенства и городов. В силу ничтожной политической роли городов немецкие ландтаки ни в какой степени не ограничивали произвола князей.
Сам император и поддерживающие его князья использовали престол для усиления тех домов, которым они принадлежали. Не все князья, а только самые крупные имели право выбора императора и их называли курфюрстами, то есть князьями-избирателями. И конечно же, эти избиратели старались выбирать такого императора, который бы не ограничивал их самостоятельность и помогал или не мешал усиливать могущество каждого.
Выборы императора являлись большой политикой князей.
Когда Габсбурги, занимая императорский престол, захватили Австрию и славянские земли и в связи с этим очень усилились, курфюрсты выдвинули на престол второстепенного князя – графа Люксембургского. Когда же Генрих VII Люксембургский (1308– 1313 гг.), используя императорский титул, в свою очередь стал чешским князем и присоединил Чехию к своим родовым наследственным владениям в результате династического брака, Люксембурги, ставшие столь могущественными, также сделались для курфюристов нежелательными.
Поэтому после смерти Генриха VII курфюрсты избрали германским императором Людвига Баварского (1314—1347 гг.). Затем еще при жизни Людвига Баварского князья избрали нового императора снова из династии Люксембургов – Карла IV, который являлся в это время королем Чехии.
Политическая раздробленность Германии при Карле IV получила свое юридическое закрепление. В 1356 году была издана «Золотая булла» – грамота с золотой висячей печатью.
В этой императорской грамоте основным являлось утверждение за князьями суверенитета, то есть полной верховной власти в их владениях – право суда, сбора таможенных пошлин, чеканки монеты, использование горных богатств. Официально закреплялось и положение о том, что семь курфюрстов, образующих особую коллегию, выбирают императора, вместе с которым образуют имперскую власть.
В этой «Золотой булле» были узаконены частные войны между феодалами. Запрещалось лишь ведение войны вассалом против своего непосредственного сеньора.
Таким образом «Золотая булла» стала законным обоснованием немецкой раздробленности.