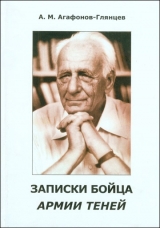
Текст книги "Записки бойца Армии теней"
Автор книги: Александр Агафонов-Глянцев
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Глава 9. В АВТОШКОЛЕ
В Париже, у площади Согласия, близ моста имени Александра III через Сену, нас ждала Викки: – Не собираетесь ли вы снова навестить «Великую Германию»? Мне кажется, что по вас там уже давно скучают... – вместо предисловия шутливо спросила она и, заметив перемену на наших физиономиях, тут же добавила: – Уверена, что оккупанты вас ищут здесь, а не у себя... Опять она, Германия, будь она неладна! После всего, что было там, во Франш-Конте? Ужасно! Но Викки уже протягивала обоим направления в бюро набора на Кэ д'Орсей, а Мишелю – новую «карт д'идантитэ». К его фамилии приставили букву "е", и он теперь именовался «Зернин», русский по происхождению. Я с ехидной улыбкой стал разглядывать кислую мину новоиспеченного «сына русского эмигранта».
Кое-чему я его успел обучить, Был он способным, любознательным и прилежным учеником, быстро усвоил за время нашего знакомства простейшие русские фразы. Но произношение! Бог ты мой, какое варварское произношение! Ничего, на первый случай сойдет: многие здешние русские юноши, особенно дети малограмотных казаков, очень плохо владели языком родителей, каждое третье-четвертое слово было у них французским.
Я открыл одну закономерность: в изучении иностранного языка, как и в сохранении своего собственного, незаменимо знание песен, скороговорок, басен... Мишелю нравились русские песни, и он многие исполнял довольно удовлетворительно. Теперь-то я с полным правом смогу отомстить этому "русскому" за его начавшие мне надоедать подтрунивания над моим французским. Особенно над "л'оркестр", – словом с картавым "р": не получалось у меня картавить по-французски, хоть убей! А тут еще целых два этих треклятых "р"! Может, у меня глотка, язык, или что другое – откуда я знаю? – не так устроены! Вначале я здорово злился над его замечаниями, да за то, что он чуть ли не помирал со смеху... Потом вспомнил, что русские не могли произнести украинскую "паляныцю", и стал успокаиваться...
Итак, нам надлежало стать шоферами. – Шоферами?! – Да, немецкими шоферами. Идет набор в Берлинскую автошколу, и мы подумали о вас. Ведь Александр имеет некий опыт. Оба вы прекрасно знаете Берлин... Вот вам рекомендации. По указанному адресу предъявите их господину (Викки назвала фамилию чиновника), только ему. Мы еще не знаем, как всё это будет выглядеть. Важно другое: шофера будут работать здесь, во Франции. Строгий вам наказ: в Берлине ни в коем случае не возобновлять старых связей и знакомств! Это более, чем опасно! Я тоже порываю с вами. Но дружба наша продолжается: мы ведь делаем одно дело. Сейчас вы познакомитесь с вашим новым непосредственным руководителем. Итак, прощайте! И да хранит вас Бог!..
Викки вынула из сумочки платочек (видимо, условный знак), приложила его на секунду к щеке и стала удаляться. Не успел еще развеяться чудесный тонкий аромат парижских духов, как к нам подошел высокий, стройный мужчина в ладно скроенном костюме, богатырь с густой черной бородой "а ля Анри IV", в темных очках в толстой роговой оправе. Весь его вид заставил вспомнить шуточную французскую песенку:
“Quand on conspire,
Quand, sans frayeur,
On peut dire
Conspirateur,
Pour tout le monde
Il faut avoir
Perruque blonde
Et collet noir."
«Конспирируя, ты знай – И обычай сохраняй: Белый надевай парик, Носи черный воротник!»
– Анри Менье! – представился он. Внимательно нас разглядывая, краткими фразами он разъяснил, что именно нам в первую очередь надлежит делать. Предупредил, что видеться мы будем редко, лишь по мере надобности. Но он всегда должен знать, где нас искать. Последнюю, более подробную инструкцию он даст Мишелю, – «старшему группы», – сообщит, как держать с ним связь.
На этот ознакомительный разговор ушло не более трех-четырех минут. Встреча эта оказалась обоюдным знакомством. Утром следующего дня мы побывали на рю Гальера, в какой-то маленькой конторе и предъявили данные нам рекомендации, где указывалось, что мы – "достойны доверия" (подписаны они были незнакомыми нам фамилиями). И мы получили направление в бюро по трудоустройству на Кэ д'Орсей. Прошли медосмотр, подписали несколько разноцветных больших и малых формуляров-анкет, сфотографировались. До отправки в Германию осталось два дня.
* * *
Полные раздумий о нашем неясном будущем, мы прогуливались по бульвару Менильмонтан. На той его стороне – знаменитое кладбище «Пэр Ляшез» со своей Стеной Коммунаров, той, у которой некогда расстреливали бойцов Парижской Коммуны. Нас потянуло к ней. Почему-то перед чем-то неизвестным и тревожным всегда тянет в священную тишину – на кладбище. Вот и она, эта стена Плача, Почета, Памяти. Именно такой была она для меня. Сейчас она – табу! Но и строжайший запрет оккупационных властей не смог воспрепятствовать, чтобы у ее подножия нет-нет да и не появлялись робкие малюсенькие букетики. Мы увидели их, эти бесценные дары людской признательности и памяти. Гвоздики и розы, все – красные, цвета крови, цвета сердца! И никого поблизости, пустынно! А ведь некоторые из букетиков совершенно свежие, – положены, видимо, только что. Правда, когда мы сюда подходили, встретившаяся молодая парочка обратилась к нам с каким-то довольно мудреным вопросом, на который Мишелю пришлось долго отвечать. Не за это ли время успели отсюда уйти те, кто пожелал, чтобы их благоговению не было свидетелей?
Пройдя чуть дальше мы увидели и другое: ряды свежих продолговатых холмиков. Могилы! Они были без крестов, – их заменили короткие колышки с прибитыми к ним дощечками с номерами. На некоторых, рядом с номером карандашом были торопливой рукой нацарапаны имя, фамилия, даты рождения и казни. Мы поняли: здесь похоронены казненные оккупантами. По всей вероятности, хоронили ночью, во время комендантского часа. И все же не удалось расстрелянных предать вечному забвению: неведомыми путями родственникам или друзьям-соратникам удавалось узнавать, под каким номером и где лежит тот, кто отдал свою жизнь за самое дорогое на свете – за свободу и честь Родины. Говорили, что время от времени власти производили "уборку" у безымянных могил, стирались надписи, убирали цветы. Но все равно они вновь, с завидной настойчивостью, появлялись на прежних местах. Видимо, хорошие дела неотделимы от людской памяти.
И стало немножко стыдно за себя: бывало, во мне копошилась мрачная мысль, что, мол, в случае чего, никто не узнает, что был такой человечек, и не помянет добрым словом... Не тщеславие ли это? Ведь мной до сих пор ничего не сделано, во всяком случае – ничего стоящего: пребывание во Франш-Конте оказалось всего лишь отдыхом,– никаких "подвигов", о которых так мечталось...
– Да-а, Сасси, люди помнят и не забывают. И совершенно неважно, если не останется конкретных имен, – в них ли соль? Наши имена, как ты любишь повторять, "брызги жизни". Правы римляне, утверждавшие, что "Nomina sunt odiosa", что не его имя, а сам человек, его дело, во имя которого он жил, – вот, что единственно ценное. И если оно, это дело, останется жить и после тебя, то с ним продолжишь жить и ты. Значит, ты жил правильно, не зря. А всё остальное – "суета сует и всяческая суета!", или, как ты говоришь по-латыни "Vanitas vanitatum et omnia vanitas!" После некоторой паузы, словно отвечая на какую-то свою только что возникшую мысль. Мишель добавил:
– Даже если тебе и не удастся самому дойти до намеченной цели, но ты уверен, что шел к ней правильно и что она будет достигнута твоими последователями, – разве не в этом смысл и радость жизни?
– "Самое дорогое у человека это – жизнь!" – вставил я слова автора из присланной мне бабушкой книжки "Как закалялась сталь".
– Жизнь?! – недоуменно вскинул брови Мишель и с какой-то необъяснимой внезапной злостью окинул меня с ног до головы:
– Ты говоришь, самое дорогое – жизнь? Это что: по-твоему за нее надо цепляться, стараться ее сохранить во что бы то ни стало? Избегать риска? Это же – бояться за свою шкуру! И что же тогда по-твоему: кто здесь лежит? Дураки? Те, кто по-глупому рискнули жизнью, кто отказался спасти ее и не выдал поэтому других?..
Я не узнавал Мишеля: он так расходился, вскипев от негодования, что еле сдерживал себя:
– Нет уж, мон шер, уволь! (словами "мон шер" он обращался ко мне лишь в минуты крайнего мной неудовольствия). Нет, мон шер, ты тут что-то не того... Он стал заикаться, не находя слов и выражений, чтобы выплеснуть на меня всю бурю возмущения. И мне долго пришлось разъяснять ему подлинный смысл мысли Н. Островского. Мишель недоверчиво слушал меня, пока я не закончил почти дословного перевода всей сути этого выражения.
– Если так, то – другое дело! – вымолвил он наконец облегченно: – Так и надо было сразу сказать... А то выхватил какую-то часть фразы, и этим перевернул всё с головы на ноги... Тоже мне – деятель!.. А знаешь ли, что часть одной правды – уже ложь! Часть ее – ничто иное, как однобокое выпячивание, тенденциозное искажение всей истины. А может ли истиной быть ее искажение?
* * *
Набор на курсы шоферов в Париже обернулся для оккупантов неудачей: в Берлин согласилось поехать всего семь человек. И торжественных проводов не было. Четверо были таксистами-профессионалами, пожилыми русскими эмигрантами,– отсутствие бензина лишило их работы. Был и один молодой русский, хорошо говоривший по-немецки, по фамилии Антонов. В пустынном лагере в Берлине-Шпандау несколько дней мы ожидали пополнения. Оно прибыло из Польши, – юноши из Вильно и Кракова. И нас стало сто пятьдесят человек. Сразу же нас переодели в особую черную униформу: кители со стоячим воротником, брюки-галифе, ботинки с обмотками, пилотки-мютце. Выдали и черные шинели. На пилотках – металлические буквы «Sp».
В нашей одежде кто-то признал перекрашенную австрийскую униформу, а ботинки – французской армии. Знак на кокарде обозначал начальные буквы фамилии наследовавшего погибшему в авиакатастрофе министру строительства и обороны Тодту нового министра – Шпеера. Видимо, наша моторизованная колонна и была его первым детищем. Что ж, "Todt ist tot" (Тодт мертв),– как посмеивались его недоброжелатели,– "да здравствует Шпеер!". Образованные Тодтом военнизированные инженерно-строительные части в желтой форме продолжали существовать и дальше, с контингентом исключительно из немцев – инженеров и мастеров.
Взамен наших документов, мы получили "Динст-Бухи" – трудовые книжки с фотографией, служившие одновременно и паспортом. Каждому из нас было выдано по походному сундуку, где мы могли хранить нашу гражданскую одежду и личные вещи. В выданном нам нательном белье был большой процент синтетики. "Специалисты" утверждали, что то была стеклоткань. Очень похоже: оно было очень тяжелым, нисколько не грело, да вдобавок от него часто зудело, будто после ожогов крапивой. Зато легко и быстро стиралось и высыхало, и не нужно было его проглаживать. Старшим были двое фельдфебелей, освобожденные по ранению от фронта.
Начальником колонны был офицер-инженер, тодтовец – в желтой форме, личность высокомерная, всем своим видом показывавшая, что мы для него – низшая раса и внимания недостойны. Лицо его было будто каменное, без признаков каких-либо эмоций. Интересно: был ли он таким же и в своем семейном кругу? А может быть, семья погибла под бомбардировкой? – И это возможно, тогда и судить его нельзя. Впрочем, видели мы его редко: всю работу с нами выполняли его подчиненные. За первые три недели мы поменяли три местожительства: из Шпандау нас перевели в Ораниенбург, а оттуда – в Целлендорф. Всё это время с нами занимались исключительно муштрой (приучали к выполнению военных команд по-немецки), а также и физической тренировкой. По утрам и вечерам мы должны были по часу бегать по двору гуськом и прыгать по-лягушечьи на корточках. Странный "спорт", но он действительно давал надлежащую разминку.
Руководил муштрой и спортом русский, лет сорока пяти, в чине штабс-фельдфебеля, с четырьмя звездочками на погонах. Занимался этим с видимым удовольствием, особенно, если невдалеке проходил начальник колонны или его фельдфебели.. По его выправке можно было без ошибки догадаться, что он чуть ли не потомственный вояка, был, возможно, поручиком или даже капитаном царской армии: офицеры иностранных армий принимались в армию немецкую с обязательным понижением на один-два чина, а то и больше. Как-то вечером, когда во дворе никого не было и, как ему казалось, никто не мог наблюдать, штабс-фельдфебель в одиночку "репетировал" тот маршрут, по которому назавтра собирался прогнать нас. Делал он это своеобразно и непонятно: бежал с вытянутыми вперед руками, осторожно, будто наощупь. И все равно ему не удавалось избегать столкновений со столбами во дворе. Я понял: бедняга был слеповат! Так вот почему он нередко представал перед нами с шишками, ссадинами, а то и с пластырем на лбу! А скрывал свою слепоту, чтобы не лишиться работы. А мы-то думали, что виной – ревность его жены.
Лишь в Целлендорфе начались теоретические занятия по правилам дорожного движения. Для этого нас разбили на группы по 30 человек, и занимались мы в нескольких классах. С материальной частью нас почти не знакомили: ремонт будут осуществлять механики и слесаря – бывшие таксисты. Нам же – "крутить баранку". С нашими русскими мы не сближались – разница в возрасте. А Антонов стал сразу же "переводчиком", и, следовательно, подскочил на полголовы выше нас, став "начальством". Поляки обладали очень бурным характером. Между ними часто возникали ссоры и драки с обоюдными увечьями. Здесь и помогли мои медицинские познания: мы с Мишелем оказывали первую помощь, накладывали повязки и скобки. Это было замечено начальством, и мы были "произведены" в официальные санитары и фельдшера, – нам вручены были медицинские нарукавные знаки-змейки, которые мы тут же и нашили на кителя. Затем нас обоих поместили в отдельную загородку-медпункт, выдали шкаф и аптечный сундук с перевязочным материалом и медикаментами. Знакомый с латынью и правилами выписки рецептов, названиями лекарств, я ходил от аптеки до аптеки и приобретал необходимое, обзаводился особенно спиртом. Разводил его, разливал по мелким флаконам, подкрашивал в различные цвета, наклеивая на флакончики различные этикетки с мистическими для непосвященных названиями: "Tinktura", "Infu-sum", "Solutio" такая-то.. На некоторых флаконах дописывал: "Gift"-"Яд! Для внешнего употребления!"", да еще и череп с костями пририсовывал.
Эти "яды" сблизили нас с обоими фельдфебелями, а также и с некоторыми поляками, "благосклонно" пользовавшимися такими "средствами от зубной или головной боли". На случай, если кто будет проявлять чрезмерное нахальство, у меня были флакончики с чистым спиртом, да еще и настоянном на лютом (гвианском) перце, от которого захватывало дух, лезли на лоб глаза, а слизистая рта горела "ярким пламенем". Роль пожарника в этих случаях играл заранее приготовленный помидор. Наш отдельный медпункт служил и местом для тренировок по морзе, которым Мишель стал уделять особое внимание.
Нельзя сказать, чтобы наша жизнь была полностью казарменной: в свободное от занятий время каждый мог ходить, куда ему вздумается, но обязан был присутствовать на утреннем и вечернем построениях-перекличках, так называемых "рапортах". По радио и в газетах сообщались отнюдь не обнадеживающие нас новости: часто гремели фанфары, возвещая то о взятии Севастополя, то о том, что в Северном Ледовитом океане гитлеровцами уничтожен большой английский конвой "PQ-17" со всеми военными материалами для Советского Союза; что пали Луганск и Ростов-на-Дону; что немцы овладели Майкопским нефтяным районом... Германская подлодка потопила в Средиземном море британский авианосец "Игл", неудачей закончилась попытка англичан высадить десант в Дьеппе (Франция). В районе Калача гитлеровцы форсируют Дон, их горно-стрелковые части поднимаются на Эльбрус, а танковые соединения достигают северных склонов Кавказского хребта у города Моздок... Не зря гитлеровцы загодя учредили свое акционерное общество "Кауказус Нафта А.Г."! Интересно, ищут ли меня его сотрудники, чтобы пополнить свои "кадры"? И опять фанфары: 6-ая немецкая армия подходит к Сталинграду! "Вохеншау", захлебываясь от восторга, рассказывает и показывает улыбающиеся лица своих солдат, черпающих касками волжскую воду. Да-а-а, они – герои: за неполный год протопали от границ СССР до Сталинграда! Чуть ли не до Урала!.. И от таких побед меркнет неудавшаяся попытка немецко-итальянских войск совершить в Африке прорыв у Эль-Аламейна... Фанфары, фанфары... А что будет, "Венн вир фарен геген Энгеланд" ("Если мы двинем на Англию")?.. – Именно с этого лихого марша-песни начинаются сообщения об успехах на фронтах. Неужто они и в самом деле в Англию наметили?!
* * *
С первого дня моего приезда в Берлин, несмотря на полученный строжайший запрет, по которому я обязан был «оборвать и не возобновлять прежних связей», всё более и более стало меня обуревать желание навестить «Асканию»: хотелось посмотреть, что там, как там, узнать о Бошко и других друзьях, нет ли более точных сведений о родителях, чем закончилась задуманная Максом диверсия... Заикнулся об этом Мишелю, но получил от него такой разнос, что и сам был не рад. Но желание... желания от этого отнюдь не убавилось, – оно разгорелось еще больше. Не мой ли характер делать всё назло тому виной? Что ж, придется побывать там втайне от друга...
* * *
На практические занятия по вождению нас переселили еще раз – в Кёпенник, на юго-восток Берлина. Мы сели за руль десятитонных грузовиков «МАН». Вскоре с инструктором я стал ездить по Берлину, по Унтер-ден-Линдену. Несколько раз проезжал под Бранденбургскими Воротами, даже задел одну колонну бортом, за что получил отменный нагоняй взбешенного инструктора. Близился день экзаменов, получения водительских прав – «Фюрершайнов». А затем... затем нас куда-то отправят. Надо торопиться, и я рискнул пойти на нарушение запрета.
В воскресенье я подходил к лагерю в Мариендорфе. Как здесь всё изменилось! Я не узнал пустыря, на котором раньше одиноко стояло два барака: сейчас на нем раскинулся огромный лагерь! Перед его воротами я повстречал одного югослава. То, что это именно югослав, я понял по характерному очертанию его лица и по манере носить одежду. Долго пришлось ему объяснять, что означает моя униформа, что я – не солдат. Наконец мы вошли с ним в лагерь через проходную. В бараке югославов тоже пришлось рассеивать их недоверие. Лишь после этого ко мне подошел скрывавшийся до того от моих глаз старый знакомый Йоца. От него я узнал, что Бошко решил не возвращаться, но просил мне передать, что прежние сведения о моих родных были верны. Как-то стало не до дальнейших расспросов... Но тут Йоца показал на соседние, отдельно огороженные забором из высокой колючей проволоки, два барака с малюсеньким двориком между ними. В них содержались 12 – 15-илетние девчонки и мальчишки из Советского Союза,– "ОСТ"-овские "рабочие.". Ну какими они могут быть рабочими? Какая жуткая теснота!
Через высокую сетку из колючей проволоки на нас с мольбой глядели изможденные грязные мордашки этих оборвышей... – Настоящий концлагерь!.. Гоняют их на самую грязную и тяжелую работу! – сказал Йоца: – Бьют за малейшее... Помогаем, чем можем, но с опаской... – Почему с опаской? – Понимаешь ли, их, бедняг, так терроризируют, что некоторые не выдерживают: надеются доносами на товарищей улучшить своё положение. Доносят и на нас... "Какая ерунда!" – не поверил я. Но чем им помочь?
– Ребята, может вам чего надо? – спросил я через проволоку, вызвав у Йоцы удивление: он не знал, что я владею русским. – Хлеб!.. Кусочек карандаша!.. Иголку, ниток!.. А кто вы такой? Эмигрант?.. Откуда знаете русский?.. Мыла!.. Что это за форма?.. – посыпались просьбы, заказы, вопросы. Естественно, при мне не было ничего из того, что они просили. Пообещал привезти на следующее воскресенье, примерно к одиннадцати часам, или чуть раньше. На мою не совсем удачную, вернее глупую, просьбу спеть что-нибудь русское или украинское, мне ответили, что нельзя, – за это их бьют! Странно!.. У забора стояло всего несколько парней, очевидно, из более храбрых. А весь двор был полон: кто стирал белье, кто его развешивал, а кто просто лежал – загорал и совершенно не интересовался разговором с нами. Скорей всего, чтобы не навлечь на себя непрошенной беды... До чего же они напуганы!
В назначенный день с утра была гроза с ливнем, и я подъехал к лагерю не к одиннадцати, как обещал, а к трем часам после обеда. Только думал свернуть в переулок, где была проходная, как услышал окрик: – Ацо, стой!.. Нельзя!.. – остановил меня запыхавшийся Йоца. Поздно: я увидел, что вахтер успел меня заметить и быстро скрылся в своей каморке, чтобы, видимо, куда-то позвонить. – Как хорошо, что я тебя дождался!. Только час назад отсюда уехала гестаповская машина... Ждали тебя! Тут к остановке подъехал автобус, и мы с Йоцей вскочили в него. Югослав наскоро рассказал, что о беседе "человека в немецкой форме" сообщили в гестапо, оттуда приехали, стали избивать ребят и те сообщили о дне и часе обещанного мной визита. Ждали, – не дождались! Ливень спас меня! На следующей остановке мы пересели на обратный автобус, и заметили, как мимо, вдогонку тому, с которого мы только что пересели, пронеслась черная машина. Еще одна пересадка на трамвай, и я в Темпельгофе благополучно спустился в "U-Bahn" (метро). Перед тем сверток с "передачей" для ребят я передал Йоце...
– Куда ты запропастился? – накинулся на меня Мишель: – Нас ждут в Ораниенбурге. Прибыла новая партия французов, есть посылка для нас... В Ораниенбурге, среди нового контингента, было и двое югославов. Пока я с ними разговаривал,– землякам всегда есть о чем поговорить,– Мишель вернулся с двумя переданными ему из Франции коробками. Что в них? От кого? Очень уж тяжеленные! На мои вопросы Мишель никакого путного ответа не дал, и я должен был тащить один из грузов до самого Кёпенника. А там, на следующий день, пришлось заниматься переоборудованием нашей походной аптечки-сундука. Соорудили внутри верхний быстро и легко съемный этаж. Таким образом, в сундук можно было поместить не только медикаменты, инструменты и перевязочный материал (на верхнем – съемном этаже), но и полученное из Франции – на дне.
* * *
После встречи с земляками в Мариендорфе и Ораниенбурге, на меня напала какая-то апатия. Зачем мне эта школа, эта чуждая для меня униформа? Я почувствовал себя изгоем, чуть ли не предателем. Этому особенно способствовала встреча с первыми, увиденными мною, ОСТ-овцами, их расспросы. «Надо!» – Мало ли что надо! А для чего?..
Наконец сданы экзамены, получены "фюрершайны": в них было указано, что мы имеем право водить транспорт до 21-го метра длиной, то есть с двумя прицепами. Скоро нас отправят. Куда? И вот, нам выдают сухой паек: батон хлеба в целлофане, консервы – на двое суток. Когда я с хлеба снял упаковку, на нем оказалась оттиснутой дата – "1934"! Значит, выпечен восемь лет назад, а будто позавчерашний! Умеют, черти, хранить! С приходом Гитлера к власти, Германия стала заготавливать запасы на войну. Не зря был выдвинут лозунг: "Пушки вместо масла!". И о хлебе не забыли,– заготовили впрок!..
Отправили нас не грузы возить, а в Рейнскую область, к Майнцу: к виноградарям, им в помощь! Что за неразбериха у немцев? Разве для того нас учили?
* * *
Село Костхайм, на правом возвышенном берегу Рейна, у устья реки Майн, напротив города Майнц. Разместили нас в каком-то строении, похожем на бывший большой склад. С местным населением у нас сразу же установились дружеские отношения: мы с охотой помогали виноградарям в сборке урожая, а им наша задорная юношеская активность пришлась по душе. Труд, если он по душе, – что может быть приятней и радостней? Ни виноградарям, ни нам не нужна была никакая война: знай, работай себе спокойно, обрабатывай землю, собирай плоды своего труда и благодарности природы – отменный, вкусный, сочный и сладкий урожай – дар солнца! И в нашем совместном труде не было ни врагов, ни чужеземцев: все мы были одинаковыми трудягами. Делить что-либо и из-за этого ссориться – нам было незачем... Казалось, что и сама война нас абсолютно не касается...
По вечерам и выходным мы с наслаждением плескались в теплых чистых водах Майна. Там познакомились и подружились с веселой ватагой местных девушек. Мишель особенно увлекся (а может и наоборот, – она им увлеклась?) жизнерадостной Ирмгард: высокая, стройная и гибкая, как лоза, с побронзовевшей на солнце упругой кожей, Ирма, как мы ее звали, была настоящей богиней красоты. Во всяком случае, в наших глазах! Ну и везет же Мишелю! И вообще, надо сказать, приветливый рейнский народ оставил самые хорошие воспоминания.
Понравился нам и сам Майнц, – не чета скучному и угрюмому Берлину! В самом центре его находился комплекс каких-то строений со стеклянным покрытием, огороженный каменным забором. Не цеха ли это какого-то завода? Мишель оказался более осведомленным: – Нет. Это – склады военных материалов и инструментов из хром-ванадиевого сплава. Очень дорогой сплав. А дня два тому назад сюда сгрузили около двухсот новых авиадвигателей... Откуда ему всё это известно? Я знал только, что поблизости, в Рюссельхайме, находится завод "Опель", а он... Впрочем, старший на то и старший, чтобы знать больше. Однако, я заметил, что Мишель не на шутку занервничал.
Но... прервемся немного: настало время объяснить, что именно было в тех двух коробках, переданных Мишелю в Ораниенбурге. В них было три ящика, каждый размером в большой кирпич. Один – радиопередатчик с манипулятором-ключом, второй – приемник с мотком многожильной медной проволоки – антенной, третий – аккумулятор-батарея. В Париже, получив наше сообщение, что на границе в Аахене немецкие таможенники не производят досмотра багажа вольнонаемных-"добровольцев", руководство посчитало необходимым заблаговременно снабдить нас этой приемо-передаточной аппаратурой, изготовленной по последнему слову техники. Ранее радисты вынуждены были пользоваться тяжеленными чемоданами, где и был смонтирован весь такой агрегат. Поэтому, как я уже упомянул, мы и переоборудовали наш сундук-аптеку: все три ящика удобно разместились на дне, под съемным этажом с медпринадлежностями. Данные о времени выхода в эфир Мишелю были известны.
Стало ясно, что не зря нам приходилось обучаться во Вьё-Шармоне работе на ключе. Сообщение о складе с авиадвигателями в Майнце Мишель посчитал необходимым срочно передать в Центр, а через несколько дней получил оттуда соответствующие указания.
По ночам, под предлогом "рандеву" с девушками многие поляки из нашей колонны отлучались из спальни. Отлучались и мы, неся с собой "подарки". Примерно в двух километрах от Костхайма, на вершине холма, росло могучее развесистое дерево, с вершины которого отлично обозревался весь Майнц. Оно и явилось нашим наблюдательным пунктом. Нам было поручено корректировать намечавшуюся бомбардировку склада и сообщить о ее результатах. Около одиннадцати часов ночи. Небо затянулось тучами, – непредвиденная помеха! Нехотя шагал я за Мишелем, неся два ящика. Думал: бесполезная затея, – какая может быть бомбардировка при отсутствии видимости сквозь тучи? С концом антенны я взлез почти до вершины дерева. Мишель – подо мной, на земле, у соединенных штеккерами ящиков. Как можно корректировать, когда такая темень, Майнц затемнен и его почти не видно? Раздалось завывание предварительной, а сразу за ней – полной тревоги. Значит, англо-америкацы всё же прорвались! Сумасшедшие летчики! Натужно гудят в небе тяжело груженные самолеты, приближаются...Уже закружили над головой... Сквозь тучи стали опускаться осветительные ракеты на парашютах. Город осветился ярким светом: всё произошло так быстро, что искусственный туман не успел его накрыть. Видимо, и сами немцы не ожидали налета. Это неплохо. Нам-то сейчас всё прекрасно видно, а как там, за тучами? Я задрал голову, и мое внимание привлекли странные хлопки: в тучах – несколько сквозных круглых отверстий! Вот вверху раздалось еще несколько хлопков, и там, где они прозвучали, тучи, будто сильным взрывом, разлетелись в стороны, а через образовавшиеся в них дыры-окна засверкали звезды. Вот это – да! До чего додумались химия и техника! Мишель принял позывные, ответил своими. Засвистели бомбы. Впиваемся в то место, где склад, Над ним взметнулись языки пламени, почти сразу же доносится грохот взрывов. Мо-лод-цы! Прямое попадание с первого же разу! Мишель в восторге шлет в эфир: "О-кэй!", и сразу же засвистели серии за сериями, сброшены карандаши-зажигалки. Но что это? – Бомбы свистят над самой головой! "О-ой, братцы! Что вы делаете? – Не туда!" – только и успел я подумать, как меня словно щепку, сдуло с дерева. Мишеля несколько раз перекувыркнуло. К счастью, ни один осколок нас не задел. Зато мы порядком ощутили, как больно могут бить и царапать комки взбесившейся земли! Когда очухались, Мишель кинулся к рации: ящики перевернуты, но будто целы, лишь один штеккер выдернуло. Вставил его обратно в гнездо, в эфир послал двойной знак вопроса: "В чем дело?". Переключился на прием, слышит: "Ха-ха-ха!". При чем тут смех? Не поняли, что ли? Хотел переключиться на передачу, но тут послышался стрекот продолжения: – Подбиты. Пришлось опорожниться. Если на ваши головы, ЭМ СВП. По морзе эти сокращенки обозначают: "ЭМ" – извините, "СВП" – пожалуйста. Мы потом долго хохотали, вспоминая этот ответ.{32}
На следующее утро нас повели в Майнц спасать, что можно было спасти. На месте бывших складских ангаров – одни дымящиеся развалины, скрученные и оплавленные швеллера, двутавровые балки перекрытий... Дышало жаром. Мишель дернул меня за рукав, показывая на стену соседнего четырехэтажного здания. Крышу с него сдуло, зияли пустые оконные проемы, стена была в трещинах... Но что это в ней за прыщ? – Почти на высоте третьего этажа в нее вдавился остов чего-то металлического! Присмотрелся: так это же покореженный авиамотор! Ну и бабахнуло! Такую махину, да на такую высоту! В еще худшем состоянии были на пожарище останки других моторов, повсюду разлетелись обгоревшие и полуоплавленные слесарные инструменты... Мы осторожно, чтобы не обжечься, стали их собирать клещами на одну кучу... – Метко сработали! – удивился я: – В центре города, а жилые здания почти все целы! – Специалисты!
Возвращались поздно вечером, уставшие, грязные, провонявшиеся копотью. И тут в моей голове мелькнула мысль: а ведь оба мы были на краю гибели, на волосок от смерти! Украдкой глянул на Мишеля: как он себя чувствует? Он шел как ни в чем не бывало. Может, чуть сосредоточенней, чем обычно. Казалось, он погрузился в какие-то свои сокровенные мысли, витает где-то далеко. А может, и он думает о нашем чудесном спасении, о нашей дружбе, которая, еще чуть-чуть, и прекратилась бы навеки?.. И тут мне послышалось, что он мурлычет какую-то песенку. Да, то была песня, которую нередко напевал наш бывший командир. Безотрадная, вместе с тем гордая песня бедняка-отверженного. И она, эта песня нашего командира капитана Анри, раскрылась мне во всем ее сентиментальном значении и величии, заострила во мне понятие Родины для человека, о долге его перед ней. Родина – превыше всех благ, единственная ценность:






