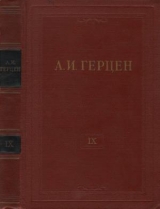
Текст книги "Том 9. Былое и думы. Часть 4"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Философские споры его состояли в том, что он отвергал возможность разумом дойти до истины; он разуму давал одну формальную способность – способность развивать зародыши или зерна, иначе получаемые, относительно готовые (т. е. даваемые откровением, получаемые верой). Если же разум оставить на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию за категорией, он может обличить свои законы, но никогда не дойдет ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии и пр. На этом Хомяков бил на голову людей, остановившихся между религией и наукой. Как они ни бились в формах гегелевской методы, какие ни делали построения, Хомяков шел с ними шаг в шаг и под конец дул на карточный дом логических формул или подставлял ногу и заставлял их падать в «материализм», от которого они стыдливо отрекались, или в «атеизм», которого они просто боялись. Хомяков торжествовал!
Присутствуя несколько раз при его спорах, я заметил эту уловку, и в первый раз, когда мне самому пришлось помериться с ним, я его сам завлек к этим выводам. Хомяков щурил свой косой глаз, потряхивал черными, как смоль, кудрями и вперед улыбался.
– Знаете ли что, – сказал он вдруг, как бы удивляясь сам новой мысли, – не только одним разумом нельзя дойти до разумного духа, развивающегося в природе, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, как простое, беспрерывное брожение, не имеющее цели и которое может и продолжаться, и остановиться. А если это так, то вы не докажете и того, что история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим, с планетой.
– Я вам и не говорил, – ответил я ему, – что я берусь это доказывать, – я очень хорошо знал, что это невозможно.
– Как? – сказал Хомяков, несколько удивленный, – вы можете принимать эти страшные результаты свирепейшей имманенции, и в вашей душе ничего не возмущается?
– Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет.
– Ну, вы, по крайней мере, последовательны; однако как человеку надобно свихнуть себе душу, чтоб примириться с этими печальными выводами вашей науки и привыкнуть к ним!
– Докажите мне, что не-наука ваша истиннее, и я приму ее также откровенно и безбоязненно, к чему бы она меня ни привела, хоть к Иверской.
– Для этого надобно веру.
– Но, Алексей Степанович, вы знаете: «На нет и суда нет».
Многие – и некогда я сам – думали, что Хомяков спорил из артистической потребности спорить, что глубоких убеждений у него не было, и в этом была виновата его манера, его вечный смех и поверхностность тех, которые его судили. Я не думаю, чтоб кто-нибудь из славян сделал больше для распространения их воззрения, чем Хомяков. Вся его жизнь, человека очень богатого и неслужившего, была отдана пропаганде. Смеялся ли он или плакал – это зависело от нерв, от склада ума, оттого, как его сложила среда и как он отражал ее; до глубины убеждения это не касается.
Хомяков, может быть, беспрерывной суетой споров и хлопотливо-праздной полемикой заглушал то же чувство пустоты, которое, с своей стороны, заглушало все светлое в его товарищах и ближайших друзьях, в Киреевских. Сломанность этих людей, заеденных николаевским временем, была очевидна. В жару полемики можно было иногда забывать это – теперь это было бы слабо и жалко.
Оба брата Киреевских стоят печальными тенями на рубеже народного воскресения; не признанные живыми, не делившие их интересов, они не скидывали савана.
Преждевременно состаревшееся лицо Ивана Васильевича носило резкие следы страданий и борьбы, после которых уже выступил печальный покой морской зыби над потонувшим кораблем. Жизнь его не удалась. С жаром принялся он, помнится, в 1833 году, за ежемесячное обозрение «Европеец». Две вышедшие книжки были превосходны, при выходе второй «Европеец» был запрещен. Он поместил в «Деннице» статью о Новикове, – «Денница» была схвачена, и ценсор Глинка посажен под арест. Киреевский, расстроивший свое состояние «Европейцем», уныло почил в пустыне московской жизни; ничего не представлялось вокруг – он не вытерпел и уехал в деревню, затая в груди глубокую скорбь и тоску по деятельности. И этого человека, твердого и чистого, как сталь, разъела ржа страшного времени. Через десять лет он возвратился в Москву из своего отшельничества – мистиком и православным.
Положение его в Москве было тяжелое. Совершенной близости, сочувствия у него не было ни с его друзьями, ни с нами. Между им и нами была церковная стена. Поклонник свободы и великого времени французской революции, он не мог разделять пренебрежения ко всему европейскому новых старообрядцев. Он однажды с глубокой печалью сказал Грановскому:
– Сердцем я больше связан с вами, но не делю многого из ваших убеждений; с нашими я ближе верой, но столько же расхожусь в другом.
И он в самом деле потухал как-то одиноко в своей семье. Возле него стоял его брат, его друг – Петр Васильевич. Грустно, как будто слеза еще не обсохла, будто вчера посетило несчастие, появлялись оба брата на беседы и сходки. Я смотрел на Ивана Васильевича, как на вдову или на мать, лишившуюся сына; жизнь обманула его, впереди все было пусто и одно утешение:
Погоди немного,
Отдохнешь и ты!
Жаль было разрушать его мистицизм; эту жалость я прежде испытывал с Витбергом. Мистицизм обоих был художественный; за ним будто не исчезала истина, а пряталась в фантастических очертаниях и монашеских рясах. Беспощадная потребность разбудить человека является только тогда, когда он облекает свое безумие в полемическую форму или когда близость с ним так велика, что всякий диссонанс раздирает сердце и не дает покоя.
И что же было возражать человеку, который говорил такие вещи: «Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону богоматери и думал о детской вере народа, молящегося ей; несколько женщин, больные, старики стояли на коленах и, крестясь, клали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты, и мало-помалу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением… Века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных; она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающейся от нее на верующих. Она сделалась живым органом, местом встречи между творцом и людьми. Думая об этом, я еще раз посмотрел на старцев, на женщин с детьми, поверженных в прахе, и на святую икону – тогда я сам увидел черты богородицы одушевленными, она с милосердием и любовью смотрела на этих простых людей… И я пал на колени и смиренно молился ей».
Петр Васильевич был еще неисправимее и шел дальше в православном славянизме, – натура, может быть, меньше даровитая, но цельная и строго последовательная. Он не старался, как Иван Васильевич или как славянские гегелисты, мирить религию – с наукой, западную цивилизацию – с московской народностью; совсем напротив, он отвергал все перемирия. Самобытно и твердо держался он на своей почве, не накупаясь на споры, но и не минуя их. Бояться ему было нечего: он так безвозвратно отдался своему мнению и так спаялся с ним горестным состраданием к современной Руси, что ему было легко. Соглашаться с ним нельзя было, как и с братом его, но понимать его можно было лучше, как всякую беспощадную крайность. В его взгляде (и это я оценил гораздо после) была доля тех горьких, подавляющих истин об общественном состоянии Запада, до которых мы дошли после бурь 1848 года. Он понял их печальным ясновидением, догадался ненавистью, местью за зло, принесенное Петром во имя Запада. Оттого у Петра Васильевича и не было, как у его брата, рядом с православием и славянизмом стремления к какой-то гуманно-религиозной философии, в которую разрешалось его неверие к настоящему. Нет, в его угрюмом национализме было полное, оконченное отчуждение всего западного.
Их общее несчастие состояло в том, что они родились или слишком рано, или слишком поздно; 14 декабря застало нас детьми, их – юношами. Это очень важно. Мы в это время учились, вовсе не зная, что в самом деле творится в практическом мире. Мы были полны теоретических мечтаний, мы были Гракхи и Риензи в детской; потом, замкнутые в небольшой круг, мы дружно прошли академические годы; выходя из университетских ворот, нас встретили ворота тюрьмы. Тюрьма и ссылка в молодых летах, во времена душного и серого гонения, чрезвычайно благотворны; это закал, одни слабые организации смиряются тюрьмой, те, у которых борьба была мимолетным юношеским порывом, а не талантом, не внутренней необходимостью. Сознание открытого преследования поддерживает желание противудействовать, удвоенная опасность приучает к выдержке, образует поведение. Все это занимает, рассеивает, раздражает, сердит, и на колодника или сосланного чаще находят минуты бешенства, чем утомительные часы равномерного, обессиливающего отчаяния людей, потерянных на воле в пошлой и тяжелой среде.
Когда мы возвратились из ссылки, уже другая деятельность закипала в литературе, в университете, в самом обществе. Это было время Гоголя и Лермонтова, статей Белинского, чтений Грановского и молодых профессоров.
Не то было с нашими предшественниками. Им раннее совершеннолетие пробил колокол, возвестивший России казнь Пестеля и коронацию Николая; они были слишком молоды, чтоб участвовать в заговоре, и не настолько дети, чтоб быть в школе после него. Их встретили те десять лет, которые оканчиваются мрачным «Письмом» Чаадаева. Разумеется, в десять лет они не могли состареться, но они сломились, затянулись, окруженные обществом без живых интересов, жалким, струсившим, подобострастным. И это были десять первых лет юности! Поневоле приходилось, как Онегину, завидовать параличу тульского заседателя, уехать в Персию, как Печорин Лермонтова, идти в католики, как настоящий Печёрин, или броситься в отчаянное православие, в неистовый славянизм, если нет желания пить запоем, сечь мужиков или играть в карты.
В первую минуту, когда Хомяков почувствовал эту пустоту, он поехал гулять по Европе во время сонного и скучного царствования Карла X; докончив в Париже свою забытую трагедию «Ермак» и потолковавши со всякими чехами и далматами на обратном пути, он воротился. Все скучно! По счастию, открылась турецкая война, он пошел в полк, без нужды, без цели и отправился в Турцию. Война кончилась, и кончилась другая забытая трагедия – «Дмитрий Самозванец». Опять скука!
В этой скуке, в этой тоске, при этой страшной обстановке и страшной пустоте мелькнула какая-то новая мысль; едва высказанная, она была осмеяна; тем яростнее бросился на отстаивание ее Хомяков, тем глубже взошла она в плоть и кровь Киреевских.
Семя было брошено; на посев и защиту всходов пошла их сила. Надобно было людей нового поколения, несвихнутых, ненадломленных, которыми мысль их была бы принята не страданием, не болезнью, как до нее дошли учители, а передачей, наследием. Молодые люди откликнулись на их призыв, люди Станкевичева круга примыкали к ним, и в их числе такие сильные личности, как К. Аксаков и Юрий Самарин.
Константин Аксаков не смеялся, как Хомяков, и не сосредоточивался в безвыходном сетовании, как Киреевские. Мужающий юноша, он рвался к делу. В его убеждениях не неуверенное пытанье почвы, не печальное сознание проповедника в пустыне, не темное придыхание, не дальние надежды – а фанатическая вера, нетерпимая, втесняющая, односторонняя, та, которая предваряет торжество. Аксаков был односторонен, как всякий воин; с покойно взвешивающим эклектизмом нельзя сражаться. Он был окружен враждебной средой – средой сильной и имевшей над ним большие выгоды, ему надобно было пробиваться рядом всевозможных неприятелей и водрузить свое знамя. Какая тут терпимость!
Вся жизнь его была безусловным протестом против петровской Руси, против петербургского периода во имя непризнанной, подавленной жизни русского народа. Его диалектика уступала диалектике Хомякова, он не был поэт-мыслитель, как И.Киреевский, но он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительны. Он в начале сороковых годов проповедовал сельскую общину, мир и артель. Он научил Гакстгаузена понимать их и, последовательный до детства, первый опустил панталоны в сапоги и надел рубашку с кривым воротом.
– Москва – столица русского народа, – говорил он, – а Петербург только резиденция императора.
– И заметьте, – отвечал я ему, – как далеко идет это различие: в Москве вас непременно посадят на съезжу, а в Петербурге сведут на гауптвахту.
«Аксаков остался до конца жизни вечным восторженным и беспредельно благородным юношей, он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем. В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шел по улице; К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне.
– Мне было слишком больно, – сказал он, – проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься. – Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах. Как я любил его в эту минуту ссоры!»[94]94
«Колокол», лист 90.
[Закрыть]
Ссора, о которой идет речь, была следствием той полемики, о которой я говорил. Грановский и мы еще кой-как с ними ладили, не уступая начал; мы не делали из нашего разномыслия личного вопроса. Белинский, страстный в своей нетерпимости, шел дальше и горько упрекал нас. «Я жид по натуре, – писал он мне из Петербурга, – и с филистимлянами за одним столом есть не могу… Грановский хочет знать, читал ли я его статью в «Москвитянине»? Нет, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания».
Зато честили его и славяне. «Москвитянин», раздраженный Белинским, раздраженный успехом «Отечественных записок» и успехом лекций Грановского, защищался чем попало и всего менее жалел Белинского; он прямо говорил о нем как о человеке опасном, жаждущем разрушения, «радующемся при зрелище пожара».
Впрочем, «Москвитянин» выражал преимущественно университетскую, доктринерскую партию славянофилов. Партию эту можно назвать не только университетской, но и отчасти правительственной. Это большая новость в русской литературе. У нас рабство или молчит, берет взятки и плохо знает грамоту, или, пренебрегая прозой, берет аккорды на верноподданнической лире.
Булгарин с Гречем не идут в пример: они никого не надули, их ливрейную кокарду никто не принял за отличительный знак мнения. Погодин и Шевырев, издатели «Москвитянина», совсем напротив, были добросовестно раболепны. Шевырев – не знаю отчего, может, увлеченный своим предком, который середь пыток и мучений, во времена Грозного, пел псалмы и чуть не молился о продолжении дней свирепого старика; Погодин – из ненависти к аристократии.
Бывают времена, в которые люди мысли соединяются с властью, но это только тогда, когда власть ведет вперед, как при Петре I, защищает свою страну, как в 1812 году, врачует ее раны и дает ей вздохнуть, как при Генрихе IV и, может быть, при Александре II[95]95
Писано в 1855 году.
[Закрыть]. Но выбрать самую сухую и ограниченную эпоху русского самовластья и, опираясь на батюшку-царя, вооружаться против частных злоупотреблений аристократии, развитой и поддержанной той же царской властью, – нелепо и вредно.
Говорят, что, защищаясь преданностью к царской власти, можно смелее говорить правду. Зачем же они ее не говорили?
Погодин был полезный профессор, явившись с новыми силами и с не новым Гереном на пепелище русской истории, вытравленной и превращенной в дым и прах Каченовским. Но как писатель он имел мало значения, несмотря на то, что он писал все, даже Гец фон Берлихингена по-русски. Его шероховатый, неметеный слог, грубая манера бросать корноухие, обгрызенные отметки и нежеванные мысли, вдохновил меня как-то в старые годы, и я написал в подражание ему небольшой отрывок из «Путевых записок Ведрина». Строгонов (попечитель), читая их, сказал:
– А ведь Погодин, верно, думает, что он это в самом деле написал.
Шевырев вряд даже сделал ли что-нибудь как профессор. Что касается до его литературных статей, я не помню во всем писанном им ни одной оригинальной мысли, ни одного самобытного мнения. Слог его зато совершенно противуположен погодинскому: дутый, губчатый, вроде неокрепнувшего бланманже и в которое забыли положить горького миндалю, хотя под его патокой и заморена бездна желчной, самолюбивой раздражительности. Читая Погодина, все думаешь, что он бранится, и осматриваешься, нет ли дам в комнате. Читая Шевырева, все видишь что-нибудь другое во сне.
Говоря о слоге этих сиамских братьев московского журнализма, нельзя не вспомнить Георга Форстера, знаменитого товарища Кука по Сандвичевским островам, и Робеспьера – по Конвенту единой и нераздельной республики. Будучи в Вильне профессором ботаники и прислушиваясь к польскому языку, так богатому согласными, он вспомнил своих знакомых в Отаити, говорящих почти одними гласными, и заметил: «Если б эти два языка смешать, какое бы вышло звучное и плавное наречие!»
Тем не меньше, хотя и дурным слогом, но близнецы «Москвитянина» стали зацеплять уж не только Белинского, но и Грановского за его лекции. И все с тем же несчастным отсутствием такта, который восстановлял против них всех порядочных людей. Они обвиняли Грановского в пристрастии к западному развитию, к известному порядку идей, за которые Николай из идеи порядка ковал в цепи да посылал в Нерчинск.
Грановский поднял их перчатку и смелым, благородным возражением заставил их покраснеть. Он публично, с кафедры спросил своих обвинителей, почему он должен ненавидеть Запад и зачем, ненавидя его развитие, стал бы он читать его историю? «Меня обвиняют, – сказал Грановский, – в том, что история служит мне только для высказывания моего воззрения. Это отчасти справедливо, я имею убеждения и провожу их в моих чтениях; если б я не имел их, я не вышел бы публично перед вами для того, чтоб рассказывать, больше или меньше занимательно, ряд событий».
Ответы Грановского были так просты и мужественны, его лекции – так увлекательны, что славянские доктринеры притихли, а молодежь их рукоплескала не меньше нас. После курса был даже сделан опыт примирения. Мы давали Грановскому обед после его заключительной лекции. Славяне хотели участвовать с нами, и Ю. Самарин был выбран ими (так, как я нашими) в распорядители. Пир был удачен; в конце его, после многих тостов, не только единодушных, но выпитых, мы обнялись и облобызались по-русски с славянами. И. В. Киреевский просил меня одного: чтоб я вставил в моей фамилье ы вместо е и через это сделал бы ее больше русской для уха. Но Шевырев и этого не требовал, напротив, обнимая меня, повторял своим soprano: «Он и с е хорош, он и с е русский». С обеих сторон примирение было откровенно и без задних мыслей, что, разумеется, не помешало нам через неделю разойтись еще далее.
Примирения, вообще, только тогда возможны, когда они не нужны, т. е. когда личное озлобление прошло или мнения сблизились и люди сами видят, что не из чего ссориться. Иначе всякое примирение будет взаимное ослабление, обе стороны полиняют, т. е. сдадут свою резкую краску. Попытка нашего Кучук-Кайнарджи очень скоро оказалась невозможной, и бой закипел с новым ожесточением. С нашей стороны было невозможно заарканить Белинского; он слал нам грозные грамоты из Петербурга, отлучал нас, предавал анафеме и писал еще злее в «Отечественных записках». Наконец он торжественно указал пальцем против «проказы» славянофильства и с упреком повторил: «Вот вам они!» Мы все понурили голову. Белинский был прав!
Умирающей рукой некогда любимый поэт, сделавшийся святошей от болезни и славянофилом по родству, хотел стегнуть нас; по несчастию, он для этого избрал опять-таки полицейскую нагайку. В пьесе под заглавием «Не наши» он называл Чаадаева отступником от православия, Грановского – лжеучителем, растлевающим юношей, меня – слугой, носящим блестящую ливрею западной науки, и всех трех – изменниками отечеству. Конечно, он не называл нас по имени, – их добавляли чтецы, носившие с восхищением из залы в залу донос в стихах. К. Аксаков с негодованием отвечал ему тоже стихами, резко клеймя злые нападки и называя «не нашими» разных славян, во Христе бозе нашем жандармствующих.
Обстоятельство это прибавило много горечи в наши отношения. Имя поэта, имя чтеца, круг, в котором он жил, круг, который этим восхищался, – все это сильно раздражало умы. Споры наши чуть-чуть было не привели к огромному несчастию, к гибели двух чистейших и лучших представителей обеих партий. Едва усилиями друзей удалось затушить ссору Грановского с П. В. Киреевским, которая быстро шла к дуэли.
Середь этих обстоятельств Шевырев, который никак не мог примириться с колоссальным успехом лекций Грановского, вздумал побить его на его собственном поприще и объявил свой публичный курс. Читал он о Данте, о народности в искусстве, о православии в науке и пр.; публики было много, но она осталась холодна. Он бывал иногда смел, и это было очень оценено, но общий эффект ничего не произвел. Одна лекция осталась у меня в памяти – это та, в которой он говорил о книге Мишле «Lе Peuple» и о романе Ж. Санда «La Маге au Diable», потому что он в ней живо коснулся живого и современного интереса. Трудно было возбудить сочувствие, говоря о прелестях духовных писателей восточной церкви и подхваливая греко-российскую церковь. Только Федор Глинка и супруга его Евдокия, писавшая «о млеке пречистой девы» сидели обыкновенно рядышком на первом плане и скромно опускали глаза, когда Шевырев особенно неумеренно хвалил православную церковь.
Шевырев портил свои чтения тем самым, чем портил свои статьи, – выходками против таких идей, книг и лиц, за которые у нас трудно было заступаться, не попавши в острог.
Между тем, «каких ни вымышляли пружин, чтоб умудриться» хорошо издавать «Москвитянина», он решительно не шел. Для живого полемического журнала надобно непременно иметь чутье современности, надобно иметь ту нежную щекотливость нерв, которая тотчас раздражается всем, что раздражает общество. Издатели «Москвитянина» вовсе были лишены этого ясновидения, и, как ни вертели они бедного Нестора и бедного Данта, они убедились наконец сами, что ни рубленой сечкой погодинских фраз, ни поющей плавностью шевыревского красноречия ничего не возьмешь в нашем испорченном веке. Они подумали, подумали и решились предложить главную редакцию И. В. Киреевскому. Выбор Киреевского был необыкновенно удачен не только со стороны ума и талантов, но и с финансовой стороны. Я сам ни с кем в мире не желал бы так вести торговых дел, как с Киреевским.
Чтоб дать понятие о хозяйственной философии его, я расскажу следующий анекдот. У него был конский завод, лошадей приводили в Москву, делали им оценку и продавали. Однажды является к нему молодой офицер покупать лошадь, конь сильно ему приглянулся; кучер, видя это, набавил цену, они поторговались, офицер согласился и взошел к Киреевскому. Киреевский, получая деньги, справился в списке и заметил офицеру, что лошадь оценена в восемьсот рублей, а не в тысячу, что кучер, вероятно, ошибся. Это так озадачило кавалериста, что он попросил позволения снова осмотреть лошадь и, осмотревши, отказался, говоря: «Хороша должна быть лошадь, за которую хозяину было совестно деньги взять»… Где же лучше можно было взять редактора?
Он горячо принялся за дело, потратил много времени, переехал для этого в Москву, но при всем своем таланте не мог ничего сделать. «Москвитянин» не отвечал ни на одну живую, распространенную в обществе потребность и, стало быть, не мог иметь другого хода, как в своем кружке. Неуспех должен был сильно огорчить Киреевского.
После второго крушения «Москвитянина» он не оправлялся, и сами славяне догадались, что на этой ладье далеко не уплывешь. У них стала носиться мысль другого журнала.
На этот раз победителями вышли не они. Общественное мнение громко решило в нашу пользу. В глухую ночь, когда «Москвитянин» тонул и «Маяк» не светил ему больше из Петербурга, Белинский, вскормивши своею кровью «Отечественные записки», поставил на ноги их побочного сына и дал им обоим такой толчок, что они могли несколько лет продолжать свой путь с одними корректорами и батырщиками, литературными мытарями и книжными грешниками. Белинского имя было достаточно, чтоб обогатить два прилавка и сосредоточить все лучшее в русской литературе в тех редакциях, в которых он принимал участие, – в то время как талант Киреевского и участие Хомякова не могли дать ни ходу, ни читателей «Москвитянину». Так я оставил поле битвы и уехал из России. Обе стороны высказались еще раз[96]96
Статья К. Кавелина и ответ Ю. Самарина. Об них в «Develop des idées révolut.»
[Закрыть], и все вопросы переставились громадными событиями 1848 года.
Умер Николай, новая жизнь увлекла славян и нас за пределы нашей усобицы, мы протянули им руки, но где они? – Ушли! И. К. Аксаков ушел, и нет этих «противников, которые были ближе нам многих своих».
Не легка была жизнь, сожигавшая людей, как свечу, оставленную на осеннем ветру.
Все они были живы, когда я в первый раз писал эту главу. Пусть она на этот раз окончится следующими строками из надгробных слов Аксакову.
«Киреевские, Хомяков и Аксаков сделали свое дело; долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей.
С них начинается перелом русской мысли. И когда мы это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии.
Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но неодинакая.
У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы – за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно.
Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству в чертах да по тому, что ее песни были нам роднее водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнатке было нам душно: всё почернелые лица из-за серебряных окладов, всё попы с, причетом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ее вечный плач об утраченном счастье раздирал наше сердце; мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний, мы знали и другое – что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш, – это наш меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство. А пока –
Такова была наша семейная разладица лет пятнадцать тому назад. Много воды утекло с тех пор, и мы встретили горный дух, остановивший наш бег, и они, вместо мира мощей, натолкнулись на живые русские вопросы. Считаться нам странно, патентов на пониманье нет; время, история, опыт сблизили нас, не потому, чтоб они нас перетянули к себе или мы их, а потому, что и они и мы ближе к истинному воззрению теперь, чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомневались в их горячей любви к России или они – в нашей.
На этой вере друг в друга, на этой общей любви имеем право и мы поклониться их гробам и бросить нашу горсть земли на их покойников с святым желанием, чтоб на могилах их, на могилах наших расцвела сильно и широко молодая Русь!»[98]98
«Колокол», 15 января 1861.
[Закрыть]








