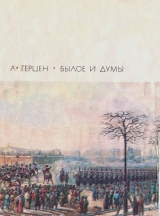
Текст книги "Былое и думы, том 1"
Автор книги: Александр Герцен
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 57 страниц)
– Бюргер, так как мы вчера согласились с вами в необходимости издавать журнал, то я и пришел прочесть вам его программу.
Прочитавши, он объявил, что пойдет к Маццини и многим другим и пригласит собраться для совещания у Гейнцена. Пошел и я к Гейнцену: он свирепо сидел на стуле за столом, держа в огромной ручище тетрадь, другую, он протянул мне, густо пробормотавши: "Бюргер, плац!"[497]497
Садитесь, гражданин! (от нем. Burger, Platz).
[Закрыть]
Человек восемь немцев и французов были налицо. Какой-то экс-народный представитель французского законодательного собрания делал смету расходов и писая что-то кривыми строчками. Когда вошел Маццини, Струве предложил прочесть программу, писанную Гейнценом. Гейнцен прочистил голос и начал читать по-немецки, несмотря на то, что общий всем язык был один французский.
Так как у них не было тени новой идеи, то программа была тысячной вариацией тех демократических разглагольствований, которые составляют такую же риторику на революционные тексты, как церковные проповеди на библейские. Косвенно предупреждая обвинение в социализме, Гейнцен говорил, что демократическая республика сама по себе уладит экономический вопрос к общему удовольствию. Человек, не содрогнувшийся перед требованием двух миллионов голов, боялся, что их орган сочтут коммунистическим.
Я что-то возразил ему на это после чтения, но по его отрывистым ответам, по вмешательству Струве и по жестам французского представителя догадался, что мы были приглашены на совет, чтоб принять программу Гейнцена и Струве, а совсем не для того, чтоб ее обсуживать; это было, впрочем, совершенно согласно с теорией Эльпиди-фора Антиоховича Зурова, новгородского военного губернатора[498]498
«Былое и думы», том II. (Прим. А. И. Герцена).
[Закрыть].
Маццини хотя и печально слушал, однако согласился и чуть ли не первый подписал на две-три акции. "Si om-nes consentiunt, ego non dessentio"[499]499
Если все согласны, я не возражаю (лат).
[Закрыть], подумал я a la Шуфтерле в шиллеровских «Разбойниках» и тоже подписался.
Однако ж акционеров оказалось мало; как представитель ни считал и ни прикидывал – подписанной суммы было недостаточно.
– Господа, – сказал Маццини, – я нашел средство победить это затруднение: издавайте сначала журнал только по-французски и по-немецки, что же касается итальянского перевода, я буду помещать все замечательные статьи в моей "Italia del Popolo", вот вам одной третью расходов и меньше.
– В самом деле! Чего же лучше!
Предложение Маццини было принято всеми. Он повеселел. Мне было ужасно смешно и смертельно хотелось показать ему, что я видел, как он передернул карту. Я подошел к нему и, высмотрев минуту, когда никого не было возле, сказал:
– Вы славно отделались от журнала.
– Послушайте, – заметил он, – ведь итальянская часть в самом деле лишняя.
– Так, как и две остальные! – добавил я. Улыбка скользнула по его лицу и так быстро исчезла, как будто ее и не было никогда.
Я тут видел Маццини во второй раз. Маццини, знавший о моей римской жизни, хотел со мной познакомиться. Одним утром мы отправились к нему в Паки с Л. Спини.
Когда мы вошли, Маццини сидел пригорюнившись за столом и слушал рассказ довольно высокого, стройного и прекрасного собой молодого человека с белокурыми волосами. Это был отважный сподвижник Гарибальди, защитник Vascello, предводитель римских легионеров Джакомо Медичи. Задумавшись и не обращая никакого внимания на происходившее, сидел другой молодой человек, с печально рассеянным выражением – это был товарищ Маццини по триумвирату, Марк Аврелий Саффи.
Маццини встал и, глядя мне прямо в лицо своими проницательными глазами, протянул дружески обе руки. В самой Италии редко можно встретить такую изящную в своей серьезности, такую строгую античную голову. Минутами выражение его лица было жестко, сурово, но оно тотчас смягчалось и прояснивалось. Деятельная, сосредоточенная мысль сверкала в его печальных глазах; в них и в морщинах на лбу – бездна воли и упрямства. Во всех чертах были видны следы долголетних забот, несланных ночей, пройденных бурь, сильных страстей или, лучше, одной сильной страсти, да еще что-то фанатическое – может, аскетическое.
Маццини очень прост, очень любезен в обращении, но привычка властвовать видна, особенно в споре; он едва (может скрыть досаду при противуречии, а иногда и не скрывает ее. Силу свою он знает и откровенно пренебрегает всеми наружными знаками диктаториальной обстановки. Популярность его была тогда огромна. В своей маленькой комнатке, с вечной сигарой во рту, Маццини в Женеве, как некогда папа в Авиньоне, сосредоточивал в своей руке нити психического телеграфа, приводившие его в живое сообщение со всем полуостровом. Он знал каждое биение сердца своей партии, чувствовал малейшее сотрясение, немедленно отвечал на каждое и давал общее направление всему и всем с поразительной неутомимостью.
Фанатик и в то же время организатор, он покрыл Италию сетью тайных обществ, связанных между собой и шедших к одной цели. Общества эти ветвились неуловимыми артериями, дробились, мельчали и исчезали в Апеннинах и в Альпах, в царственных pallazzi аристократов и в темных переулках итальянских городов, в которые никакая полиция не может проникнуть. Сельские попы, кондукторы дилижансов, ломбардские принчипе[500]500
князья (от итал. principe).
[Закрыть], контрабандисты, трактирщики, женщины, бандиты – все шло на дело, все были звенья цепи, примыкавшей к нему и повиновавшейся ему.
Последовательно, со времен Менотти и братьев Бандиера, ряд за рядом, выходят восторженные юноши, энергические плебеи, энергические аристократы, иногда старые старики… и идут по указаниям Маццини, рукоположенного старцем Бонарроти, товарищем и другом Гракха Бабефа, – идут на неровный бой, пренебрегая цепями и плахой и примешивая иной раз к предсмертному крику: "Viva 1Italia!" "Evviva Mazzini!"[501]501
Да здравствует Италия! Да здравствует Маццини! (итал.).
[Закрыть]
Такой революционной организации никогда не бывало нигде, да и вряд ли она возможна где-нибудь, кроме Италии, – разве в Испании. Теперь она утратила прежнее единство и прежнюю силу, она истощилась десятилетним мученичеством, она изошла кровью и истомой ожидания, ее мысль состарелась, да и тут еще какие порывы, какие примеры:
Пианори, Орсини, Пизакане!
Я не думаю, чтобы смертью одного человека можно было поднять страну из такого падения, в каком теперь Франция.
Я не оправдываю плана, вследствие которого Пизакане сделал свою высадку, она мне казалась так же несовременна, как два предпоследние опыта в Милане, но речь не о том, я здесь хочу только сказать о самом исполнении. Люди эти подавляют величием своей мрачной поэзии, своей страшной силы и останавливают всякий суд и всякое осуждение. Я не знаю примеров большего героизма ни у греков, ни у римлян, ни у мучеников христианства и реформы!
Кучка энергических людей приплывает к несчастному неаполитанскому берегу, служа вызовом, примером, живым свидетельством, что еще не все умерло в народе. Вождь, молодой, прекрасный, падает первый со знаменем в руке – а за ним падают остальные или, хуже, попадают в когти Бурбона.
Смерть Пизакане и смерть Орсини были два страшных громовых удара в душную ночь. Романская Европа вздрогнула – дикий вепрь, испуганный, отступил в Казерту и спрятался в своей берлоге. Бледный от ужаса, траурный кучер, мчащий Францию на кладбище, покачнулся на козлах.
Недаром высадка Пизакане так поэтически отозвалась в народе.
Sceser con larmi, e a noi поп fecer guerra,
Ma sinchinaron per baciar la terra:
Ad uno, ad uno li guardai nel viso,
Tutti avean una lagrima e un sorriso,
Li disser ladri, usciti dalle tane,
Ma поп portaron via nemmeno un pane;
E li sentii mandare un solo grido:
Siam venuti a morir per nostro lido
Eran trecento, eran giovani e forti:
E sono mortil
Con gli occhi azzuri, e coi capelh doro
Un giovin camminava innanzi a loro;
Mi feci ardita, e presol per la mano,
Gli chiesi: Dove vai bel capitano?
Guardommi e mi rispose – О mia sorella,
Vado a morir per la mia patria bella!
lo mi sentii tremare tutto il core;
Ne potei dirgli: Vaiuti il Signore,
Eran trecento, eran giovani с forti:
E sono mortji
L. Mercantini. «La Spigolatrice di sapri»[502]502
Вот бедный прозаический перевод этих удивительных строк, перешедших в народную легенду:
"Они сошли с оружием в руках, но они не воевал с нами: они бросились на землю и целовали ее; я взглянула на каждого из них, на каждого – у всех дрожала слеза на глазах, и у всех была улыбка. Нам говорили, что это разбойники, вышедшие из своих вертепов; но они ничего не взяли, ни даже куска хлеба, и мы только слышали от них одно восклицание? «Мы пришли умереть за наш край!»
Их было триста, они были молоды и сильны… и все погибли!
Перед ними шел молодой золотовласый вождь с голубыми глазами… Я приободрилась, взяла его за руку и спросила: «Куда идешь ты, прекрасный вождь?» Он посмотрел на меня и сказал: «Сестра моя, иду умирать за родину». И сильно заныло мое сердце, и я не в силах была вымолвить: «Бог тебе в помочь!»
Их было триста, они были молоды и сильны… и все погибли!" И я знал bel capitano (прекрасного вождя) и не раз беседовал с ним о судьбах его печальной родины… (итал.) (Прим. А. И. Герцена.).
[Закрыть].
В 1849 году Маццини был властью, правительства недаром боялись его; звезда его тогда была в полном блеске – но это был блеск заката. Она еще долго продержалась бы на своем месте, бледнея мало-помалу, но после повторенных неудач и натянутых Опытов она стала быстро склоняться.
Одни из друзей Маццини сблизились с Пиэмонтом, другие с Наполеоном. Манин пошел своим революционным проселком, составил расколы, федеральный характер итальянцев поднял голову.
Сам Гарибальди скрепя сердце произнес стр0гий суд над Маццини и, увлекаемый его врагами, дал гласность письму, в котором косвенно обвинял его.
…………………………………………………………………
…..
Вот от этого Маццини поседел, состарелся; от этого черта желчевой нетерпимости, даже озлобления, прибавилась в его лице, в его взгляде. Но такие люди не сдаются, не уступают, чем хуже дела их, тем выше знамя. Маццини, теряя сегодня друзей, Деньги, едва ускользая от цепей и виселицы, становится завтра настойчивее и упорнее, собирает новые деньги, ищет новых друзей, отказывает себе во всем, даже во сне и пище, обдумывает целые ночи новые средства и действительно всякий раз создает их, бросается снова в бой и, снова разбитый, – опять принимается за дело с судорожной горячностью.
В этом непреклонном постоянстве, в этой вере, идущей наперекор фактам, в этой неутомимой деятельности, которую неудача только вызывает и подзадоривает, есть что-то великое и, если хотите, что-то безумное. Часто эта-то доля безумия и обусловливает успех, она действует на нервы народа, увлекает его. Великий человек, действующий непосредственно, должен быть великим маньяком, особенно с таким восторженным народом, как итальянцы, к тому же защищая религиозную мысль национальности. Одни последствия могут показать, потерял ли Маццини излишними и неудачными опытами магнетическую силу свою на итальянские массы. Не разум, не логика ведет народы, а вера, любовь и ненависть.
Выходцы итальянские не были выше других ни талантами, ни образованием: большая часть их даже ничего не знала, кроме своих поэтов, кроме своей истории; но они не имели ни битого, стереотипного чекана французских строевых демократов, которые рассуждают, декламируют, восторгаются, чувствуют стадами одно и то же и одинаким образом выражают свои чувства, ни того неотесанного, грубого, харчевенно-бурсацкого характера, которым отличались немецкие выходцы. Французский дюжинный демократ – буржуа in spe[503]503
в будущем (лат.).
[Закрыть], немецкий революционер, так же как немецкий бурш – тот же филистер, но в другом периоде развития. Итальянцы самобытнее, индивидуальнее.
Французы заготовляются тысячами по одному шаблону. Теперешнее правительство не создало, но только поняло тайну прекращения личностей – оно совершенно во французском духе устроило общественное воспитание, то есть воспитание вообще, потому что домашнего воспитания во Франции нет. Во всех городах империи преподают в тот же день и в тот же час то тем же книгам – одно и то же. На всех экзаменах, задаются одни и те же вопросы, одни и те же примеры, учителя, отклоняющиеся от текста или меняющие программу, немедленно исключаются. Эта бездушная стертость воспитания только привела в обязательную, наследственную форму то, что прежде бродило в умах. Это формально демократический уровень, приложенный к умственному развитию. Ничего подобного в Италии. Федералист и художник по. натуре, итальянец с ужасом бежит от всего казарменного, однообразного, геометрически правильного. Француз – природный солдат: он любит строй, команду, мундир, любит задать страху. Итальянец, если на то пошло, – скорее бандит, чем солдат, и этим я вовсе не хочу сказать что-нибудь дурное о нем. Он предпочитает, подвергаясь казни, убивать врага по собственному желанию, чем убивать по приказу, но зато без всякой ответственности посторонних. Он любит лучше скудно жить в горах и скрывать контрабандистов, чем открывать их и почетно служить в жандармах.
Образованный итальянец выработывался, как наш брат, сам собой, жизнию, страстями, книгами, которые случались под рукой, и пробрался до такого или иного понимания. Оттого у него и у нас есть пробелы, неспетости. Он и мы во многом уступаем специальной окон-ченности французов и теоретической учености немцев, но зато у нас и у итальянцев ярче цвета.
У нас с ними есть даже общие недостатки, Итальянец имеет ту же наклонность к лени, как и мы; он не находит, что работа – наслаждение; он не любит ее тревогу, ее усталь, ее недосуг. Промышленность в Италии почти столько же отстала, как у нас; у них, как у нас, лежат под ногами клады, и они их не выкапывают. Нравы в Италии не изменились новомещанским направлением до такой степени, как во Франции и Англии.
История итальянского мещанства совсем не похожа на развитие буржуазии во Франции и Англии. Богатые мещане, потомки del popolo grasso[504]504
разжиревшего класса (итал.).
[Закрыть], не раз счастливо соперничали с феодальной аристократией, были властелинами городов, и оттого они стали не дальше, а ближе к плебею и контадину[505]505
крестьянину (от итал. contadino).
[Закрыть], чем наскоро обогатевшая чернь других стран. Мещанство, в французском смысле, собственно представляется в Италии особой средой, образовавшейся со времени первой революции и которую можно назвать, как это делается в геологии, пиэмонт-ским слоем. Он отличается в Италии, так же как во всем материке Европы, тем, что во многих вопросах постоянно либерален и во всех – боится народа и слишком нескромных толков о труде и заплате, да еще тем, что он всегда уступает врагам сверху, не уступая никогда своим снизу.
Личности, составлявшие итальянскую эмиграцию, были выхвачены из всевозможных слоев общества. Чего и чего не находилось около Маццини, между старыми именами из летописей Гвичардини и Муратори, к которым народное ухо привыкло веками, как Литты, Бор-ромеи, Дель-Верме, Бельжойозо, Нани, Висконти, и каким-нибудь полудиким ускоком Ромео из Абруцц, с его темным, до оливкового цвета, лицом и неукротимой отвагой! Тут были и духовные, как Сиртори, поп-герой, который, при первом выстреле в Венеции, подвязал свою сутану и все время осады и защиты Маргеры с ружьем в руке дрался под градом пуль в передовых рядах; тут был и блестящий военный штаб неаполитанских офицеров, как Пизакане, Козенц и братья Меццокапо, тут были и трастеверинские плебеи, закаленные в верности и лишениях, суровые, угрюмые, немые в беде, скромные и несокрушимые, как Пианори, и рядом с ними тосканцы, изнеженные даже в произношении, но также готовые на борьбу. Наконец, тут были Гарибальди, целиком взятый из Корнелия Непота, с простотой ребенка, с отвагой льва, и Феличе Орсини, чудная голова которого так недавно скатилась со ступеней эшафота.
Но, назвав их, нельзя не приостановиться.
С Гарибальди я, собственно, познакомился в 1854 году, когда он приплыл из Южной Америки, капитаном корабля, и стал в Вестиндских доках; я отправился к нему с одним из его товарищей по римской войне и с Орсини. Гарибальди в толстом светлом пальто, с яркоцветным шарфом на шее и фуражкой на голове казался пне больше истым моряком, чем тем славным предводителем римского ополчения, статуэтки которого в фантастическом костюме продавались во всем свете.
Добродушная простота его обращения, отсутствие всякой претензии, радушие, с которым он принимал, располагали в его пользу. Экипаж его почти весь состоял из итальянцев, он был глава и власть, и, я уверен, власть строгая, но все весело и с любовью смотрели на него, они гордились своим капитаном. Гарибальди угощал нас завтраком в своей каюте, особенно приготовленными устрицами из Южной Америки, сушеными плодами, портвейном, – вдруг он вскочил, говоря: "Постойте! С вами мы выпьем другого вина", – и побежал наверх; вслед за тем матрос принес какую-то бутылку; Гарибальди посмотрел на нее с улыбкой и налил нам по рюмке… Чего нельзя было ожидать от человека, приехавшего из-за океана? Это был просто-напросто белет из его родины, Ниццы, который он привез с собой в Лондон из Америки.
Между тем в простых и бесцеремонных разговорах его мало-помалу становилось чувствительно присутствие силы; без фраз, без общих мест народный вождь, удивлявший своей храбростью старых солдат, обличался, и в капитане корабля легко уже было узнать того уязвленного льва, который, огрызаясь на каждом шагу, отступил после взятия Рима и, растеряв своих сподвижников, снова сзывал в Сан-Марино, в Равенне, в Ломбардии, в Тироле, в Тессино солдат, мужиков, бандитов, кого попало, чтоб только снова ударить на врага, и это возле тела своей подруги, не вынесшей всех трудностей и лишений похода.
Мнения его в 1854 году уже значительно расходились с Маццини, хотя он и был с ним в хороших отношениях. Он при мне говорил ему, что Пиэмонт дразнить не надобно, что главная цель теперь – освободиться от австрийского ига, и очень сомневался, чтоб Италия так была готова к единству и республике, как думал Маццини. Он был совершенно против всех попыток и опытов восстания.
Когда он отплывал за углем в Нью-кестль-на-Тейне и оттуда отправлялся в Средиземное море, я сказал ему, что мне ужасно нравится его морская жизнь, что он из всех эмигрантов избрал благую часть.
– А кто им не велит сделать то же, – возразил он с жаром. – Это была моя любимая мечта; смейтесь над ней, если хотите, но я и теперь ее люблю. Меня в Америке знают; я мог бы иметь под моим начальством – три, четыре таких корабля. На них я взял бы всю эмиграцию: матросы, лейтенанты, работники, повара – все были бы эмигранты. Что теперь делать в Европе? Привыкать к рабству, изменять себе или в Англии ходить по миру. Поселиться в Америке еще хуже-это конец, это страна "забвения родины", это новое отечество, там другие интересы, все другое; люди, остающиеся в Америке, выпадают из рядов. Что же лучше моей мысли (и лицо его просветлело), что же лучше, как собраться в кучку, около нескольких мачт, и носиться по океану, закаляя себя в суровой жизни моряков, в борьбе с стихиями, с опасностью. Пловучая революция, готовая пристать к тому или другому берегу, независимая и недосягаемая!
В эту минуту он мне казался каким-то классическим героем, лицом из "Энеиды"… о котором – живи он в иной век – сложилась бы своя легенда, свое "Arma virumque cano!"[506]506
Пою оружие и мужа! (лат.).
[Закрыть]
Орсини был совсем другого рода человек. Дикую силу и страшную энергию свою он доказал 14 января 1858 года в Rue Lepelletier; они приобрели ему великое имя в истории и положили его тридцатишестилетнюю голову под нож гильотины. Я познакомился с Орсини в Ницце в 1851 году; временами мы были даже очень близки, потом расходились, снова сближались,
наконец, какая-то серая кошка пробежала между нами в 1856 году, и мы хотя примирились, но уже не по-прежнему смотрели друг на друга.
Такие личности, как Орсини, развиваются только в Италии, зато в ней они развиваются во все времена, во все эпохи: заговорщики-художники, мученики и искатели приключений, патриоты и кондотьеры, Теверино и Риензи, все, что хотите – только не пошлые, будничные мещане. Такие личности ярко вырезываются в летописях каждого итальянского города. Они дивят добром, дивят злом, поражают силой страстей, силой воли. Беспокойная закваска бродит в них с ранних лет, им надобна опасность, надобен блеск, лавры, похвалы: это натуры чисто южные, с острой кровью в жилах, с страстями, почти непонятными для нас, готовые на всякое лишение, на всякую жертву из своего рода жажды наслаждения. Самоотвержение, преданность идут у них вместе с мстительностью и нетерпимостью; они просты во многом и лукавы во многом. Неразборчивые на средства, они неразборчивы и на опасности; потомки римских "отцов отечества" и дети во Христе отцов иезуитов, воспитанные на классических воспоминаниях и на преданиях средневековых смут, у них в душе бродит бездна античных добродетелей и католических пороков. Они не дорожат своею жизнию, но не дорожат также и жизнию ближнего; страшная настойчивость их равняется англосаксонскому упрямству. С одной стороны, наивная любовь к внешнему, самолюбие, доходящее до тщеславия, до сладострастного желания упиться властью, рукоплесканиями, славой, с другой – весь римский героизм лишений и смерти.
Людей этой энергии останавливать можно только гильотиной – а то, едва спасшись от сардинских жандармов, они делают заговоры в самых когтях австрийского коршуна и, на другой день после чудесного спасения из каземат Мантуи, рукой, еще помятой от прыжка, начинают чертить проект гранат, потом, лицом к лицу с опасностью – бросают их под кареты. В самой неудаче они растут до колоссальных размеров и своею смертью наносят удар, стоящий осколка гранаты…
Орсини молодым человеком попал в руки тайной полиции Григория XIV: он был судим за участие в романском движении и, осужденный на галеры, просидел в тюрьме до амнистии Пия IX. Огромное знание народного духа и железный закал характера вынес он из этой жизни с контрабандистами, с bravi[507]507
наемными убийцами (итал).
[Закрыть], с остатками карбонаров. От этих людей, находившихся в постоянной, ежедневной борьбе с обществом, давившим их, научился он искусству владеть собой, искусству молчать не только перед судом, но и с друзьями.
Люди вроде Орсини сильно действуют на других, они нравятся своей замкнутой личностью, и между тем с ними не по себе; на них смотришь с тем нервным наслаждением, перемешанным с трепетом, с которым мы любуемся грациозным движениям и бархатным прыжкам барса. Они дети, но дети злые. Не только дантов ад "вымощен" ими, но ими полны все следующие века, выращенные на грозной поэзии его и на озлобленной мудрости Макиавелли. Маццини так же принадлежит к их семье, как Козимо Медичи, Орсини – как Иоанн Прочида. Из них даже нельзя исключить ни великого "искателя морских приключений" Колумба, ни величайшего "бандита" новейших веков – Наполеона Бонапарта.
Орсини был поразительно хорош собой: вся наружность его, стройная и грациозная, невольно обращала на него внимание; он был тих, мало говорил, размахивал руками меньше, чем его соотечественники, и никогда не подымал голоса. Длинная черная борода (как он носил ее в Италии) придавала ему вид какого-то молодого этрурийского жреца. Вся голова его была необыкновенно красива и разве только несколько попорчена неправильной линией носа[508]508
Отсеченную голову Орсини, писали газеты, Наполеон велел обмакнуть в селитряную кислоту, чтоб нельзя было снять маски. Какой прогресс в гуманности и химии с тех пор, как голову Иоанна Предтечи подавали на золотом блюде Иродиаде! (Прим. А. И. Герцена.).
[Закрыть]. И при всем этом в чертах Орсини, в его глазах, в его частой улыбке, в его кротком голосе было что-то, останавливавшее близость. Видно было, что он держит себя на узде, никогда вполне не отдается и удивительно владеет собой; видно было, что с этих улыбающихся губ не пало ни одного слова без его воли, что за этими внутрь сверкающими глазами какие-то пропасти, что там, где наш брат призадумается и отшарахнется, он улыбнется, не переменится в лице, не повысит голоса и – пойдет далее без раскаяния и сомнения.
Весною 1852 года Орсини ждал очень важной вести по семейным делам; его мучило, что он не получал письма, он мне говорил это много раз, и я знал, в какой тревоге он жил. Раз, во время обеда, при двух-трех посторонних вошел почтальон в переднюю; Орсини велел спросить, нет ли письма к нему; оказалось, что какое-то письмо действительно было к нему, он взглянул на него, положил в карман и продолжал разговор. Часа через полтора, когда мы остались втроем, Орсини нам сказал: "Ну, слава богу, наконец-то получил я ответ, все очень хорошо". Мы, знавшие, что он ожидает письма, не догадались, до того равнодушно он распечатал письмо и потом положил его в карман; такой человек родился заговорщиком. Он и был им всю жизнь.
И что же сделал он с своей энергией? Гарибальди с своей отвагой? Пианори с своим револьверЬм? Пи-закане и другие мученики, кровь которых еще не засохла? От австрийцев Италию освободит разве Пиэмонт, от неаполитанского Бурбона толстый Мюрат, оба под покровительством Бонапарта. О divina Corn-media![509]509
божественная комедия (итал.).
[Закрыть] или просто Commedia! в том смысле, как папа Киарамонти говорил Наполеону в Фонтенебло!
…С двумя лицами, о которых я упомянул, говоря о первой встрече с Маццини, я впоследствии очень сблизился, особенно с Саффи.
Медичи – ломбард. В начальной юности, томимый ^безнадежным положением Италии, он уехал в Испанию, потом в Монтевидео, в Мексику; он служил в рядах кристиносов, был, кажется, капитаном и, наконец, возвратился на родину после избрания Мастая Феррети. Италия оживала, Медичи бросился в движение. Начальствуя римскими легионерами во время осады, он наделал чудеса храбрости; но французские орды все-таки вошли в Рим по трупам многих благородных жертв по трупу Лавирона, который, как бы в искупление своему народу, дрался против него и пал, сраженный французской пулей в воротах Рима.
Трибун-воин Медичи должен рисоваться в воображении кондотьером, загоревшим от пороха и от тропического солнца, с резкими чертами, с отрывистой, громкой речью, с энергической мимикой. Бледный, белокурый, с нежными чертами, с глазами, исполненными кротости, с изящными манерами – Медичи скорее походил на человека, проводившего всю жизнь в дамском обществе, чем на герилиаса[510]510
испанского партизана (от испан. gerriltas).
[Закрыть] и агитатора; поэт, мечтатель, тогда страстно влюбленный, – в нем все было изящно и нравилось.
Несколько недель, проведенных с ним в Генуе, сделали мне большое добро; это было в самое черное для меня время, в 1852 году, месяца полтора после похорон. Я был сбит с толку: вехи, знаки фарватера были потеряны, не знаю, был ли я похож и тогда на поврежденного, как заметил Орсини в своих "Записках", но мне было скверно. Медичи жалел меня; он этого не говорил, но вечером поздно, часов в двенадцать, он стучал иной раз ко мне в дверь и приходил поболтать, садясь на мою постель (мы раз, беседуя с ним таким образом, поймали на одеяле скорпиона). Он стучал иной раз и в седьмом часу утра, говоря: "На дворе прелесть, пойдемте в Альбаро", – там жила красавица испанка, которую он любил. Он не надеялся на скорую перемену обстоятельств, впереди виднелись годы изгнания, все становилось хуже, тусклее, но в нем было что-то молодое, веселое, иногда наивное; я это замечал почти у всех натур этого закала.
В день моего отъезда пришли ко мне обедать несколько близких людей Пизакане, Мордини, Козенц…
– Отчего, – сказал я шутя, – наш друг Медичи, с своими белокурыми волосами и северным аристократическим лицом, напоминает мне скорее каких-то вандейковских рыцарей, чем итальянца?
– Это натурально, – прибавил, продолжая шутить, Пизакане. – Джакомо ломбард, он потомок какого-нибудь немецкого рыцаря.
– Fratelli[511]511
Братья (итал.).
[Закрыть], – сказал Медичи, – немецкой крови в этих жилах нет ни капли, ни одной капли!
– Хорошо вам толковать; нет, вы приведите доказательство, объясните нам, отчего у вас северные черты, – продолжал тот.
– Извольте, – сказал Медичи. – Если у меня северные черты, то, верно, какая-нибудь из моих прабабушек забылась с каким-нибудь поляком!
Чище и проще Саффи я не встречал натуры между не русскими. Западные люди часто бывают недальние и оттого кажутся простыми, недогадливыми; но талантливые натуры редко бывают просты. У немцев встречается противная простота практических недорослей, у англичан – простота от нерасторопности ума, оттого, что они все как будто спросонья, не могут порядком прийти в себя. Зато французы постоянно исполнены задних мыслей, заняты своей ролью. Рядом с отсутствием простоты у них другой недостаток: все они прескверные актеры и не умеют скрыть игры. Ломанье, хвастовство и привычка к фразе до такой степени проникли в кровь и плоть их, что люди гибли, платили жизнию из-за актерства, и жертва их все-таки была ложь. Это страшные вещи, многие негодуют за высказывание их, но обманываться еще страшнее.
Вот почему становится так отрадно, так легко дышать, когда на этом толкуне посредственностей с притязаниями и талантов с несносным жеманством и самохвальством встречается человек сильный, без малейших румян, без притязаний, без самолюбия, кричащего, как нож по тарелке. Точно из душного театрального коридора, освещенного лампами, выходишь на солнце, после утреннего спектакля, и, вместо картонных магнолий и пальм из парусины, видишь настоящие липы и дышишь свежим, здоровым воздухом. К этого рода людям принадлежит Саффи. Маццини, старик Армеллини и он были триумвирами во время Римской республики., Саффи заведовал министерством внутренних дел и до конца борьбы с французами был на первом плане; а на первом плане значило тогда – под ядрами и пулями.
Он из своего изгнания еще раз переходил Апеннины: эту жертву принес он из благочестия, без веры, из чувства великой преданности, чтоб не огорчить одних, чтоб своим отсутствием не послужить дурным примером. Он прожил несколько недель в Болонье, где его в двадцать четыре часа расстреляли бы, если б он попался; и задача его не состояла только в том, чтоб скрываться, – ему надобно было действовать, приготовлять движение, ожидая новостей из Милана. Я никогда от него не слышал об особенностях этой жизни. Но я о ней слышал, и очень много, от человека, который мог быть судьей в делах отваги, и слышал в то время, когда личные отношения их сильно поколебались. Орсини его сопровождал через Апеннины: он рассказывал мне с восхищением об этом ровном, светлом покое, об ясном, почти веселом расположении Саффи в то время, когда они пешком спускались с гор; в виду всякого рода врагов Саффи беззаботно пел народные песни и повторял стихи Данта… Я думаю, он и на плаху пошел бы с теми же стихами и с теми же песнями, вовсе не думая о своем подвиге.
В Лондоне, у Маццини или у его друзей, Саффи большей частию молчал, участвовал редко в спорах, иногда одушевлялся на минуту и опять утихал. Его не понимали, это было для меня ясно, il ne savait pas se faire valoir…[512]512
он не умел придавать себе цену (франц).
[Закрыть] Но я ни от одного итальянца из тех, которые отпадали от Маццини, не слыхал ни одного, ни малейшего слова против Саффи.
Раз, вечером, зашел спор между мной и Маццини о Леопарди.
Есть пьесы Леопарди, которым я страстно сочувствую. У него, как у Байрона, много убито рефлекцией, но у него, как у Байрона, стих иногда режет, делает боль, будит нашу внутреннюю скорбь. Такие слова, стихи есть у Лермонтова, есть они и в некоторых ямбах Барбье.
Леопарди была последняя книга, которую читала, перелистывала перед смертью Natalie…
Людям деятельности, агитаторам, двигателям масс непонятны эти ядовитые раздумья, эти сокрушительные. сомнения. Они в них видят одну бесплодную жалобу, одно слабое уныние. Маццини не мог сочувствовать Леопарди, это я вперед знал; но он на него напал с каким-то ожесточением. Мне было очень досадно; разумеется, он на него сердился за то, что он ему не годился на пропаганду. Так Фридрих II мог сердиться… я не знаю… ну, на Моцарта например, зачем он не годился в драбанты. Это – возмутительное стеснение личности, подчинение их категориям, кадрам, точно историческое развитие барщина, на которую сотские гонят, не спрашивая воли, слабого и крепкого, желающего и нежелающего.








