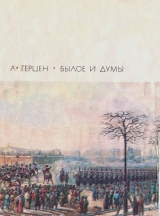
Текст книги "Былое и думы, том 1"
Автор книги: Александр Герцен
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 57 страниц)
Если мы от этого общего определения наших противуположных точек зрения перейдем к частным, мы, при одинаковости стремлений, найдем не меньше антагонизма даже в тех случаях, когда мы согласны вначале. Примером это легче объяснить.
Мы совершенно согласны в отношении к религии; но согласие это идет только на отрицание надзвездной религии, и как только мы являемся лицом к лицу с подлунной религией, расстояние между нами неизмеримо. Из мрачных стен собора, пропитанных ладаном, вы переехали в светлое присутственное место, из гвельфов вы сделались гибеллином, чины небесные заменились для вас государственным чином, поглощение лица в боге – поглощением его в государстве, бог заменен централизацией и поп – квартальным надзирателем.
Вы в этой перемене видите переход, успех, мы – новые цепи. Мы не хотим быть ни гвельфами, ни гибеллинами. Ваша светская, гражданская и уголовная религия тем страшнее, что она лишена всего поэтического, фантастического, всего детского характера своего, который заменится у вас канцелярским порядком, идолом государства с царем наверху и палачом внизу. Вы хотите, чтобы человечество, освободившееся от церкви, ждало столетия два в передней присутственного места, пока каста жрецов-чиновников и монахов-доктринеров решит, как ему быть вольным и насколько. Вроде наших комитетов об освобождении крестьян. А нам все это противно; мы можем многое допустить, сделать уступку, принести жертву обстоятельствам, но для вас это не жертва. Разумеется, и тут вы счастливее нас. Утратив религиозную веру, вы не остались ни при чем, и, найдя, что гражданские верования человеку заменяют христианство, вы их приняли – и хорошо сделали – для нравственной гигиены, для покоя. Но лекарство это нам першит в горле, и мы ваше присутственное место, вашу централизацию ненавидим совсем не меньше инквизиции, консистории, Кормчей книги.
Понимаете ли вы разницу? Вы как учитель хотите учить, управлять, пасти стадо.
Мы как стадо, приходящее к сознанию, не хотим, чтоб нас пасли, а хотим иметь свои земские избы, своих поверенных, своих подьячих, которым поручать хождение по делам. Оттого нас правительство оскорбляет на всяком шагу своей властью, а вы ему рукоплещете так, как ваши предшественники, попы, рукоплескали светской власти. Вы можете и расходиться с ним так, как духовенство расходилось, или как люди, ссорящиеся на корабле, как бы они ни удалялись друг от друга: за борт вы не уйдете, и для нас, мирян, вы все-таки будете со стороны его.
Гражданская религия – апотеоза государства, идея чисто романская и в новом мире преимущественно французская. С нею можно быть сильным государством, но нельзя быть свободным народом; можно иметь славных солдат… но нельзя иметь независимых граждан. Северо-Американские Штаты, совсем напротив, отняли религиозный характер полиции и администрации до той степени, до которой это возможно…"
ЭПИЛОГ
Перечитывая главу о Кетчере, невольно призадумываешься о том, что за чудаки, что за оригинальные личности живут и жили на Руси! Какими капризными развитиями сочилась и просочилась история нашего образования. Где, в каких краях, под каким градусом широты, долготы возможна угловатая, шероховатая, взбалмошная, безалаберная, добрая, недобрая, шумная, неукладистая фигура Кетчера, кроме Москвы?
А сколько я их нагляделся – этих оригинальных фигур "во всех родах различных", начиная с моего отца и оканчивая "детьми" Тургенева.
"Так русская печь печет!" – говорил мне Погодин. И в самом деле, каких чудес она ни печет, особенно, когда хлеб сажают на немецкий лад… от саек и калачей до православных булок с Гегелем и французских хлебов a la quatre-vingt-treize![407]407
девяносто третьего гола! (франц.).
[Закрыть] Досадно, если все эти своеобычные печенья пропадут бесследно. Мы останавливаемся обыкновенно только на сильных деятелях.
…Но в них меньше видна русская печь, в них ее особенности поправлены, выкуплены; в них больше русского склада да ума, чем печи. Возле них пробиваются, за ними плетутся разные партикулярные люди, сбившиеся с дороги… вот в их-то числе не оберешься чудаков.
Волосяные проводники исторических течений, капли дрожжей, потерявшихся в опаре, но поднявших ее не для себя. Люди, рано проснувшиеся темной ночью и ощупью отправившиеся на работу, толкаясь обо все, что ни попадалось на дороге, – они разбудили других на совсем иной труд.
…Попробую когда-нибудь спасти еще два-три профиля от полного забвения. Их уж теперь едва видно из-за серого тумана, из-за которого только и вырезываются вершины гор и утесов…
ЭПИЗОД ИЗ 1844 ГОДА
К нашей второй виллежиатуре относится очень характеристический эпизод; его не пометить просто жаль, несмотря на то, что я и Natalie участвовали в нем очень мало. Эпизод этот можно было бы назвать: Арманс и Базиль – философ из учтивости, христианин из вежливости и Жак Ж. Санда, делающийся Жаком-фаталистом.
Начался он на французской томболе.
Зимой 1843 я поехал на томболу. Публики было бездна, помнится тысяч пять человек; знакомых почти никого. Базиль шмыгнул с какой-то маской, – ему было не до менд, Он слегка покачал головой и прищурил ресницы так, как делают знатоки, находя вино превосходным и бекаса удивительным.
Бал был в зале Благородного собрания, Я походил, посидел, Глядя, как русские аристократы, переодетые в разных пьерро, ото всей души усердствовали представить из себя парижских сидельцев и отчаянных канка-неров… и пошел ужинать наверх, Там-то меня отыскал Базиль. Он был совершенно не в нормальном положении, а в первом разгаре острого периода любви; он у него был тем острее, что Базилю тогда было около сорока лет и волос начал падать с возвышенного чела. Бессвязно толковал он мне о какой-то французской "Миньоне, со всей простотой "Клерхен" и со всей игривой прелестью парижской гризетки…"
Сначала я думал, что это один из тех романов в одну главу, в которых победа на первой странице, а иа последней, вместо оглавления, счет; но убедился, что это не так.
Базиль видел свою парижанку во второй или третий раз и вел циркумволюционные линии, не бросаясь на приступ. Он меня познакомил с ней. Арманс, действительно, была живое, милое дитя Парижа, совершенно уродившееся в отца. От ее языка до манер и известной самостоятельности, отваги – все в ней принадлежало благородному плебейству великого города. Она еще была работница, а не мещанка. У нас этот тип никогда не существовал. Беззаботная веселость, развязность, свобода, шалость и середь всего чутье самосохранения, чутье опасности и чести. Дети, брошенные иногда с десяти лет на борьбу с бедностью и искушениями, беззащитные, окруженные заразой Парижа и всевозможными сетями, они сами становятся своим провидением и охраной. Такие девушки могут легко отдаться, но взять их невзначай, врасплох трудно. Те из них, которых можно бы было купить, – те до этого круга работниц не доходят: они уже куплены прежде, завертелись, унеслись и исчезли в омуте другой жизни, иногда навсегда, иногда для того, чтоб через пять-шесть лет явиться в своей коляске по Longchamp или в первом ярусе оперы в своей ложе – mil Perlen und Diamanten[408]408
в жемчугах и брильянтах (нем.).
[Закрыть].
Базиль был влюблен по уши. Резонер в музыке и философ в живописи, он был один из самых полных представителей московских ультрагегельянцев. Он всю жизнь носился в эстетическом небе, в философских и критических подробностях. На жизнь он смотрел так, как Речер на Шекспира, возводя все в жизни к философскому значению, делая скучным все живое, пережеванным все свежее, словом не оставляя в своей непосредственности ни одного движения души. Взгляд этот, впрочем, в разных степенях принадлежал тогда почти всему кружку; иные срывались талантом, другие живостью, но у всех еще долго оставался – у кого жаргон, у кого и самое дело. "Пойдем, – говорил Бакунин Тургеневу в Берлине, в начале сороковых годов, – окунуться в пучину действительной жизни, бросимся в ее волны", – и они шли просить Варнгагена фон Энзе, чтоб он их ввел ловким купальщиком в практические пучины и представил бы их одной хорошенькой актрисе. Понятно, что с этими приготовлениями не только ни до какого купанья в страстях, "разъедающих тайники духа нашего", но вообще ни до какого поступка дойти нельзя. Не доходят до них и немцы; но зато немцы и не ищут поступков, а как бы поспокойнее. Наша натура, напротив, не выносит этого постного отношения – des teoretischen Schwelgens[409]409
теоретического наслаждения (нем.).
[Закрыть], запутывается, спотыкается и падает больше смешно, чем опасно.
Итак, влюбленный и сорокалетний философ, щуря глазки, стал сводить все спекулативные вопросы на "демоническую силу любви", равно влекущую Геркулеса и слабого отрока к ногам Омфалы, начал уяснять себе и другим нравственную идею семьи, почву брака. Со стороны Гегеля (Гегелевой философии права, глава Sittlichkeit[410]410
Нравственность (нем.).
[Закрыть]) препятствий не было. Но призрачный мир случайности и «кажущегося», мир духа, не освободившегося от преданий, не был так сговорчив. У Базиля был отец – Петр Кононыч, – старый кулак, богач, который сам был женат последовательно на трех и от каждой имел человека по три детей. Узнав, что его сын, и притом старший, хочет жениться на католичке, на нищей, на француженке, да еще с Кузнецкого моста, он решительно отказал в своем благословении. Без родительского благословения, может, Базиль, принявший в себя шик и момент скептицизма, как-нибудь и обошелся бы, но старик связывал с благословением не только последствие jenseits (на том свете), но и diesseits (на этом), а именно наследство.
Препятствие старика, как всегда, двинуло дело вперед, и Базиль стал подумывать о скорейшей развязке. Оставалось жениться, не говоря худого_слова, и впоследствии заставить старика принять un fait accompli[411]411
совершившийся факт (франц.).
[Закрыть] или скрыть от него брак в ожидании, что он скоро не будет ни благословлять, ни клясть, ни распоряжаться наследством.
Но непросветленный мир преданий и тут подставлял свою ногу. Обвенчаться под сурдинку в Москве было не легко, чрезвычайно дорого и тотчас бы дошло до отца через дьяконов, архидьяконов, дьячков, просвирен, свах, приказчиков, сидельцев и разных потаскушек. Положено было посондировать нашего отца Иоанна в с. Покровском, известного читателям нашим своей историей о похищении в нетрезвом виде серебряных "часов и шкатулки" у дьячка.
Отец Иоанн, узнав, что непокорному сыну около сорока лет, что невеста не русская и что родителей ее здесь нет, что, сверх меня, подпишется свидетелем университетский профессор, – стал меня благодарить за такую милость, полагая, вероятно, что я старался женить Базиля для доставления ему двухсотенной бумажки. Он был до того тронут, что закричал в другую комнату: "Попадья, попадья, выпусти два-три яичка!", и достал из шкапа полуштоф, заткнутый бумажкой, для того чтоб меня попотчевать.
Все шло прекрасно.
Дня свадьбы и прочее не назначали. Арманс должна была приехать к нам в Покровское погостить; Базиль (хотевший ее сопровождать) – возвратиться в Москву и, окончательно устроившись, идти от отцовского проклятия под благословение пьяненького отца Иоанна.
…Ожидая i promessi sposi[412]412
обрученных (итал.).
[Закрыть], мы велели приготовить ужин и сели ждать. Ждем, ждем; бьет двенадцать ночи. Никого нет… Час – никого нет. Дамы пошли уснуть; я с Грановским и Кетчером принялся за ужин.
Le ore suonam, quadratiо,
E un, e due, e Ire…[413]413
Часы бьют каждую четверть, Один, два, три… (искаж. итал.).
[Закрыть]
Ma[414]414
Но… (итал.).
[Закрыть]… их нет, как нет.
…Наконец, колокольчик… ближе и ближе; повозка простучала по мосту. Мы бросились в сени. Тарантас, заложенный тройкою, быстро въезжал на двор и остановился. Вышел Базиль. Я подошел дать руку Арманс; она вдруг меня схватила за руку, да с такой силой, что я чуть не вскрикнул, и потом разом бросилась мне на шею, с хохотом повторяя: "Monsieur Herstin"… Это был не кто иной, как Виссарион Григорьевич Белинский in propria persona[415]415
собственной персоной (лат.).
[Закрыть].
В тарантасе не было больше никого. Мы смотрели друг на друга с удивлением, кроме Белинского, который хохотал до кашля, и Базиля, который чуть до насморка не плакал. К дополнению эффекта надобно заметить, что два дня тому назад в Москве о Белинском и слуху не было.
– Давайте мне есть, – сказал, наконец, Белинский, – я вам расскажу там, какие у нас были чудеса; надобно же выручить несчастного Базиля, который вас боится больше Арманс.
Вот что случилось. Видя, что дело быстро приближается к развязке, Базиль испугался, начал рефлектировать и совершенно сконфузился, обдумывая неумолимый фатализм брака, неразрушимость его по Кормчей книге и по книге Гегеля. Он заперся, отданный на жертву духу мучительного исследования и беспощадного анализа. Страх возрастал с часу на час, и тем больше, что дорога к отступлению была тоже не легка и что решиться на нее почти надобно было иметь столько же характера, как и на самый брак. Страх этот рос до тех пор, пока в дверь постучался Белинский, приехавший из Петербурга прямо к нему в дом. Базиль рассказал ему весь ужас, с которым он идет на сретение своего счастия, и все отвращение, с которым он вступает в бракосочетание по любви, и требовал его совета и помощи.
Белинский отвечал ему, что надобно быть сумасшедшим, чтоб после этого, сознательно и зная вперед, что будет, положить на себя такую цепь.
– Вот Герцен, – говорил он, – и женился, и жену свою увез, и за ней приезжал из ссылки; а спроси его – он ни разу не задумывался, следует ему так делать или нет и какие будут последствия. Я уверен, что ему казалось, что он – не может иначе поступить. Ну, ему и вытанцевалось. А ты то же хочешь сделать, лю-бомудрствуя и рефлектируя.
Только этого и надо было Базилю. Он в ту же ночь написал Арманс диссертацию о браке, о своей несчастной рефлекции, о неспособности простого счастья для пытливого духа, излагал все невыгоды и опасности их соединения и спрашивал Арманс совета, что им теперь делать?
Ответ Арманс он привез с собой.
В рассказе Белинского и письме Арманс обе натуры – ее и Базиля – вполне вышли, как на ладони. Действительно, брачный союз таких противуположных людей был бы странен. Арманс писала ему грустно; она была удивлена, оскорблена, рефлекции его не понимала, а видела в них предлог, охлаждение; говорила, что в таком случае не должно быть и речи о свадьбе, развязывала его от данного слова и заключила тем, что после случившегося им не следует видеться. "Я вас буду помнить, – писала она, – с благодарностью и нисколько не виню вас: я знаю, вы чрезвычайно добры, но еще больше слабы! Прощайте же и будьте счастливы!"
Такое письмо, должно быть, не совсем приятно получить. В каждом слове сила, энергия и немного свысока. Дитя славного плебейского кряжа, Арманс поддержала свое происхождение. Будь это англичанка, как бы крепко она ухватилась за письмо Базиля, как ртом бы своего добродетельного соллиситора[416]416
поверенного (от англ, solicitor).
[Закрыть] рассказала с негодованием, с стыдом о первом пожатии руки, о первом поцелуе… и как бы ее адвокат, со слезами на глазах и мелом в парике, потребовал бы у присяжных вознаградить обиженную невинность тысячью или двумя фунтов…
Француженке, бедной швее, и в голову этого не пришло.
Два или три дня, которые они провели в Покровском, были печальны для экс-жениха. Точно ученик, сильно напакостивший в классе и который боится и учителя и товарищей, Базиль потерпел день-другой и уехал в Москву.
Вскоре мы услышали, что Боткин едет в чужие край. Он писал ко мне письмо смутное, недовольное собой, звал проститься. В первых числах августа я поехал из Покровского в Москву; новая диссертация ехала в то же время из Москвы в Покровское к Natalie. Я отправился к Боткину и прямо попал на прощальный пир. Пили шампанское, и в тостах, в желаниях были какие-то странные намеки.
– Ведь ты не знаешь, – сказал мне Базиль на ухо, – ведь я… того… – и он прибавил шепотом: – ведь Арманс едет со мной. Вот девушка! Я теперь только ее узнал, – и он качал головой.
Это стоило появления Белинского.
В эпистоле к Natalie он пространно объяснял ей, что мысль и рефлекция о женитьбе повергли его в раздумье и отчаяние: он усомнился и в своей любви к Арманс и в своей способности к семейной жизни; что таким образом он дошел до мучительного сознания, что он должен все разорвать и бежать в Париж, что в этом расположении он явился смешным^ и жалким в Покровское… Решившись таким образом, он, перечитывая письмо Арманс, сделал новое открытие, именно, – что он Арманс любит очень много, и потому потребовал у нее свидания и снова предложил ей руку. Он думал опять о покровском попе, но близость майковской фабрики пугала его. Венчаться он собирался в Петербурге и тотчас ехал во Францию. "Арманс рада, как ребенок".
В Петербурге Базиль придумал венчаться в Казанском соборе. Чтоб при этом философия и наука не были забыты, он пригласил для совершения обряда протоиерея Сидонского, ученого автора "Введения в науку философии". Сидонский давно знал Базиля по его статьям, как свободного светского мыслителя и немецкого любомудра. После всех чудес, бывших с Арманс, ей досталась честь, редко достающаяся: послужить поводом одной из самых комических встреч двух заклятых врагов – религии и науки.
Сидонский, чтоб блеснуть своим мирским образованием, перед венчанием стал говорить о новых философских брошюрах, и, когда все было готово и дьячок подал ему епитрахиль, к которой он приложился и стал надевать, он, потупя взоры, сказал Боткину:
– Вы извините: обряды-с – я весьма хорошо знаю, что христианский ритуал сделал свое время, что…
– О, нет, нет! – прервал его Базиль голосом, полным участия и сострадания. – Христианство вечно – его сущность, его субстанция не может пройти.
Сидонский поблагодарил целомудренным взглядом "рыцарственного" антагониста, обратился к клиру и запел: "Благословен бог наш… и ныне, и присно, и во веки веков". – "Аминь!" – грянул клир, и дело пошло своим порядком, и Базиля в венце и Арманс в венце повел Сидонский круг аналоя… заставляя ликовать Исайю.
Из собора Базиль отправился с Арманс домой и, оставив ее там, явился на литературный вечер Краев-ского. Через два дня Белинский посадил молодых на пароход… Теперь-то, подумают, история, наверное, окончена.
Нисколько.
До Каттегата дело шло очень хорошо, но тут попался проклятый "Жак" Ж. Санда.
– Как ты думаешь о Жаке? – спросил Базиль Арманс, когда она кончила роман.
Арманс сказала свое мнение.
Базиль объявил ей, что оно совершенно ложно, что она оскорбляет своим суждением глубочайшие стороны его духа и что его миросозерцание не имеет ничего общего с ее.
Сангвиническая Арманс не хотела менять миросозерцания; так прошли оба Бельта.
Вышедши в Немецкое море, Боткин почувствовал себя больше дома и сделал еще раз опыт переменить миросозерцание, убедить Арманс – иначе взглянуть на Жака.
Умирающая от морской болезни, Арманс собрала последние силы и объявила, что мнения своего о Жаке она не переменит.
– Что же нас связывает после этого? – заметил сильно расходившийся Боткин.
– Ничего, – отвечала Арманс, – et si vous me cher-chez querelle[417]417
и если вы хотите ссориться (франц.).
[Закрыть], так лучше просто расстаться, как только коснемся земли.
– Вы решились? – говорил Боткин, петушась. – Вы предпочитаете?..
– Все на свете, чем жить с вами; вы – несносный человек – слабый и тиран.
– Madame!
– Monsieur!
Она пошла в каюту; он остался на палубе. Арманс сдержала слово: из Гавра уехала к отцу и через год возвратилась в Россию одна, и притом в Сибирь.
На этот раз, кажется, история этого перемежающегося брака кончилась.
А впрочем, Барер говорил же: "Только мертвые не возвращаются!"
(Писано в 1857, Putney. Laurel House.)
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ПАРИЖ – ИТАЛИЯ-ПАРИЖ (1847–1852)
Начиная печатать еще часть «Былого и думы», я опять остановился перед отрывочностью рассказов, картин и, так сказать, подстрочных к ним рассуждений. Внешнего единства в них меньше, чем в первых частях. Спаять их в одно – я никак не мог. Выполняя промежутки, очень легко дать всему другой фон и другое освещение – тогдашняя истина пропадет. «Былое и думы» не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге. Вот почему я решился оставить отрывочные главы, как они были, нанизавши их, как нанизывают картинки из мозаики в итальянских браслетах – все изображения относят к одному предмету, но держатся вместе только оправой и колечками.
Для пополнения этой части необходимы, особенно относительно 1848 года, мои "Письма из Франции и Италии"; я хотел взять из них несколько отрывков, но пришлось бы столько перепечатывать, что я не решился.
Многое, не взошедшее в "Полярную звезду", взошло в это издание – но всего я не могу еще передать читателям, по разным общим и личным причинам. Не за горами и то время, когда напечатаются не только выпущенные страницы и главы, но и целый том, самый дорогой для меня…
Женева, 29 июля 1866.








