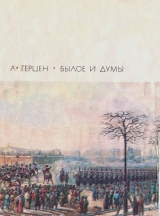
Текст книги "Былое и думы, том 1"
Автор книги: Александр Герцен
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 57 страниц)
Чтение не произвело ожидаемого действия; парижанин думает, что высылка из Парижа равняется изгнанию Адама из рая, да и то еще без Евы – мне, напротив, было все равно, и жизнь парижская уже начинала надоедать.
– Когда должен я явиться в префектуру? – спросил я, придавая себе любезный вид, несмотря на злобу, разбиравшую меня.
– Я советую завтра, часов в десять утра.
– С удовольствием.
– Как нынешний год весна рано начинается, – заметил комиссар города Парижа, и в особенности Тюлье-рийский.
– Чрезвычайно.
– Это старинный отель, здесь обедывал Мирабо, оттого он так и называется; вы, верно, были им очень довольны?
– Очень. Вообразите же, каково с ним расстаться так круто!
– Это действительно неприятно… хозяйка умная и прекрасная женщина m-lle Кузен – была большой приятельницей знаменитой Ie Normand.
– Представьте себе! Как досадно, что я этого не знал, может, она унаследовала у нее искусство гадать и могла бы мне предсказать billet doux[588]588
любовную записку (франц.).
[Закрыть] Карлье.
– Ха, ха… мое дело вы знаете, позвольте пожелать.
– Помилуйте, всякое бывает, честь имею вам кланяться.
На другой день я явился в знаменитую, больше чем сама Ленорман, улицу Jerusalem. Сначала меня принял какой-то шпионствующий юноша, с бородкой, усиками и со всеми приемами недоношенного фельетониста и неудавшегося демократа; лицо его, взгляд носили печать того утонченного растления души, того завистливого голода наслаждений, власти, приобретений, которые я очень хорошо научился читать на западных лицах и которого вовсе нет-у англичан. Должно быть, он еще недавно поступил на свое место, он еще наслаждался им и потому говорил несколько свысока. Он объявил мне, что я должен ехать через три дни и что без особенно важных причин отсрочить нельзя. Его дерзкое лицо, его произношение и мимика были таковы, что, не вступая с ним в дальнейшие рассуждения, я поклонился ему и потом спросил, надев сперва шляпу, когда можно видеть префекта.
– Префект принимает только тех, кто у него письменно просит аудиенции.
– Позвольте мне написать сейчас.
Он позвонил, вошел старик huissier[589]589
сторож (франц).
[Закрыть] с цепью на груди; сказав ему с важным видом: «Бумаги и перо этому господину», юноша кивнул мне головой.
Huissier повел меня в другую комнату. Там я написал Карлье, что желаю его видеть, чтоб объяснить ему, почему мне надобно отсрочить мой отъезд.
В тот же день вечером я получил из префектуры лаконический ответ: "Г. префект готов принять такого-то завтра в два часа".
Тот же самый противный юноша встретил меня и на другой день: у него была особая комната, из чего я и заключил, что он нечто вроде начальника отделения. Начавши так рано и с таким успехом карьеру, он далеко уйдет, если бог продлит его живот.
На сей раз он привел меня в большой кабинет; там, за огромным столом, на больших покойных креслах сидел толстый, высокий румяный господин – из тех, которым всегда бывает жарко, с белыми, откормленными, но рыхлыми мясами, с толстыми, но тщательно выхоленными руками, с шейным платком, сведенным на минимум, с бесцветными глазами, с жовиальным[590]590
Здесь, благодушным (от франц. jovwl).
[Закрыть] выражением, которое обыкновенно принадлежит людям, совершенно потонувшим в любви к своему благосостоянию и которые могут подняться холодно и без больших усилий до чрезвычайных злодейств.
– Вы желали видеть префекта, – сказал он мне, – но он извиняется перед вами, очень нужное дело заставило его выехать, – если я могу сделать вам чем-нибудь что-нибудь приятное, я ничего лучшего не прошу. Вот кресло, не угодно ли?
Все это высказал он плавно, очень учтиво, несколько щуря глаза и улыбаясь мясными подушечками, которыми были украшены его скулы. "Ну, этот давно служит", – подумал я.
– Вы, верно знаете, зачем я пришел.
Он сделал головою то тихое движение, которое делает всякий, начиная плавать, и не отвечал ничего
– Мне объявлен приказ ехать через три дня. Так как я знаю, что министр у вас имеет право высылать, не говоря причины и не делая следствия, то я и не стану ни спрашивать, почему меня высылают, ни защищаться; но у меня есть, сверх собственного дома
– Где ваш дом?
– Четырнадцать, Rue Amsterdam… очень серьезные дела в Париже, мне трудно их оставить сразу.
– Позвольте узнать, какие у вас дела, по дому или…?
– Дела мои у Ротшильда, мне приходится получить тысяч четыреста франков.
– Как-с?
– С небольшим сто тысяч roubles argent[591]591
рублей серебром (франц).
[Закрыть].
– Это значительная сумма!
– Cest unе somme ronde[592]592
Это кругленькая сумма (франц.).
[Закрыть].
– Сколько времени вам нужно для окончания вашего дела? – спросил он, глядя на меня еще кротче, так, как глядят на выставленные в окнах фазаны с трюфлями.
– От месяца до шести недель.
– Это ужасно много.
– Процесс мой в России Чуть ли не по его милости я и оставляю Францию.
– Как так?
– С неделю тому назад Ротшильд мне говорил, что Киселев дурно обо мне отзывался. Вероятно, петербургскому правительству хочется замять дело, чтоб о нем не говорили; чай, посол попросил по дружбе выслать меня вон.
– Dabord[593]593
Прежде всего (франц.).
[Закрыть], – заметил, принимая важный и проникнутый сильным убеждением вид, обиженный патриот префектуры, – Франция не позволит ни одному правительству мешаться в ее внутренние дела. Я удивляюсь, как вам могла прийти такая мысль в голову, Потом, что может быть естественнее, как право, которое взяло себе правительство, старающееся всеми силами возвратить порядок страждущему народу, удалять из страны, в которой столько горючих веществ, иностранцев, употребляющих во зло то гостеприимство, которое она им дает?
Я решился его добивать деньгами. Это было так же верно, как в споре с католиком употреблять тексты из евангелия, а потому, улыбнувшись, я возразил ему:
– За гостеприимство Парижа я заплатил сто тысяч франков, и потому считал себя почти сквитавшимся.
Это удалось еще лучше, чем моя somme ronde. Он сконфузился и, сказав после небольшой паузы: "Что нам делать? Мы в необходимости", – взял со стола мой досье. Это был второй том романа, первую часть которого я видел когда-то в руках Дубельта. Поглаживая листы, как добрых коней, своей пухлой рукой:
"Видите ли, – приговаривал он, – ваши связи, участие в неблагонамеренных журналах (почти слово в слово то же, что мне говорил Сахтынский в 1840), наконец, значительные subventions[594]594
субсидии (франц.).
[Закрыть], которые вы давали самым вредным предприятиям, заставили нас прибегнуть к мере очень неприятной, но необходимой. Мера эта удивлять вас не может. Вы даже в своем отечестве навлекли на себя политические гонения. Одинакие причины ведут к одинаким последствиям".
– Я уверен, – сказал я, – что сам император Николай не подозревает этой солидарности; не можете же вы в самом деле находить хорошим его управление.
– Un bon citoyen[595]595
Хороший гражданин (франц.).
[Закрыть] уважает законы страны, какие бы они ни были…[596]596
Впоследствии профессор Чичерин проповедовал что-то подобное в Московском университете. (Прим А. И. Герцена).
[Закрыть]
– Вероятно, это по тому знаменитому правилу, что все же лучше, чтоб была дурная погода, чем чтоб совсем погоды не было.
– Но, чтоб вам доказать, что русское правительство совершенно вне игры, я вам обещаю выхлопотать у префекта отсрочку на один месяц. Вы, верно, не найдете странным, если мы справимся у Ротшильда о вашем деле, тут не столько сомнение…
– Да сделайте одолжение, отчего же не справиться, мы в войне, и если б мне было полезно употребить военную хитрость, чтоб остаться, неужели вы думаете, что я не употребил бы ее?..
Но светский и милый alter ego[597]597
двойник (лат).
[Закрыть] префекта не остался в долгу:
– Люди, которые так говорят, никогда не говорят неправды.
Через месяц дело еще не было окончено; к нам ездил старик доктор Пальмье, который всякую неделю имел удовольствие делать в префектуре инспекторский смотр интересному классу парижанок. Давая такое количество свидетельств прекрасному полу в здоровье, я думал, что он не откажется написать мне свидетельство в болезни. Пальмье, разумеется, был знаком со всеми в префектуре; он обещал мне лично передать X. историю моего недуга К крайнему удивлению, Пальмье приехал без удовлетворительного ответа. Черта эта потому драгоценна, что в ней есть какое-то братственное сходство между русской и французской бюрократией. X. не давал ответа и вилял, обидевшись, что я не явился лично известить его о том, что я болен, в постеле и не могу встать. Делать было нечего, я отправился на другой день в префектуру, пышущий здоровьем.
X. с большим участием спросил меня о моей болезни. Так как я не полюбопытствовал прочитать, что написал доктор, то мне и пришлось выдумать болезнь. По счастию, я вспомнил Сазонова, который, при обильной тучности и неистощимом аппетите, жаловался на аневризм, – я сказал X., что у меня болезнь в сердце и что дорога может мне быть очень вредна.
X. пожалел, советовал беречься, потом отправился в соседнюю комнату и через минуту вышел, говоря:
– Вы можете остаться еще месяц. Префект поручил мне вместе с тем сказать вам, что он надеется и желает, чтоб ваше здоровье поправилось в продолжение этого времени; ему было бы очень неприятно, если б это было не так, потому что в третий раз он отсрочить не может.
Я понял это и приготовился выехать из Парижа около 20 июня…
Имя X. встретилось мне еще раз через год. Патриот этот и bon citoyen бесшумно удалился из Франции, забывши отдать отчет тысячам небогатых и бедных людей, вкладчиков в какую-то калифорнскую лотерею, действовавшую под покровительством префектуры! Когда добрый гражданин увидел, что, при всем уважении к законам своей родины, он может попасть на галеры за faux[598]598
мошенничество (франц.).
[Закрыть], тогда он предпочел им пароход и уехал в Геную. Это была натура цельная, не терявшаяся от неудач. Он воспользовался известностью, приобретенною историей калифорнской лотереи, и тотчас предложил свои услуги обществу акционеров, составлявшемуся около того времени в Турине для постройки железных дорог; видя столь надежного человека, общество поспешило принять его услуги.
Последние два месяца, проведенные в Париже, были невыносимы. Я был буквально garde a vue[599]599
под явным надзором (франц.).
[Закрыть], письма приходили нагло подпечатанные и днем позже. Куда бы я ни шел, издали следовала за мной какая-нибудь гнусная фигура, передавая меня на углу глазом другому.
Не надобно забывать, что это было время пущего полицейского бешенства. Тупые консерваторы и революционеры алжирски-ламартиновского толка помогали плутам и пройдохам, окружавшим Наполеона, и ему самому в приготовлении сетей шпионства и надзора, чтоб, растянувши их на всю Францию, в данную минуту поймать и задушить по телеграфу, из министерства внутренних дел и Elysee, все деятельные силы страны. Наполеон ловко воспользовался против них самих врученным ему орудием. Второе декабря – возведение полиции на степень государственной власти.
Никогда нигде не было такой политической полиции, ни в Австрии, ни в России, как во Франции со времен Конвента. На это, сверх особенного национального влечения к полиции, есть много причин. Кроме Англии, где полиция не имеет ничего общего с континентальным шпионством, полиция везде окружена враждебными элементами и, следственно, оставлена на свои силы. Во Франции, напротив, полиция-самое народное учреждение; какое бы правительство ни захватило власть в руки, полиция у него готова, часть народонаселения будет ему помогать с фанатизмом и увлечением, которые надобно умерять, а не усиливать, и помогать притом всеми страшными средствами частных людей, которые для полиции невозможны. Куда скрыться от лавочника, дворника, портного, прачки, мясника, сестриного мужа, братниной жены, особенно в Париже, где живут не особняком, как в Лондоне, а в каких-то полипниках или ульях, с общей лестницей, с общим дворем и дворником?
Кондорсе ускользает от якобинской полиции и счастливо пробирается до какой-то деревни близ границы;
усталый и измученный, он входит в харчевню, садится перед огнем, греет себе руки и просит кусок курицы. Трактирщица, добродушная старушка, большая пат-. риотка, рассуждает так: "Он в пыли, стало, пришел издалека, он спросил курицы, стало, у него есть деньги. руки у него белые, стало, он аристократ". Поставив курицу в печь, она идет в другой кабак, там заседают патриоты: какой-нибудь гражданин-Муций Сцевола, ликворист, и гражданин-Брут, Тимолеон-портной. Тем того и надобно, и через десять минут один из умнейших деятелей французской революции – в тюрьме и выдан полиции свободы, равенства и братства!
Наполеон, имевший в высшей степени полицейский талант, сделал из своих генералов лазутчиков и доносчиков; палач Лиона Фуше основал целую теорию, систему, науку шпионства – через префектов, помимо префектов – через развратных женщин и беспорочных лавочниц, через слуг и кучеров, через лекарей и парикмахеров. Наполеон пал, но оружие осталось, и не только оружие, но и оруженосец; Фуше перешел к Бурбонам, сила шпионства ничего не потеряла, напротив, увеличилась монахами, попами. При Людовике-Филиппе, при котором подкуп и нажива сделались одной из нравственных сил правительства, – половина мещанства сделалась его лазутчиками, полицейским хором, к чему особенно способствовала их служба, сама по себе полицейская, – в Национальной гвардии.
Во время Февральской республики образовались три или четыре действительно тайные полиции и несколько явно тайных. Была полиция Ледрю-Роллена и полиция Косидьера, была полиция Марраста и полиция Временного правительства, была полиция порядка и полиция беспорядка, полиция Бонапарта и орлеанская полиция. Все подсматривали, следили друг за другом и доносили; положим, что доносы делались с убеждением, с наилучшими целями, безденежно, но все же это были доносы… Эта пагубная привычка, встретившись, с одной стороны, с печальными неудачами, а с другой – с болезненной, необузданной жаждой денег и наслаждений, растлила целое поколение.
Не надобно забывать и то нравственное равнодушие, ту шаткость мнений, которые остались осадком от перемежающихся революций и реставраций. Люди привыкли считать сегодня то за героизм и добродетель, за что завтра посылают в каторжную работу; лавровый венок и клеймо палача менялись несколько раз на одной и той же голове. Когда к этому привыкли, нация шпионов была готова.
Все последние открытия тайных обществ, заговоров, все доносы на выходцев сделаны фальшивыми членами, подкупленными друзьями, людьми, сближавшимися с целью предательства.
Везде бывали примеры, что трусы, боясь тюрьмы и ссылки, губят друзей, открывают тайны, – так слабодушный товарищ погубил Конарского. Но ни у нас, ни в Австрии нет этого легиона молодых людей," образованных, говорящих нашим языком, произносящих вдохновенные речи в клубах, пишущих революционные статейки и служащих шпионами.
К тому же правительство Бонапарта превосходно поставлено, чтоб пользоваться доносчиками всех партий. Оно представляет революцию и реакцию, войну и мир, 89 год и католицизм, падение Бурбонов и 4/2°/о. Ему служит и Фаллу-иезуит, и Бильо-социалист, и Ларошжаклен-легитимист, и бездна людей, облагодетельствованных Людовиком-Филиппом. Растленное всех партий и оттенков естественно стекает и бродит в тюлье-рийском дворце.
ГЛАВА ХLЕвропейский комитет. – Русский генеральный консул в Ницце. – Письмо к А. Ф. Орлову. – Преследование ребенка – Фогты. – Перечисление из надворных советников в тягловые крестьяне – Прием, в Шателе. (1850–1851)
С год после нашего приезда в Ниццу из Парижа я писал: "Напрасно радовался я моему тихому удалению, напрасно чертил у дверей моих пентаграмм: я не нашел ни желанного мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищают от нечистых духов – от нечистых людей не спасет никакой многоугольник, разве только квадрат селлюляр-ной тюрьмы.
Скучное, тяжелое и чрезвычайно пустое время, утомительная дорога между станцией 1848 года и станцией 1852,– нового ничего, разве каждое личное несчастье доломает грудь, какое-нибудь колесо жизни рассыплется".
"Письма из Франции и Италии" (1 июня 1851).
Действительно, перебирая то время, становится больно, как бывает при воспоминании похорон, мучительных болезней, операций. Не касаясь еще здесь до внутренней жизни, которую заволакивали больше и больше темные тучи, довольно было общих происшествий и газетных новостей, чтоб бежать куда-нибудь в степь. Франция неслась с быстротой падающей звезды к 2 декабря. Германия лежала у ног Николая, куда ее стащила несчастная, проданная Венгрия. Полицейские кондотьеры съезжались на свои вселенские соборы и тайно совещались об общих мерах международного шпионства. Революционеры продолжали пустую агитацию. Люди, стоявшие во главе движения, обманутые в своих надеждах, теряли голову. Кошут возвращался из Америки, утратив долю своей народности, Маццини заводил в Лондоне с Ледрю-Ролленом и Руге центральный европейский комитет… а реакция свирепела больше и больше.
После нашей встречи в Женеве, потом в Лозанне, виделся с Маццини в Париже в 1850 году. Он был во Франции тайно, остановился в каком-то аристократическом доме и присылал за мной одного из своих приближенных. Тут он говорил мне о проекте международной юнты[600]600
хунты, союза (от испан. Junta).
[Закрыть] в Лондоне и спрашивал, желал ли бы я участвовать в ней как русский; я отклонил разговор. Год спустя, в Ницце, явился ко мне Орсини, отдал программу, разные прокламации европейского центрального комитета и письмо от Маццини с новым предложением. Участвовать в комитете я и не думал: какой же элемент русской жизни я мог представить тогда, совершенно отрезанный от всего русского? Но это не была единственная причина, по которой европейский комитет мне был не по душе. Мне казалось, что в основе его не было ни глубокой мысли, ни единства, ни даже необходимости, а форма его была просто ошибочна.
Та сторона движения, которую комитет представлял, то есть восстановление угнетенных национальностей, не была так сильна в 1851 году, чтоб иметь явно свою гонту. Существование такого комитета доказывало только терпимость английского законодательства и отчасти то, что министерство не верило в его силу, иначе оно прихлопнуло бы его или alien биллем[601]601
законом об иностранцах (англ.).
[Закрыть], или предложением приостановить habeas corpus.
Европейский комитет, напугавший все правительства, ничего не делал, не догадываясь об этом. Самые серьезные люди ужасно легко увлекаются формализмом и уверяют себя, что они делают что-нибудь, имея периодические собрания, кипы бумаг, протоколы, совещания, подавая голоса, принимая решения, печатая прокламации, profession de foi[602]602
исповедания веры (франц.).
[Закрыть] и проч. Революционная бюрократия точно так же распускает дела в слова и формы, как наша канцелярская. В Англии пропасть разных ассоциаций, имеющих торжественные собрания, на которые являются герцоги и лорды, клержимены и секретари. Казначеи собирают деньги, литераторы пишут статьи, и все вместе решительно ничего не делают. Собрания эти, большей частию филантропические и религиозные, с одной стороны, служат развлечением, а с другой – примиряют христианскую совесть людей, преданных светским интересам. Но такого кроткого и мирного характера не мог представлять в Лондоне революционный сенат en permanence[603]603
непрерывно заседающий (франц.).
[Закрыть]. Это был гласный заговор, заговор с открытыми дверями, то есть невозможный.
Заговор должен быть тайной. Время тайных обществ миновало только в Англии и Америке. Везде, где есть меньшинство, предварившее понимание масс и желающее осуществить ими понятую идею, если нет ни свободы речи, ни права собрания, будут составляться тайные общества. Я говорю об этом совершенно объективно; после юношеских попыток, окончившихся моей ссылкой в 1835 году, я не участвовал никогда ни в каком тайном обществе, но совсем не потому, что я считаю расточение сил на индивидуальные попытки за лучшее. Я не участвовал потому, что мне не случилось встретить общества, которое соответствовало бы моим стремлениям, в котором я мог бы что-нибудь делать. Если б я встретил союз Пестеля и Рылеева, разумеется, я бросился бы в него с головою.
Другая ошибка или другое несчастье комитета состояло в отсутствии единства. Это собрание в один фокус разнородных стремлений могло только в действительном единстве развить составную силу. Если б каждый, входя в комитет, вносил только свою исключительную национальность, это не мешало бы еще; у них было бы единство ненависти к одному главному врагу – к Священному союзу. Но воззрения их, согласные в двух отрицательных принципах, в отрицании царской власти и социализма, в остальном были различны; для их единства были необходимы уступки, а этого рода уступки оскорбляют одностороннюю силу каждого, подвязывая именно те струны для общего аккорда, которые звучат всего резче, оставляя стертой, мутной и колеблющейся сводную гармонию.
Прочитав бумаги, которые привез Орсини, я написал к Маццини следующее письмо:
"Ницца, 13 сентября 1850.
Любезный Маццини! Я вас уважаю искренно и потому не боюсь откровенно высказать вам мое мнение. Во всяком случае, вы меня выслушаете терпеливо и снисходительно.
Вы чуть ли не один из главных политических деятелей последнего времени, имя которого осталось окружено сочувствием и уважением. Можно не соглашаться с вами в мнениях, в образе действия, но не уважать вас нельзя. Ваше прошедшее, Рим 1848 и 1849 годов, обязывают вас гордо нести великое вдовство до тех пор, пока события снова позовут предупредившего их бойца. Потому-то мне и больно видеть имя ваше вместе с именами людей неспособных, испортивших все дело, с именами, которые нам только напоминают бедствия, обрушенные ими на нас.
Какая тут может быть организация? – Это одно смешение.
Ни вам, ни истории эти люди не нужны, все, что для них можно сделать-это отпустить им их прегрешения. Вы их хотите покрыть вашим именем, вы хотите разделить с ними ваше влияние, ваше прошедшее; они разделят с вами свою непопулярность, свое прошедшее.
Что нового в прокламациях, что в "Proscrit"? Где следы грозных уроков после 24 февраля? Это продолжение прежнего либерализма, а не начало новой свободы, – это эпилог, а не пролог. Почему нет в Лондоне той организации, которую вы желаете? Потому что нельзя устроиваться на основании неопределенных стремлений, а только на глубокой и общей мысли, – но где же она?
Первая публикация, делаемая при таких условиях, как присланная вами прокламация, должна была быть исполнена искренности; ну, а кто же может прочесть без улыбки имя Арнольда Руге под прокламацией, говорящей во имя божественного провидения? Руге проповедовал с 1838 года философский атеизм, для него (если голова его устроена логически) идея провидения должна представлять в зародыше все реакции. Это уступка, дипломация, политика, оружие наших врагов. К тому же все это не нужно. Богословская часть прокламации чистая роскошь, она ничего не прибавляет ни к разумению, ни к популярности. Народ имеет положительную религию и церковь. Деизм-религия рационалистов, представительная система, приложенная к вере, религия, окруженная атеистическими учреждениями.
Я, с своей стороны, проповедую полный разрыв с неполными революционерами, от них на двести шагов веет реакцией. Нагрузив себе на плечи тысячи ошибок, они их до сих пор оправдывают; лучшее доказательство, что они их повторят.
В "Nouveau Mond" тот же vacuum horrendum[604]604
ужасающая пустота (лат.).
[Закрыть], печальное пережевывание пищи, вместе зеленой и сухой, которая все-таки не переваривается.
Пожалуйста, не думайте, что я это говорю для того, чтоб отклонять от дела. Нет, я не сижу сложа руки. У меня еще слишком много крови в жилах и энергии в характере, чтоб удовлетвориться ролью страдательного зрителя. С тринадцати лет я служил одной идее и был под одним знаменем-войны против всякой втесняемой власти, против всякой неволи во имя безусловной независимости лица. Мне хотелось бы продолжать мою маленькую, партизанскую войну – настоящим казаком… auf eigene Faust[605]605
на свой риск (нем.).
[Закрыть], как говорят немцы, при большой революционной армии – не вступая в правильные кадры ее, пока они совсем не преобразуются.
В ожидании этого – я пишу. Может, это ожидание продолжится долго, не от меня зависит изменение капризного людского развития; но говорить, обращать, убеждать зависит от меня – и я это делаю от всей души и от всего помышления.
Простите мне, любезный Маццини, и откровенность и длину моего письма и не переставайте ни любить меня немного, ни считать человеком, преданным вашему делу, – но тоже преданным и своим убеждениям".
На это письмо Маццини отвечал несколькими дружескими строками, в которых, не касаясь сущности, говорил о необходимости соединения всех сил в одно единое действие, грустил о разномыслии их и проч.
В ту же осень, в которую меня вспомнил Маццини и европейский комитет, вспомнил меня, наконец, и противоевропейский комитет Николая Павловича.
Одним утром горничная наша, с несколько озабоченным видом, сказала мне, что русский консул внизу и спрашивает, могу ли я его принять. Я До того уже считал поконченными мои отношения с русским правительством, что сам удивился такой чести и не мог догадаться, что ему от меня надобно.
Вошла какая-то официальная, германски-канцелярская фигура второго порядка.
– Я имею вам сделать сообщение.
– Несмотря на то, – отвечал я, – что я не знаю вовсе, какого рода, я почти уверен, что оно будет неприятное. Прошу садиться.
Консул покраснел, несколько смешался, потом сел на диван, вынул из кармана бумагу, развернул и, прочитавши: "Генерал-адъютант граф Орлов сообщил графу Нессельроде, что его им…" – снова встал.
Тут, по счастью, я вспомнил, что в Париже, в нашем посольстве, объявляя Сазонову приказ государя возвратиться в Россию, секретарь встал, и Сазонов, ничего не подозревая, тоже встал, а секретарь это делал из глубокого чувства долга, требующего, чтоб верноподданный держал спину на ногах и несколько согбенную голову, внимая монаршую волю. А потому, по мере того как консул вставал, я глубже и покойнее усаживался в креслах, и, желая, чтоб он это заметил, сказал ему, кивая головой:
– Сделайте одолжение, я слушаю.
– "…ператорское величество, – продолжал он, снова садясь, – изволили приказать, чтобы такой-то немедленно возвратился, о чем ему объявить, не. принимая от него никаких причин, которые могли бы замедлить его отъезд, и не давая ему ни в каком случае отсрочки". Он замолчал.
Я продолжал не говорить ни слова.
– Что же мне отвечать? – спросил он, складывая бумагу.
– Что я не поеду.
– Как не поедете?
– Так-таки, просто не поеду.
– Вы обдумали ли, что такой шаг…
– Обдумал.
– Да как же это… Позвольте, что же я напишу? по какой причине?.
– Вам не ведено принимать никаких причин.
– Как же я скажу, ведь это – ослушание воли– его императорского величества?
– Так и скажите.
– Это невозможно, я никогда не осмелюсь написать это, – и он еще больше покраснел. – Право, лучше было бы вам изменить ваше решение, пока все это еще келейно. (Консул, верно, думал, что III отделение – монастырь.)
Как я ни человеколюбив, но для облегчения переписки генерального консула в Ницце не хотел ехать в Петропавловские кельи отца Леонтия или в Нерчинск, не имея даже в виду Евпатории в легких Николая Павловича.
– Неужели, – сказал я ему, – когда вы шли сюда, вы могли хоть одну секунду предполагать, что я поеду? Забудьте, что вы консул, и рассудите сами. Именье мое секвестровано, капитал моей матери был задержан, и все это не спрашивая меня, хочу ли я возвратиться. Могу ли же я после этого ехать, не сойдя с ума?
Он мялся, постоянно краснел и, наконец, попал на ловкую, умную и, главное, новую мысль.
– Я не могу, – сказал он, – вступать… я понимаю затруднительное положение, с другой стороны – милосердие! – Я посмотрел на него, он опять покраснел. Сверх того, зачем же вам отрезывать себе все пути? Вы напишите мне, что вы очень больны, я отошлю к графу.
– Это уж слишком старо, да и на что же без нужды говорить неправду.
– Ну, так уж потрудитесь написать мне письменный ответ.
– Пожалуй. Вы мне не оставите ли копии с бумаги, которую читали?
– У нас этого не делается.
– Жаль. Я собираю коллекцию.
Как ни был прост мой письменный ответ, консул все же перепугался: ему казалось, что его переведут за него, не знаю, куда-нибудь в Бейрут или в Триполи; он решительно объявил мне, что ни принять, ни сообщить его никогда не осмелится. Как я его ни убеждал, что на него не может пасть никакой ответственности, он не соглашался и просил меня написать другое письмо.
– Это невозможно, – возразил я ему, – я не шучу этим шагом и вздорных причин писать не стану: вот вам письмо и делайте с ним, что хотите.
– Позвольте, – говорил самый кроткий консул из всех, бывших после Юния Брута и Кальпурния Бестии, – вы письмо это напишите не ко мне, а к графу Орлову, я же только сообщу его канцлеру.
– Дело не трудное, стоит поставить "М. Ie comte" вместо "М. Ie consul"[606]606
«Господин граф»… «Господин консул» (франц).
[Закрыть]; на это я согласен.
Переписывая мое письмо, мне пришло в голову, для чего же это я пишу Орлову по-французски. По-русски кантонист какой-нибудь в его канцелярии или в канцелярии III отделения может его прочесть, его могут послать в сена г, и молодой обер-секретарь покажет его писцам; зачем же их лишать этого удовольствия? А потому я перевел письмо. Вот оно:
"М. г. Граф Алексей Федорович!
Императорский консул в Ницце сообщил мне высочайшую волю о моем возвращении в Россию. При всем желании, я нахожусь в невозможности исполнить ее, не приведя в ясность моего положения.
Прежде всякого вызова, более года тому назад, положено было запрещение на мое именье, отобраны деловые бумаги, находившиеся в частных руках, наконец, захвачены деньги, 10000 фр., высланные мне из Москвы. Такие строгие и чрезвычайные меры против меня показывают, что я не только в чем-то обвиняем, но что, прежде всякого вопроса, всякого суда, признан виновным и наказан лишением части моих средств.
Я не могу надеяться, чтоб одно возвращение мое могло меня спасти от печальных последствий политического процесса. Мне легко объяснить каждое из моих действий, но в процессах этого рода судят мнения, теории;
на них основывают приговоры. Могу ли я, должен ли я подвергать себя и все мое семейство такому процессу…
В. с., оцените простоту и откровенность моего ответа и повергнете на высочайшее рассмотрение причины, заставляющие меня остаться в чужих краях, несмотря на мое искреннее и глубокое желание возвратиться на родину.
Ницца, 23 сентября 1850".
Я действительно не знаю, возможно ли было скромнее и проще отвечать; но у нас так велика привычка к рабскому молчанию, что и это письмо консул в Ницце-счел чудовищно дерзким, да, вероятно, и сам Орлов также.
Молчать, не смеяться, да и не плакать, а отвечать по данной форме, без похвалы и осуждения, без веселья, да и без печали – это идеал, до которого деспотизм хочет довести подданных и довел солдат, – но какими средствами? А вот я вам расскажу.
Николай раз на смотру, увидав молодца флангового солдата с крестом, спросил его: "Где получил крест?" По несчастью, солдат этот был из каких-то исшалившихся семинаристов и, желая воспользоваться таким случаем, ^чтоб блеснуть красноречием, отвечал: "Под победоносными орлами вашего величества". Николай сурово взглянул на него, на генерала, надулся и про-. шел. А генерал, шедший за ним, когда поровнялся с солдатом, бледный от бешенства, поднял кулак к его лицу и сказал: "В гроб заколочу Демосфена!"








