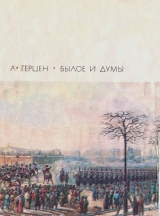
Текст книги "Былое и думы, том 1"
Автор книги: Александр Герцен
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 57 страниц)
Последняя поездка в Соколова. – Теоретический разрыв. – Натянутое положение. – Dahin! Dahin!
После примирения с Белинским в 1840 году наша небольшая кучка друзей шла вперед без значительного разномыслия; были оттенки, личные взгляды, но главное и общее шло из тех же начал. Могло ли оно так продолжаться навсегда – я не думаю. Мы должны были дойти до тех пределов, до тех оград, за которые одни пройдут, а другие зацепятся.
Года через три-четыре я с глубокой горестью стал замечать, что, идучи из одних и тех же начал, мы приходили к разным выводам, – и это не потому, чтоб мы их розно понимали, а потому, что они не всем нравились.
Сначала эти споры шли полушутя. Мы смеялись, например, над малороссийским упрямством Редкина, старавшегося вывести логическое построение личного духа. При этом я вспоминаю одну из последних шуток милого, доброго Крюкова. Он уже был очень болен, мы сидели с Редкиным у его кровати. День был ненастный, вдруг блеснула молния и вслед за ней рассыпался сильный удар грома. Редкин подошел к окну и опустил стору.
– Что же, от этого будет лучше? – спросил я его.
– Как же, – ответил за него Крюков, – Редкин верит in die Personlichkeit des absoluten Geistes[364]364
в личность абсолютного духа (нем.).
[Закрыть] и потому завешивает окно, чтоб ему не было видно, куда целить, если вздумает в него пустить стрелу.
Но можно было догадаться, что на шутках такое существенное различие в воззрениях долго не остановится.
На одном листе записной книжки того времени, с видимой arriere pensee[365]365
задней мыслью (франц.).
[Закрыть], помечена следующая сентенция: «Личные отношения много вредят прямоте мнений. Уважая прекрасные качества лиц, мы жертвуем для них резкостью мнений. Много надобно сил, чтобы плакать и все-таки уметь подписать приговор Камилла Демулена»,
В этой зависти к силе Робеспьера уже дремали зачатки злых споров 1846 года.
Вопросы, до которых мы коснулись, не были случайны; их, как суженого, нельзя было на коне объехать. Это те гранитные камни преткновения на дороге знания, которые во все времена были одни и те же, пугали людей и манили к себе. И так, как либерализм, последовательно проведенный, непременно поставит человека лицом к лицу с социальным вопросом, так наука, – если только человек вверится ей без якоря, – непременно прибьет его своими волнами к седым утесам, о которые бились – от семи греческих мудрецов до Канта и Гегеля – все дерзавшие думать. Вместо простых объяснений, почти все пытались их обогнуть и только покрывали их новыми слоями символов и аллегорий, оттого-то и теперь они стоят так же грозно, а пловцы боятся ехать прямо и убедиться, что это вовсе не скалы, а один туман, фантастически освещенный.
Шаг этот не легок, но я верил и в силы и в волю наших друзей, им же не вновь приходилось искать фарватера, как Белинскому и мне. Долго бились мы с ним в беличьем колесе диалектических повторений и выпрыгнули, наконец, из него на свой страх. У них был наш пример перед глазами и Фейербах в руках. Долго не верил я, но, наконец, убедился, что если друзья наши не делят образа доказательств Р(едкина), то, в сущности, все же они с ним согласнее, чем со мной, и что, при всей независимости их мысли, еще есть истины, которые их пугают. Кроме Белинского, я расходился со всеми, с Грановским и Е. Коршем.
Открытие это исполнило меня глубокой печалью порог, за который они запнулись, однажды приведенный к слову, не мог больше подразумеваться. Споры вышли из внутренней необходимости снова прийти к одному уровню; для этого надобно было, так сказать, окликнуться, чтоб узнать, кто где.
Прежде чем мы сами привели в ясность наш теоретический раздор, его заметило новое поколение, которое стояло несравненно ближе к моему воззрению. Молодежь не только в университете и лицее сильно читала мои статьи о "Дилетантизме в науке" и "Письма об изучении природы", но и в духовных учебных заведениях. О последнем я узнал от графа С. Строгонова, которому жаловался на это Филарет, грозивший принять душеоборонительные меры против такой вредоносной яствы.
Около того же времени я иначе узнал об их успехе между семинаристами. Случай этот мне так дорог, что я не могу не рассказать его.
Сын одного знакомого подмосковного священника, молодой человек лет семнадцати, приходил несколько раз ко мне за "Отечественными записками". Застенчивый, он почти ничего не говорил, краснел, мешался и торопился скорее уйти. Умное и открытое лицо его сильно говорило в его пользу, я переломил, наконец, его отроческую неуверенность в себе и стал с ним говорить об "Отечественных записках". Он очень внимательно и дельно читал в них именно философские статьи. Он сообщил мне, как жадно в высшем курсе семинарии учащиеся читали мое историческое изложение систем и как оно их удивило после философии по Бурмейстеру и Вольфию.
Молодой человек стал иногда приходить ко мне, я имел полное время убедиться в силе его способностей и в способности труда.
– Что вы намерены делать после курса? – спросил я его раз.
– Постричься в священники, – отвечал он, краснея,
– Думали ли вы серьезно об участи, которая вас ожидает, если вы пойдете в духовное звание?
– Мне нет выбора, мой отец решительно не хочет, чтоб я шел в светское звание. Для занятий у меня досуга будет довольно.
– Вы не сердитесь на меня, – возразил я, – но мне невозможно не сказать вам откровенно моего мнения. Ваш разговор, ваш образ мыслей, который вы нисколько не скрывали, и то сочувствие, которое вы имеете к моим трудам, – все это и, сверх того, искреннее участие в вашей судьбе дают мне, вместе с моими летами, некоторые права. Подумайте сто раз прежде, чем вы наденете рясу. Снять ее будет гораздо труднее, а может, вам в ней будет тяжело дышать. Я вам сделаю один очень простой вопрос: скажите мне, есть ли у вас в душе вера хоть в один догмат богословия, которому вас учат?
Молодой человек, потупя глаза и помолчав, сказал:
– Перед вами лгать не стану – нет!
– Я это знал. Подумайте же теперь о вашей будущей судьбе. Вы должны будете всякий день во всю вашу жизнь всенародно, громко лгать, изменять истине; ведь это-то и есть грех против святого духа, грех сознательный, обдуманный. Станет ли вас на то, чтоб сладить с таким раздвоением? Все ваше общественное положение будет неправдой. Какими глазами вы встретите взгляд усердно молящегося, как будете утешать умирающего раем и бессмертием, как отпускать грехи? А еще тут вас заставят убеждать раскольников, судить их!
– Это ужасно! ужасно! – сказал молодой человек и ушел взволнованный и расстроенный.
На другой день вечером он возвратился.
– Як вам пришел затем, – сказал он, – чтоб сказать, что я очень много думал о ваших словах. Вы совершенно правы; духовное звание мне невозможно, и, будьте уверены, я скорее пойду в солдаты, чем позволю себя постричь в священники.
Я горячо пожал ему руку и обещал, с своей стороны, когда время придет, уговорить, насколько могу, его отца.
Вот и я на свой пай спас душу живу, по крайней мере способствовал к ее спасению.
Философское направление студентов я мог видеть ближе. Весь курс 1845 года ходил я на лекции сравнительной анатомии. В аудитории и в анатомическом театре я познакомился с новым поколением юношей.
Направление занимавшихся было совершенно реалистическое, то есть положительно научное. Замечательно, что таково было направление почти всех царскосельских лицеистов. Лицей, выведенный подозрительным и мертвящим самовластьем Николая из прекрасных садов своих, оставался еще тем же великим рассадником талантов; завещание Пушкина, благословение поэта, пережило грубые удары невежественной власти[366]366
История, как один из них попал в университет, так полна родственного благоухания николаевских времен, что нельзя удержаться, чтоб ее не рассказать. В лицее каждый год празднуется та годовщина, которая нам всем известна по превосходным стихам Пушкина. Обыкновенно в этот день разлуки с товарищами и свидания с прежними учениками позволялось молодым людям покутить. На одном из этих праздников – один студент, еще не кончивший курса, расшалившись, пустил бутылку в стену; на беду бутылка ударилась в мраморную доску, на которой было начертано золотыми буквами: «Государь император изволил осчастливить посещением такого-то числа…», и отбила от нее кусок. Прибежал какой-то смотритель, бросился на студента с страшным ругательством и хотел его вывести. Молодой человек, обиженный при товарищах, разгоряченный вином, вырвал у него из рук трость и вытянул его ею. Смотритель немедленно донес; студент был арестован и послан в карцер под страшным обвинением не только в нанесении удара смотрителю, но и в святотатственном неуважении к доске, на которой было изображено священное имя государя императора.
Весьма легко может быть, что его бы отдали в солдаты, если б другое несчастие не выручило его. У него в самое это время умер старший брат. Мать, оглушенная горем, писала к нему, что он теперь ее единственная опора и надежда, советовала скорее кончить курс и приехать к ней. Начальник лицея, кажется, генерал Броневский, читая это письмо, был тронут и решился спасти студента, не доводя дела до Николая. Он рассказал о случившемся Михаилу Павловичу, и великий князь велел его келейно исключить из лицея и тем покончить дело. Молодой человек вышел с видом, по которому ему нельзя было вступить ни в одно учебное заведение, то есть ему преграждалась почти всякая будущность, потому что он был очень небогат, – и все это за увечье доски, украшенной высочайшим именем! Да и то еще случилось по особенной милости божией, убившей вовремя его брата, по неслыханной в генеральском чине нежности, по невиданной великокняжеской снисходительности! Одаренный необыкновенным талантом, он гораздо после добился права слушать лекции в Московском университете. (Прим. А. И. Герцена.).
[Закрыть]
С радостью приветствовал я в лицеистах, бывших в Московском университете, – новое, сильное поколение.
Вот эта-то университетская молодежь, со всем нетерпением и пылом юности преданная вновь открывшемуся перед ними свету реализма, с его здоровым румянцем, разглядела, как я сказал, в чем мы расходились с Грановским. Страстно любя его, они начинали восставать против его "романтизма". Они хотели непременно, чтоб я склонил его на нашу сторону, считая Белинского и меня представителями их философских мнений.
Так настал 1846 год. Грановский начал новый публичный курс. Вся Москва опять собралась около его кафедры, опять его пластическая, задумчивая речь стала потрясать сердца; но той полноты, того увлечения, которое было в первом курсе, недоставало, будто он устал или какая-то мысль, с которой он еще не сладил, занимала его, мешала ему. Это так и было, как мы увидим гораздо позже.
На одной из этих-то лекций, в марте месяце, кто-то из наших общих знакомых прибежал сломя голову сказать о приезде из чужих краев Огарева и Сатина.
Мы не видались несколько лет и очень редко переписывались… Что-то они… как?.. С сильно бьющимся сердцем бросились мы с Грановским к "Яру", где они остановились. Ну, вот они, наконец – и как переменились, и какая борода, и не видались несколько лет – мы принялись смотреть вздор, говорить вздор, хоть и чувствовалось, что хотелось говорить другое.
Наконец, наш маленький круг был почти весь в сборе – теперь-то заживем.
Лето 1845 года мы жили на даче в Соколове. Соколове– это красивый уголок Московского уезда, верст двадцать от города по тверской дороге. Мы нанимали там небольшой господский дом, стоявший почти совсем в парке, который спускался под гору к небольшой речке. С одной стороны его стлалось наше великороссийское море нив, с другой – открывался пространный вид вдаль, почему хозяин и не преминул назвать беседку, поставленную там, "Бель-вю"[367]367
«Прекрасный вид» (от франц. belle vue).
[Закрыть].
Соколово некогда принадлежало графам Румянцевым. Богатые помещики, аристократоры XVIII столетия, при всех своих недостатках были одарены какой-то шириной вкуса, которую они не передали своим наследникам., Старинные барские села и усадьбы по Москве-реке необыкновенно хороши, особенно те, в которых два последних поколения ничего не поправляли и не переиначивали.
Прекрасно провели мы там время. Никакое серьезное облако не застилало летнего неба; много работая и много гуляя, жили мы в нашем парке. Кетчер меньше ворчал, хотя иной раз и случалось ему забирать брови очень высоко и говорить крупные речи с сильной мимикой. Грановский и Е. приезжали почти всякую неделю в субботу и оставались ночевать, а иногда уезжали уж в понедельник. М. С. нанимал неподалеку другую дачу. Часто приходил и он пешком, в шляпе с широкими полями и в белом сюртуке, как Наполеон в Лонгвуде, с кузовком набранных грибов, шутил, пел малороссийские песни и морил со смеху своими рассказами, от которых, я думаю, сам Иоанн Кручивник, точивший всю жизнь слезы о грехах мира сего, стал бы их точить от хохота…
Сидя дружной кучкой в углу парка под большой липой, мы, бывало, жалели только об одном, об отсутствии Огарева. Ну вот и он, и в 1846 году мы едем снова в Соколово, и он с нами, Грановский нанял на все лето небольшой флигель, Огарев поместился в антресолях над управляющим, флотским майором без уха.
И со всем этим через две-три недели неопределенное чувство мне подсказало, что наша villeggiatura[368]368
дачная жизнь (итал.).
[Закрыть] не удалась и что этого не поправишь. Кому не случалось приготовлять пир, заранее радуясь будущему веселью друзей, и вот они являются; все идет хорошо, ничего не случилось, а предполагаемое веселье не налаживается. Жизнь только тогда бойко и хорошо идет, когда не чувствуешь, как кровь по жилам течет, и не думаешь, как легкие поднимаются. Если каждый толчок отдается, того и смотри – явится боль, диссонанс, с которым не всегда сладишь.
Первое время после приезда друзей прошло в чаду и одушевлении праздников; не успели они миновать, как занемог мой отец. Его кончина, хлопоты, дела – все это отвлекало от теоретических вопросов. В тиши соколовской жизни наши разногласия должны были прийти к слову.
Огарев, не видевший меня года четыре, был совершенно в том направлении, как я. Мы разными путями прошли те же пространства и очутились вместе. К нам присоединилась Natalie. Серьезные и на первый взгляд подавляющие выводы наши не пугали ее, она им придавала особый поэтический оттенок.
Споры становились чаще, возвращались на тысячу ладов. Раз мы обедали в саду. Грановский читал в "Отечественных записках" одно из моих писем об изучении природы (помнится, об Энциклопедистах) и был им чрезвычайно доволен.
– Да что же тебе нравится? – спросил я его. – Неужели одна наружная отделка? С внутренним смыслом его ты не можешь быть согласен.
– Твои мнения, – ответил Грановский, – точно так же исторический момент в науке мышления, как и самые писания энциклопедистов. Мне в твоих статьях нравится то, что мне нравится в Вольтере или Дидро; они живо, резко затрогивают такие вопросы, которые будят человека и толкают вперед, ну, а во все односторонности твоего воззрения я не хочу вдаваться. Разве кто-нибудь говорит теперь о теориях Вольтера?
– Неужели же нет никакого мерила истины и мы будим людей только для того, чтобы им сказать пустяки?
Так продолжался довольно долго разговор. Наконец я заметил, что развитие науки, что современное состояние ее обязывает нас к принятию кой-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет; что, однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия, духа и материи.
– Все это так мало обязательно, – возразил Грановский, слегка изменившись в лице, – что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа, с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо.,
– Славно было бы жить на свете, – сказал я, – если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было бы тут как тут, на манер сказок.
– Подумай, Грановский, – прибавил Огарев, – ведь это своего рода бегство от несчастья.
– Послушайте, – возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего, – вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах, мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее.
– Изволь, с величайшим удовольствием! – сказал я, чувствуя холод на лице. Огарев промолчал. Мы все взглянули друг на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно; мы все слишком любили друг друга, чтоб по выражению лиц не вымерить вполне, что произошло. Ни слова больше, спор не продолжался. Natalie старалась замаскировать, исправить случившееся. Мы помогли ей. Дети, всегда выручающие в этих случаях, послужили предметом разговора, и обед кончился так мирно, что посторонний, который бы пришел после разговора, не заметил бы ничего…
После обеда Огарев бросился на своего Кортика, я сел на выслужившую свои лета жандармскую клячу, и мы выехали в поле. Точно кто-нибудь близкий умер, так было тяжело; до сих пор Огарев и я, мы думали, что сладим, что дружба наша сдует разногласие, как пыль; но тон и смысл последних слов открывал между нами даль, которой мы не предполагали. Так вот она межа предел и с тем вместе ценсура! Всю дорогу ни Огарев, ни я не говорили. Возвращаясь домой, мы грустно покачали головой и оба в один голос сказали: "Итак, видно, мы опять одни?"
Огарев взял тройку и поехал в Москву, на дороге сочинил он небольшое стихотворение, из которого я взял эпиграф.
…Ни скорбь, ни скука
Не утомят меня. Всему свой срок,
Я правды речь вел строго в дружней круге,
Ушли друзья в младенческом испуге.
И он ушел – которого, как брата
Иль как сестру, так нежно я любил!
………………………
………………………
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо,
И пусть мечты и люди идут мимо…
С Грановским я встретился на другой день как ни в чем не бывало – дурной признак с обеих сторон. Боль еще была так жива, что не имела слов; а немая боль, ни имеющая исхода, как мышь середь тишины, перегрызает нить за нитью…
Дни через два я был в Москве. Мы поехали с Огаревым к Е. Коршу. Он был как-то предупредительно любезен, грустно мил с нами, будто ему нас жаль. Да что же это такое, точно мы сделали какое-нибудь преступление? Я прямо спросил Е. Корша, слышал ли он о нашем споре? Он слышал; говорил, что мы все слишком погорячились из-за отвлеченных предметов; доказывал, что того идеального тождества между людьми и мнениями, о котором мы мечтаем, вовсе нет, что симпатии людей, как химическое сродство, имеют свой предел насыщения, через который переходить нельзя, не наткнувшись на те стороны, в которых люди становятся вновь посторонними. Он шутил над нашей молодостью, пережившей тридцать лет; и все это он говорил с дружбой, с деликатностью – видно было, что и ему не легко.
Мы расстались мирно. Я, немного краснея, думал о моей "наивности", а потом, когда остался один и лег в постель, мне показалось, что еще кусок сердца отхватили– ловко, без боли, но его нет!
Далее не было ничего… а только, все подернулось чем-то темным и матовым; непринужденность, полный abandon[369]369
откровенность (франц.).
[Закрыть] исчезли в нашем круге. Мы сделались внимательнее, обходили некоторые вопросы, то есть действительно отступили на «границу химического сродства» – и все это приносило тем больше горечи и боли, что мы искренно и много любили друг друга.
Может, я был слишком нетерпим, заносчиво спорил, колко отвечал… может быть… но в сущности я и теперь убежден, что в действительно близких отношениях тождество религии необходимо, тождество в главных теоретических убеждениях. Разумеется, одного теоретического согласия недостаточно для близкой связи между людьми; я был ближе по симпатии, например, с И. В. Киреевским, чем с многими из наших. Еще больше, можно быть хорошим и верным союзником, сходясь в каком-нибудь определенном деле и расходясь в мнениях; в таком отношении я был с людьми, которых бесконечно уважал, не соглашаясь в многом с ними, например, с Маццини, с Ворцелем. Я не искал их убедить, ни они – меня; у нас довольно было общего, чтоб идти, не ссорясь, по одной дороге. Но между нами, братьями одной семьи, близнецами, жившими одной жизнию, нельзя было так глубоко расходиться.
Еще бы у нас было неминуемое дело, которое бы нас совершенно поглощало, а то ведь собственно вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений… какие же могли быть уступки на этом поле?..
Трещина, которую дала одна из стен нашей дружеской храмины, увеличилась, как всегда бывает – мелочами, недоразумениями, ненужной откровенностью там, где лучше было бы молчать – и вредным молчанием там, где необходимо было говорить; эти вещи решаег один такт сердца, тут нет правил.
Вскоре и в дамском обществе все разладилось.
На ту минуту нечего было делать.
Ехать – ехать вдаль, надолго, непременно ехать! Но ехать было не легко. На ногах была веревка полицейского надзора и без разрешения Николая заграничного паспорта мне выдать было невозможно.
ГЛАВА ХХХIIIЧастный пристав в должности камердинера. – Обер-полицмейстер Кокошкин. «Беспорядок в порядке». – Еще раз Дубельт. – Паспорт.
…За несколько месяцев до кончины моего отца граф Орлов был назначен на место Бенкендорфа. Я написал тогда к Ольге Александровне, не может ли она мне выхлопотать заграничного пасса или какой-нибудь вид для приезда в Петербург, чтоб самому достать его. О. А. отвечала, что второе легче, и я получил через несколько дней от Орлова «высочайшее» разрешение приехать в Петербург, на короткое время для устройства дел. Болезнь моего отца, его кончина, действительное устройство дел и несколько месяцев на даче задержали меня до зимы. В конце ноября я отправился в Петербург, предварительно подав просьбу генерал-губернатору о пассе. Я знал, что он не мог разрешить, потому что я все еще был под строгим надзором полиции, мне хотелось одного, чтоб он послал запрос в Петербург.
В день отъезда я утром послал взять билет из полиции, но вместо билета явился квартальный сказать, что есть какие-то затруднения и что сам частный пристав будет ко мне. Приехал и он, и попросивши, чтоб я остался с ним наедине, он таинственно объявил мне новость, что мне пять лет тому назад въезд в Петербург запрещен и что без высочайшего повеления он билета не подпишет.
– За этим у нас дело не станет, – скатал я, смеясь, и вынул из кармана письмо.
Частный пристав, сильно удивленный, прочитав, попросил дозволение показать обер-полицмейстеру и часа через два прислал мне билет и мою бумагу.
Надобно сказать, что половину разговора мой пристав вел на необыкновенно очищенном французском языке. Насколько вредно частному приставу и вообще русскому полицейскому знать по-французски, он испытал очень горько.
За несколько лет перед тем приехал в Москву с Кавказа какой-то путешественник, легитимист шевалье Про. Он был в Персии, в Грузии, много видел и имел неосторожность сильно критиковать тогдашние военные действия на Кавказе и особенно администрацию. Боясь, что Про будет то же говорить в Петербурге, генерал-губернатор кавказский благоразумно написал военному министру, что Про – преопасный военный агент со стороны французского правительства. Про жил преспокойно в Москве и был хорошо принят князем Д. В. Голицыным, как вдруг князь получил приказ отправить его с полицейским чиновником из Москвы за границу. Сделать такую глупость и такую грубость над знакомым всегда труднее, и потому Голицын, помявшись дни два, пригласил к себе Про и после красноречивого вступления, наконец, сказал ему, что какие-то доносы, вероятно, с Кавказа, дошли до государя и что он приказал ему оставить Россию, что, впрочем, даже ему дадут провожатого…
Про, рассерженный, заметил князю, что так как правительство имеет право высылать, то он ехать готов, но провожатого не возьмет, не считая себя преступником, которого следует конвоировать.
На другой день, когда полицмейстер приехал к Про, тот его встретил с пистолетом в руке, объявляя наотрез, что он ни в комнату, ни в свою коляску не пустит полицейского, не пославши ему пули в лоб, если тот захочет употребить силу.
Голицын был вообще очень порядочный человек и потому затруднен; он послал за Вейером, французским консулом чтобы посоветоваться, как быть. Вейер нашел expedient[370]370
выход (франц.).
[Закрыть]: он потребовал полицейского, хорошо говорящего по-французски, и обещал его представить Про, как путешественника, просящего уступить ему место в коляске Про за половину прогонов.
С первых слов Вейер а Про догадался, в чем дело.
– Я не торгую местами в моей коляске, – сказал он консулу.
– Человек этот будет в отчаянии.
– Хорошо, – сказал Про, – я его беру даром, за это пусть он возьмет на себя маленькие услуги, – да не капризник ли это какой? я его тогда брошу на дороге.
– Самый услужливый в мире человек, вы просто распоряжайтесь им. Я вас благодарю за него. – И Вейер поскакал к князю Голицыну объявить о своем торжестве.
– Вечером Про и bona fide[371]371
мнимый (лат).
[Закрыть] traveller[372]372
путешественник (англ.).
[Закрыть] отправились. Про молчал всю дорогу; на первой станции он взошел в комнату и лег на диван.
– Эй! – закричал он товарищу, – подите сюда, снимите сапоги.
– Что вы, помилуйте, с какой стати?
– Вам говорят: снимите сапоги, или я вас брошу на дороге, ведь я не держу вас.
Снял мой полицейский офицер сапоги…
– Вытрясите их и вычистите.
– Это из рук вон!
– Ну, оставайтесь!..
Вычистил офицер сапоги.
На следующей станции та же история с платьем, и так Про тормошил его до самой границы. Чтоб утешить этого мученика шпионства, на него было обращено особое монаршее внимание и его, наконец, сделали частным приставом.
На третий день после моего приезда в Петербург дворник пришел спросить от квартального, "по какому виду я приехал в Петербург?" Единственный вид, бывший у меня, – указ об отставке, был мною представлен генерал-губернатору при просьбе о пассе. Я дал дворнику билет, но дворник возвратился с замечанием, что билет годен для выезда из Москвы, а не для въезда в Петербург. С тем вместе пришел полицейский с приглашением в канцелярию обер-полицмейстера. Отправился я в канцелярию Кокошкина (днем освещенную лампами!); через час времени он приехал. Кокошкин лучше других лиц того же разбора выражал царского слугу без дальних видов, чернорабочего временщика без совести, без размышления, – он служил и наживался так же естественно, как птицы поют.
Перовский сказал Николаю, что Кокошкин сильно берет взятки.
– Да, – отвечал Николай, – но я сплю спокойно, зная, что он полицмейстером в Петербурге.
Я посмотрел на него, пока он толковал с другими… какое измятое, старое и дряхло-растленное лицо; на нем был завитой парик, который вопиюще противуречил опустившимся чертам и морщинам.
Поговоривши с какими-то немками по-немецки и притом с какой-то фамильярностью, показывавшей, что это старые знакомые, что видно было и из того, что немки хохотали и шушукались, Кокошкин подошел ко мне и, смотря вниз, довольно грубым голосом спросил:
– Ведь вам высочайше запрещен въезд в Петербург?
– Да, но я имею разрешение.
– Где оно?
– У меня.
– Покажите – как же вы это второй раз пользуетесь тем же разрешением?
– Как во второй раз?
– Я помню, что вы приезжали.
– Я не приезжал.
– И какие это у вас дела здесь?
– У меня есть дело к графу Орлову.
– Что же, вы были у графа?
– Нет, но был в Третьем отделении.
– Видели Дубельта?
– Видел.
– А я вчера видел самого Орлова, он говорит, что никакого разрешения вам не посылал.
– Оно у вас в руках.
– Бог знает, когда это писано, и время прошло.
– Впрочем, странно было бы с моей стороны приехать без позволения и начать с визита генералу Дубельту.
– Коли не хотите хлопот, так извольте отправляться назад, и то не дальше, как через двадцать четыре часа.
– Я вовсе не располагался пробыть здесь долго, но мне нужно же подождать ответ графа Орлова.
– Я вам не могу позволить, да и граф Орлов очень недоволен, что вы приехали без позволения.
– Позвольте мне мою бумагу, я сейчас поеду к графу.
– Она должна остаться у меня.
– Да ведь это письмо ко мне, на мое имя, единственный документ, по которому я здесь.
– Бумага останется у меня, как доказательство, что вы были в Петербурге. Я вам серьезно советую завтра ехать, чтоб не было хуже.
Он кивнул головой и вышел. Вот тут и толкуй с ними.
У старика генерала Тучкова был процесс с казной. Староста его взял какой-то подряд, наплутовал и попался под начет. Суд велел взыскать деньги с помещика, давшего доверенность старосте. Но доверенности на этот предмет вовсе не было дано, Тучков так и отвечал. Дело пошло в сенат, сенат снова решил: "Так как отставной генерал-лейтенант Тучков дал доверенность… то…" На что Тучков опять отвечал: "А так как генерал-лейтенант Тучков доверенности на этот предмет не давал, то…" Прошел год, снова полиция объявляет с строжайшим подтверждением: "Так как генерал-лейтенант… то…", и опять старик пишет свой ответ. Не знаю, чем это интересное дело кончилось. Я оставил Россию, не дождавшись решения.
Все это вовсе не исключение, а совершенно нормально. Кокошкин держит в руках бумагу, в достоверности которой не сомневается, на которой стоит No и число для легкой справки, в которой написано, что мне разрешается приезд в Петербург, и говорит: "А так как вы приехали без позволения, то отправляйтесь назад", и бумагу кладет в карман.
Чаадаев действительно прав, говоря об этих господах: "Какие они все шалуны!"
Я поехал в III отделение и рассказал Дубельту, что было. Дубельт расхохотался.
– Как это они вечно все перепутают! Кокошкин доложил графу, что вы приехали без позволения, граф и сказал, чтоб вас выслали, но я потом объяснил дело; вы можете жить сколько хотите, я сейчас велю написать в полицию. Но теперь об вашем деле, граф не думает, чтоб полезно было просить вам позволение ехать за границу. Государь вам два раза отказал, последний раз по просьбе графа Строгонова; если он откажет в третий раз, то в это царствование вы уж, конечно, не поедете к водам.
– Что же мне делать? – спросил я с ужасом, так мысль путешествия и воли обжилась в моей груди.
– Отправляйтесь в Москву; граф напишет генерал-губернатору частное письмо о том, что вы желаете для здоровья вашей супруги ехать за границу, и спросит его, заметив, что знает вас с самой лучшей стороны, думает ли он, что можно с вас снять надзор? На такой вопрос нечего отвечать, кроме "да". Мы представим государю о снятии надзора, тогда берите себе паспорт, как все другие, и с богом к каким хотите водам.
Мне казалось все это чрезвычайно сложным, и даже просто уловкой, чтоб отделаться от меня. Отказать мне они не могли, это навлекло бы на них гонение Ольги Александровны, у которой я бывал всякий день. Однажды уехавши из Петербурга, я не мог еще раз приехать; переписываться с этими господами – дело трудное. Долю моих сомнений я сообщил Дубельту; он начал хмуриться, то есть еще больше улыбаться ртом и щурить глазами.
– Генерал, – сказал я в заключение, – не знаю, а мне даже не верится, что до государя дошло представление Строгонова.
Дубельт позвонил и велел подать "дело" обо мне и, ожидая его, добродушно сказал мне:
– Граф и я, мы предлагаем вам тот путь для получения паспорта, который мы считаем вернейшим; ежели у вас есть средства более верные, употребите их; вы можете быть уверены, что мы вам не помешаем.
– Леонтий Васильевич совершенно прав, – заметил какой-то гробовой голос; я обернулся, возле меня стоял еще более седой и состарившийся Сахтынский, который принимал меня пять лет тому назад в том же III отделении. – Я вам советую руководствоваться его мнением, если хотите ехать.
Я поблагодарил его.
– А вот и дело, – сказал Дубельт, принимая толстую тетрадь из рук чиновника (что бы я дал – прочесть ее всю! В 1850 году я видел в кабинете Карльемой "досье" в Париже; интересно было бы сличить), порывшись в ней, он мне ее подал раскрытую, это была докладная записка Бенкендорфа вследствие письма Строгонова, просившего мне разрешение ехать на шесть месяцев к водам в Германию. На поле было крупно написано карандашом "рано", по карандашу было проведено лаком, внизу написано было пером: "рукою е. и. в. написано рано. Граф А. Бенкендорф".
– Верите теперь? – спросил Дубельт.
– Верю, – отвечал я, – и так верю вашим словам, что завтра же еду в Москву.
– Да вы, пожалуй, погуляйте у нас, полиция теперь вас беспокоить не будет, а перед отъездом заезжайте, я велю вам показать письмо к Щербатову, Прощайте, bon voyage[373]373
счастливого пути (франц.).
[Закрыть], если не увидимся.
– Счастливого пути, – прибавил Сахтынский.
Мы расстались, как видите, приятельски.
Приехав домой, я нашел приглашение от частного пристава, кажется II Адмиралтейской части. Он меня спрашивал, когда я выезжаю.
– Завтра вечером.
– Помилуйте, да, кажется, я думал… генерал говорил, сегодняшнего числа. Его превосходительство, конечно, отсрочит, но позвольте быть удостоверену?








