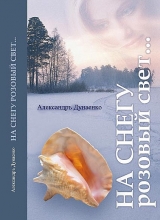
Текст книги "На снегу розовый свет..."
Автор книги: Александр Дунаенко
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Врал ты мне всегда с три короба,
Врал ты, врал ты, враль ты…
Поезд мчался сквозь жар пустыни. Верблюды стояли величественно возле своих верблюжьих колючек, на поезд внимания не обращали. Жевали. Не видно было из окон вагонов ни змей, ни ящериц. Изредка стада баранов обозначали менталитет.
Пассажиры поезда «Мангышлак – Актюбинск» уже потеряли чувство стыдливости. В такую жару и набедренная повязка кажется душной, тяжёлой. Кто на себе оставил трико, кто – шорты. В некоторых женщинах такая степень откровения мужского тела вызывала гримасы брезгливости.
Я не хотел, чтобы от меня тошнило, и – терпел. Ехал с женой из дурдома отдыха в городе Актау[3]3
бывший Шевченко
[Закрыть]. Соседями по купе были убийцы. Так нам показалось, как только мы увидели два этих тела на полках. Лохматые, небритые, потные лица «кавказской национальности» сохранили на себе следы недавнего мордобития. Одно слово – убийцы. Ехать было страшно и жарко.
Впоследствии зловещие мужики оказались добрейшими курдами, а лица им набила актаусская милиция за то, что они имели лица «кавказской национальности» и не дали за это положенной взятки.
Курды умылись, побрились и вскоре сошли. А жара осталась. Согласно менталитету, кондиционеры имелись, но не работали. Не любили они работать. Забыли, как это делается. Ездили они в вагонах туда–сюда. Туда–сюда.
И я сидел напротив жены, которая молча и покорно увядала в невыносимой духоте. Потом забылась, уснула. День кончался. Солнце где–то на краю мира опускалось в пустыню. В пыль. В золу пустыни. Но прохлада не приходила. Не может быть прохлады в духовке.
Потом потемнело, и мимо окон побежала ночь. Луна засветила в купе. Света я не зажигал, смотрел, ожидая сна, на бесконечное движение меридианов верблюжьих колючек.
Потом на одной из остановок в купе вошла женщина. Разложила вещи, села у окна и, к тому времени, как появился ещё странный господин, успела всплакнуть. Периодически всплакивала и потом, когда поезд разогнался, и полная луна опять зависла над вращением остывающей пустыни.
Что такое «камзол» я до сих пор не знаю. Но, по всей вероятности, на господине из сумерек был именно «камзол». Потому что на голове у него была ещё и треугольная шляпа. Ну, как назвать длинный, почти до полу, пиджак со множеством пуговиц? Раньше это называли «лапсердак», но теперь, когда все некоренные евреи выехали из Казахстана на свою историческую родину в Биробиджан, все такие «лапсердаки» нуждались в обязательном переименовании, достойном времени. К лапсердаку под треугольной шляпой подходило именно «камзол».
Господин из сумерек торопливо сбросил своё душное одеяние, треуголку в том числе, и оказался в костюме, почти цивильном. Впрочем, через несколько минут, он, как и весь поезд, разоблачился до своих индивидуальных границ приличия. То есть, остался в лёгкой шёлковой рубашке со штрипками[4]4
соглашаюсь, что выглядеть это может ужасно, но звучит здорово
[Закрыть] и в чёрных рейтузах[5]5
речь идёт о мужской одежде.
[Закрыть].
Не менее необычным для наших мест оказалось и имя нашего нового попутчика – Джакомо. После курдов мне было неловко интересоваться его национальностью, явно иностранной.
Далее новый пассажир повёл себя, как обыкновенный советский человек. Джакомо извлёк из своей сумки бутылку, похожую на старинный кувшин, и предложил всем нам вина. В купе загорелся неяркий свет, тут же появились подходящие стаканы. Соседка Джакомо оказалась молоденькой женщиной со следами косметики, размазанной по миловидному личику. Пока Джакомо разливал своё вино, она достала маленькое зеркальце и двумя–тремя лёгкими движениями привела себя в порядок.
После двух – трёх стаканчиков призрачного напитка женщина ожила окончательно, лёгкий смешок стал раздаваться в купе, и я был вынужден обратить на это внимание её и Джакомо, который взялся нашёптывать ей на ушко всякие, видимо, забавные вещи. Жена спала, я боялся, что её могут потревожить.
Но, впрочем, вскоре и женщина уснула, укрывшись влажноватой железнодорожной простынью. Мы с Джакомо остались одни у столика, потому что не могут настоящие мужчины лечь спать, если в бутылке остаётся ещё хоть капля крепкого напитка.
Я спросил Джакомо, как ему удалось безутешную, мокрую от слёз женщину, вывести из её состояния? Что такого можно наговорить ей в полчаса, что она начинает смеяться, а потом спокойно засыпает, когда казалось, что совсем недавно ей хотелось расстаться с жизнью?
– Я не просто Джакомо, молодой человек, ответил мне странный господин. Я – Джакомо Казанова.
– Какое удивительное сочетание! Какое замечательное совпадение! – воскликнул я. Быть однофамильцем всемирно известного философа и обольстителя! И я спросил ещё, с трудом сдерживая невольное ехидство: а не трудно ли ему, Казанове Джакомо, жить в наше время с таким именем? – Нет, не трудно, – ответил мой, слегка захмелевший, собеседник. Потому что он… ОН… это – я…
Странный был человек, этот наш попутчик. Странный, если не сказать больше. Той ночью он чуть–чуть рассказывал о себе. Он рассказывал, я – слушал. Вот и всё.
Подлинные истории и размышления Джакомо Казановы
При всей своей гениальности, маэстро Феллини согрешил против истины, когда в известном фильме представил моё публичное свидание с мадам Леокрисой. Победа над женщиной не может быть столь быстрой, даже если время схватки превысит все рекордные сроки. И здесь бессильна техника и самые древние, проверенные, любовные снадобья. Если женщина не любит вас – она бревно, даже если бьётся в счастливых судорогах от привычных, исторически сложившихся природных взаимодействий с мужчиной. Мадам Леокриса была моей любовницей, моей любовью на протяжении лет полутора, прежде чем всенародно я совершил свой, якобы, подвиг. Любовь не спорт, не знание тайных приёмов… Да, я не мог не оказаться победителем. Потому что эту мадам Леокрису, эту истеричку, нимфоманку, хотя и – страстотерпицу, я знал до того уже 78 недель, а, значит, уже пережил с ней все возможные ужасы войны между мужчиной и женщиной. Я знал, отчего она заводится, отчего рыдает, и во сколько приходит к ней муж маркиз в опочивальню. Я нюхал его потные носки, притихши, валяясь под роскошным супружеским ложем, пока их светлость и сиятельство силились удовлетворить свои жалкие потребности. Мадам Леокриса кидалась ко мне после, без омовения, плача, и роняя вслух какие–то, непонятные мне, русские слова. Её муж маркиз были большая сволочь, чем стимулировали симуляции жены. Её мстительные компенсации в посторонних связях возрастали в геометрической прогрессии.
Первые два месяца я просто выслушивал м-м Леокрису, потом рассеянно она отдалась, но… не то… не так… ведь самое малое, что может вам дать от себя женщина – это своё тело. С м-м Леокрисой на сей факт мы даже не обратили внимания, понимая созвучно, что не он суть главное. И я помню, хотя и страстную, её предвосхитительную дрожь и лобзания, но которыми как будто м-м Леокриса старалась от меня защититься. Смертельно серьёзное пришло после, когда мы пытались друг от друга оторваться, проваливаясь всё дальше в глубины непознанных, неизведанных мук и счастий, выбрав себе из всех запретных и губительных плодов самый ядовитый.
Любовные приёмы… Их нет. У меня их не было. Всё это очень индивидуально. Тело женщины само подсказывает вам, что с ним, с ней делать. Ласкать ли долго, отдалённо, будто бы даже избегая всяческих намёков на физическую близость, либо исхлестать нежное создание, унизить, извалять его в грязи. Тело женщины подскажет, что вам делать с ним.
От подсказок м-м Леокрисы у меня голова шла кругом, я едва поспевал за её невообразимыми, даже для меня, желаниями (а, для успеха в сердце вашей повелительницы,
ведь нужно их чуть–чуть опережать…). И каждый раз я даже пугался своих мысленных фантазий, опасаясь, что вдруг возникнет желание сэкстраполировать этот бред на милую м-м Леокрису, но и то, что даже мне казалось кощунством над женщиной, принималось ею с восторгом и выводило нас на новые круги безумных наслаждений.
Именно в эти дни шайка бездельников во дворце графа де Мурильо и с самим графом во главе решила устроить постыдное соревнование над женщиной, выбрав для этой цели меня, потому что вился за мной хвост, шлейф славы повального обольстителя и непревзойдённого мастера постельных ристалищ. Я должен был принять вызов этой оравы пресыщенных разряженных глупцов, под париками которых ползали вши, и временами возникала сыпь на местах, скрытых шелками и драгоценностями. Я должен был принять вызов, толпа стала скандировать и бряцать серебряными кубками.
Образовался круг, я вошёл в него. Следом за мной, опережая всех возможных и невозможных соперниц, ворвалась м-м Леокриса. Никто не знал о нашей связи, за одно только подозрение её муж проткнул бы шпагой и меня и её. Никто не знал, что уже от наших взглядов в м-м Леокрисе вспыхивает пламя нестерпимого оргазма. Она хотела победить меня в тот вечер, обрубить, отсечь невидимую нить непонятной, кажущейся ей колдовской, зависимости от меня.
Муж тоже находился в толпе. В том не было ничего зазорного, что м-м Леокриса прилюдно предложила себя в соревнование с мужчиной. Если вы назвали себя актёром и вышли на сцену, то всё, что вы делаете – это уже искусство, игра. Актёры могут играть любовников и ненавидеть друг друга. Мне кажется, м-м Леокриса к тому моменту уже меня ненавидела…
То, что увидели потом зрители, было только одной стороной медали, верхушкой айсберга. Я сделал несколько упражнений, повышающих энергетику организма, освободился от семени. М-м Леокриса приподняла юбки…
Через несколько часов на ней не удержалось ни одной нитки от многочисленных одежд.
Парча и бриллианты валялись вокруг в разбросанности, и сама м-м Леокриса без дыхания осталась лежать посреди импровизированной арены. Прекрасная, с тёмными кругами под глазами, без сил и влаги, она сдалась, уснула. В тишине замерли пажи, маркизы и графы, шуты и слуги. Нет красивее зрелища, чем спящая после любви обнажённая женщина. Небесное сияние исходило от побеждённой м-м Леокрисы, я незаметно оделся и ушёл из дворца.
Только мы, только я и м-м Леокриса знали, что совершилась любовь, а не физический поединок в присутствии толпы. И я, и она, и даже, может быть, она более, чем я, были уже готовы к этому. По воле рока свершилась ещё одна из моих фантазий, которая греховна, унизительна и невозможна для человека в нормальном состоянии, но которую я необходимо должен был бы предложить, сделать с м-м Леокрисой, опять на мгновение опередив, угадав её подспудное желание.
Если ваша жизнь начинает течь в любовном летоисчислении, то нет ничего невозможного в установлении ваших отношений с женщиной. Ни стыда, ни греха. Всё свято.
Засыпая под взглядами, там, на арене, мадам Леокриса шепнула мне, что никогда ещё ей не было так хорошо…
У вас уже было ваше советское время, когда я встретился и познакомился с обаятельной Сивиллой, миниатюрной замужней женщиной из городка с довольно редким названием: Лениногромск. Там придумывали что–то секретное, чтобы за одну секунду могли квакнуть сразу две Америки. И Северная. И Южная. Сивилла не работала, воспитывала детей, а тут по горящей путёвке срочно приехала покататься на лыжах в Западную Украину, где мятежный дух Бандеры ещё отзывался в лесистых горах мощными пушистыми снежными обвалами.
Пансионат «Чаривный бомбардувальник» был полупустым, несмотря на прекрасное время года. Была середина зимы, часто валил снег. Мир сосредоточенно одевался во всё белое, будто готовясь к торжествам, неведомых для нас, смертных.
После лыжной прогулки мы, смеясь, забежали в мой номер перекусить. Я и Сивилла. Нам сразу, как только встретились наши глаза, стало интересно вместе. Мы и забежали в одежде, от снега мокрой, на минутку ко мне, чтобы испить горячего чайку, поболтать.
Взрослый мужчина.
И взрослая женщина.
Забежали с морозца вечерком в тёплую уютную комнатку с торшером и широкой кроватью.
Когда я вышел из ванной, туалеты Сивиллы уже были, так сказать, отделены от тела, валялись на полу, а сама светловолосая женщина, сверкая глазами, сидела на моей постели, прикрыв для приличия освобождённые груди.
Но речь не об этом. Мужчины и женщины для того и созданы противоположностями, чтобы их влекло друг к другу. Во время наших свиданий в Сивилле зажёгся какой–то внутренний огонь, на который даже редкое население пансионата стало обращать внимание. Все вдруг стали замечать, что мы – пара. Красивая молодая пара.
Сивилла преобразилась. Она сделалась ослепительно хорошенькой. Она влюбилась. Но я тут был вовсе ни при чём. Сивилла хотела влюбиться. Она и влюбилась. И все мои заслуги были лишь в том, что я ей не мешал.
Светящейся, сияющей кометой проходила Сивилла по коридорам мимо полудохлых фикусов пансионата. Её крики по ночам из моего номера будили милицейские посты в отдалённых деревнях.
Когда отдыхающие приуготовились к разъезду и собрались на тесный завершительный междусобойчик, случилось вовсе нечто неожиданное. Из–за стола поднялся старейший из всех, он был из Грузии, все думали, что его зовут Гиви, а он оказался Георгий. Поднялся в большой чёрной кепке старейший Георгий и предложил выпить за молодых. За нас, Сивиллу и Джакомо. Раздались аплодисменты и, не объяснимый ничем, рёв восторга. Представители свободных республик, переженившиеся уже к концу сезона по десять раз, единодушно чему–то обрадовались. Они кричали: «За молодых!», кидали в воздух шапки и чепчики, выкрикивали наши имена, и всё это разом перешло в скандирование: «Горько! Горько!». Реактивная Сивилла несолидно кинулась прятаться под стол, чем усугубила всеобщее восхищение искренностью наших чувств. Пунцовую, в ярком сиреневом платье с голыми плечами, я достал её из–под скатерти на свет Божий, и сам удивился роскошной прелести моей на мгновение женщины, которая, обтянутая тонким туманом шифона, стояла здесь, наравне в нами, но, почему–то, казалась выше. Неизмеримо выше всех нас, возможно – от света, который шёл от её очей. От улыбки, которая была сама Тайна.
Возникла тишина. А потом грохот. Это под стол упал Георгий. Который кстати хотел спеть песню «Я могилу милой искал», но у него перехватило дыхание.
А потом я много раз при всех поцеловал эту женщину, которая на 12 дней, а, значит, на миг среди вечности, оказалась ко мне так близко…
О пауках
…Обнаружив самку, самец начинает «ухаживание». Почти всегда возбуждение самца проявляется в тех или иных характерных движениях. Самец подёргивает коготками нити сети самки. Последняя замечает эти сигналы и нередко бросается на самца, как на добычу, обращая его в бегство. Настойчивые «ухаживания» продолжающиеся иногда очень долго, делают самку менее агрессивной и склонной к спариванию.
Самец всегда становится добычей прожорливой самки, а когда самка спаривается с несколькими самцами, она съедает их одного за другим.
У тех пауков, у которых самцы могут спариваться только один раз, но после спаривания продолжают «ухаживания», конкурируя с не спарившимися самцами, их устранение самкой полезно для вида.
/Из «Жизни животных»/
Любовь – это, конечно, Божий дар, но чем–то всегда нужно обусловить причину его возникновения. Любовь требует ритуальности. Так, мужчина должен вешать лапшу на ушки женщине, а она, будто бы не понимая, к чему речь, должна, постепенно слабея, всё же отнекиваться и отбрыкиваться. А потом, в конечном счёте, женщина сожрёт своего самца. В самом механизме совокупления заложена тренировка этого многократного поедания мужчины женщиной.
Мужчины не наделены предчувствиями до такой степени, чтобы отказаться от ритуальных танцев, грозящих им неминуемой смертью. Они глухи и слепы в своём самомнении, в ложных представлениях о своём превосходстве над женщиной. Как гипноз, действуют на мужчину линии женского тела, призывный голосок, взгляды, от которых приходит в трепет всё мужское околокопчиковое пространство.
Нет, смерть мужчины – это не примитивное физическое уничтожение по–пауковски. После свидания с женщиной, он не нужен Вселенной, мужчина отыграл свою роль.
Он приходит в мир для свидания с женщиной, чтобы воспламенить её, зажечь в ней огонь любви. Огонь запылает и естественным путём распространится на детей, но сам мужчина, после свидания с женщиной, уже не нужен Вселенной.
Сколько раз, наблюдая за роковыми плясками паука, я видел за ними однообразный круг мужских судеб, моей судьбы. Возможно, это пришло ко мне от усталости, ведь я ревностно исполнял перед Всевышним долг мужчины, я зажигал в женщинах огонь, растапливая самые холодные, самые жёсткие, изверившиеся сердца. Я, наконец, устал от вспыхивающей в глазах всякой удовлетворённой женщины надписи: «не нужен», «не нужен», «не нужен»… Почти никто из мужчин не чувствует этого. Они глухи и слепы. Даже, будучи съеденными, они мнят себя победителями женщин. Я же стал видеть в себе крохотную козявку, которая уже третью сотню лет с блеском отплясывает перед истекающими слюной каннибалами…
Собеседник остановил свою речь. За окном луна скользила голубым лучом по диску пробегающей мимо пустыни. Духота чуть умерилась, и я уснул под барабанчики невидимого под колёсами механического ударника.
Где–то под утро я проснулся. Всё вокруг ещё пребывало в густых сумерках, но луч луны как–то напрягся, сделался сталистой поблёскивающей дорожкой от окна через пустыню к чёрной выси. Колыхалась в окне занавеска, как будто из него вынули стекло, и ветер предутрия свободно обозначал себя в шелесте развешанных одежд, газеты, оставшейся на столе под бутылками и остатками ужина.
Женщины не было на соседней полке. Не было и моего попутчика. Мне подумалось, что нереальный мой собеседник совершил очередной свой благородный подвиг. Позабыв свои странные рассуждения о жизни насекомых, либо отодвинув их на время, он, видимо, увёл женщину к звёздам. По лунной дорожке, которая широкой своей сталистой лентой оперлась о край раскрытого окна нашего вагона. Мне даже показалось, что далеко в выси, у края луны, я вижу сияющее пятнышко, которое наверняка должно было быть той женщиной.
С такими мыслями я уснул. Проснулся я опять, когда поезд уже приближался к Актюбинску. Я взглянул на окно. Запылённое стекло было на месте. Солнце уже заполняло духотой наше маленькое купе. Жена ещё спала. Соседа не было, а на столе… Сначала я думал, что мне почудилось. На откидном вагонном столике стояла… голова женщины. Той самой, что подсела к нам ночью, и которая плакала. Неестественно как–то стояла. Неправдоподобно. Живые головы так не могут стоять, а эта была, как живая, с широко раскрытыми и – о, кошмар! – счастливыми глазами! Не было ни следов крови, ни следов насилия. Как какой–нибудь Пушкин скульптурный, или Вольтер, выставленный для интерьера на подрагивающем столике.
Я собрал всё обладание себя и тихо спустился на пол. В принципе, всё закономерно. Всё к тому триста лет и шло. От Казановы до Чикатило один шаг. И мой романтический сосед его сделал. Я тихо–тихо, аккуратно–аккуратно прикрыл страшную голову полотенцем, чтобы со стороны выглядело вполне естественно, как деликатное сокрытие беспорядка после еды, благо волосы женщины не оказались слишком длинными. Поезд уже въезжал на станцию, и я быстро разбудил жену и чуть не на руках вынес её, вместе с чемоданом, в тамбур.
На перроне я оставил её на время и попросил толстого милиционера пройти в наш вагон, чтобы засвидетельствовать жуткое происшествие…
Но… не было головы ни на столе, ни под столом. Ни на полке, ни в ящике под сидением. Ни крови, ни головы. Только газета с огурцами, скорлупой от яиц и пустой бутылкой А/О «Кристалл» – «желаем вам хорошего настроения!».
– Жарко было в вагоне, да? – участливо спросил меня милиционер.
– Да, жарко, – ответил я.
На перроне стояла жена. Она улыбнулась мне, когда я направился к ней из вагона. Улыбнулась, и я увидел странное сияние вокруг неё. Мне даже показалось, что чуточку она стала выше, приподнялась над толпой.
– И, правда. Душное утро. Жаркая ночь, – холодеющей спиной подумал я…
15.12.97 г.
ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАДикие места, дикие. За сто вёрст, почитай, ни единой живой души. В 1983 году закон запретил отлавливать в степях одиноких путников и съедать их втихомолку в целях экономии поголовья общественного стада. Закон жутко ударил по стаду.
Вам трудно представить условия, в которых оказался Ваш кроткий рассказчик. Уже наутро, проснувшись в гостинице «люкс» восточного типа, Ваш покорный слуга почувствовал деликатные укусы в области, откуда у людей берут обыкновение расти ноги. Я имел тут в виду переднюю, фасадную часть человеческого тела. Ввиду того, что пропаганда жутко запугала мою легко ранимую психику, я сразу же подумал, что у меня какой–нибудь СПИТ, и скрупулёзно попытался отыскать призднаки страшной болезни. Их оказалось восемь, и у каждого были лапки. Поскольку я точно знал, что против этой зарубежной болезни никто ещё ни фика не придумал, то мысли меня сразу посетили самые грустные…
Все восемь призднаков я заключил в стеклянный флакончик, а сам сел писать завещание. Дома, в областном центре, в холодильнике у меня осталось около килограмма ливерной колбасы, которую я покупал в магазине, будто бы, котику Пушку. В очереди я всем так и объяснял, что у меня есть котик, зовут его Пушок, и он любит именно ливерную колбасу. А сам приходил домой, закрывал плотно ставни и двери и жарил колбаску с луком, а затем употреблял её в пищу. Рядом со мной колбаску кушал и котик Пушок, однако для него диетического продукта я не поджаривал и лука на него не тратил. Друзьям, близким и родственникам я завещал всю мою колбаску из холодильника, а, вместе с ней, и котика. Переднюю лапку Павлику, заднюю – Валере, головку – Горбачевскому.
Пока я был занят формальностями юридического характера, все мои призднаки покинули стеклянную банку и разбрелись по сельской местности. Уже к обеду секретарша директора совхоза энергично двигала внимательной пятернёй по фасадной части своего тела в том месте, откуда выросли её кривые чёрные ноги. И солнце ещё не коснулось линии пустынного горизонта, как сами собой потянулись в карманы брюк руки самого директора совхоза.
Таким нехитрым образом, уже через сутки, мои призднаки распространились по всему хозяйству, и, не покладая рук, с утра до вечера, рачительно шевелилось его мирное население, достигшее половой зрелости.
Вы, конечно, догадываетесь, что так просто не то, что СПИТ, а и чирей нигде не соскочидт. Я допустил неосмотрительную глупозть, за какую заработал неизправимую разплату.
Ехамши в Байганинский район, я, нуждою опстоятельств, был присовокублён к девушке–аборигенке у в белоей шупке. Она тоже ехамши со мной в попутном направлении со мной на заднем сидении УАЗИКа.[6]6
не путать с аббревиатурой СПИТ
[Закрыть] На каникулы от университета из Караганды. Слово «университет» всегда возбуждает мою нервность, и я не мог всю дорогу просидеть мимо, не обративши на неё внимания. Мы несколько раз друг другу конспиративно улыбнулись, и я даже успел шепнуть на ушко девушке, что она казыр айналайн.[7]7
неуклюжая попытка сделать комплимент
[Закрыть] Большего преуспеть я не мог никак, потому что в непосредственном соседстве находился бешеный папа моего айналайна.
Звёздный час мой пробил, когда я, по долгу службы, посидел у них в гостях. На полу вповалку – одни мужчины – мы пили чай с водкой, а потом я вышел освежиться на улицу и возле скирды пахучего сена столкнулся с моим айналайном. Я и не сомневался, что она девушка цевилизованная, что нам не надо будет тратить время на всём этом жутком морозе. Под овчиной я нашёл дикие разнузданные груди, сжал их, чтобы можно было сильнее закусить её губы, дрогнувшие и раскрывшиеся. На сене она стала ко мне спиной, мороз был жуткий, и я не смог правильно сориентироваться. Помню, как (я даже подумал – девочка) вскрикнула и как–то вся разтопырилась, а меня достиг запах человеческого навоза…
Вот и всё. Я оттирал себя снегом, высохшим насмерть от лютого крещенского мороза, но напрасно: запах не проходил и становился характернее и ярче при попадании меня на тепло.
Через несколько дней, когда я лёг переспать на рыжие хрустящие простыни гостиницы «люкс» восточного типа, меня забеспокоили призднаки загадочной болезни, о которой, оказывается, к тому времени, с тревогой говорило всё прогрессивное человечество.
По сигналу, поступившему сразу в ЮНЕСКО и ООН от людей из нашей страны, которые любят кругом сигнализировать, в самые сжатые сроки был создан специализированный интеротряд, которому предстояло локализировать, а затем и погасить очаг эпидемии СПИТа в Байганинском районе Актюбинской области.
Прибыли, как и полагается, в противогазах и презервативах. Однако, всё оказалось не так просто. Местное население стало сопротивляться спасательным действиям отряда. Кто–то пустил вредный слух, будто председателем райисполкома посадят американца. В полной средней школе Караулкельды вывесили лозунги: «Пьянки – вон!», «Наше – нашим!». Из аулов подтянули конницу, раздобыли луки, стали выстругивать стрелы, обмакивая затем концы в печень дохлой вороны.
Когда появились баррикады и в бойцов интеротряда полетели первые камни, запущенные мыслящей рукой, иноземные спасатели стали проситься назад, в Америку, и вообще, кто, откуда пришёл.
И тогда по Центральному Байганинскому телевидению выступил Главный врач интеротряда. Он попытался объяснить местным жителям, в первую очередь, интеллигенции, что он не хочет быть ни первым, ни вторым секретарём в районе, и никто из членов отряда не заберёт у руководства для себя ни одной папки.
То ли Главный врач попал в самое «яблочко», то ли помогли факты и аргументы в виде 15-ти боевых вертолётов, которые прибыли в Байганинский район на подмогу отряду ООН, но уже на другой вечер по телевизору попросился выступить сам первый секретарь района и неуверенно подтвердил, что американцы в районе жить не будут. Не будет американских школ, и детишек в аулах не будут заставлять давиться жареной кукурузой. Просто всем на специальном пункте нужно пройти санобработку, и чужеземцы уедут.
К тому времени Главный врач интеротряда нашёл уязвимое место на теле байганинского вируса СПИДа. Бойцами интеротряда были обследованы камни, которыми, в порядке самообороны, удачно швырялись жители гордого райцентра. На многих из них ползали вирусы. Оказалось, что байганинский вирус весьма чувствителен к керосину и дихлофосу.
Об открытии мирового значения, по просьбе местного аппарата, решили не распространяться. Когда мятежное руководство уверилось, что интеротряд, действительно, не преследует иных целей, кроме такого пустяка, как ликвидация СПИДа в районе, бойцы тут же получили могучую поддержку в его лице. Лицо руководства обеспечило организованную обработку населения, и в течение трёх дней опасная инфекция была уничтожена.
И целую неделю с американскими друзьями
И две недели после
Шёл радостный обед с чаем, водкой
И!
Неисчислимым количеством бараньих головок…
февраль – май 1988 г.








