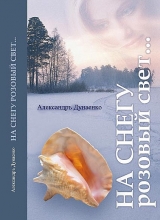
Текст книги "На снегу розовый свет..."
Автор книги: Александр Дунаенко
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Александръ Дунаенко
«НА СНЕГУ РОЗОВЫЙ СВЕТ…»
Александръ Дунаенко:
«Я подумал, уже в который раз – почему–то при всей доступности любовной тематики, при всём том, что и интерес к ней всегда повышенный, никто почему–то не хочет писать о любви и делать при этом хотя бы небольшое умственное напряжение. Ведь основной инстинкт – он же не только для размножения, а и для того, чтобы мы становились лучше…»
Женский взгляд на прозу Александра Дунаенко
Александра ВалаеваСветлый мир Александра Дунаенко
Различить авторскую интонацию, «услышать» авторский голос – вот первая моя (тайная) надежда при знакомстве с новым писателем. Открыть книгу на любой странице и читать – хоть с полуслова. Если текст «молчит», как бы мастерски он ни был исполнен, какими бы драгоценностями ни был начинен, он для меня пустой.
Всегда удивление, всегда чудо, если на фоне безликой толпы вырисовывается чье–то лицо – типические черты сложились вдруг в нетипическое, необщее выражение. Или из монотонного бормотания (белого шума), привычного, затягивающего ушные раковины, выделится, зазвенит серебром необщеголосая гармоника.
Рассказы Александра Дунаенко «зазвучали» сразу.
Я пытаюсь понять – отчего так. Связано ли это с каким–то особым способом выстраивать повествование? Или автор, сочинительствуя, вынимает из темно–синего бархатного мешочка слова–жемчужины, наделенные волшебной силой притягивать читательское внимание, и умело инкрустирует ими текст? А, может, персонажи у него столь трехмерны, или даже четырехмерны, что живых людей живее кажутся? Все это – да! А еще ритм Дунаенковской прозы лаконичен и упруг и легко подчиняет себе читательское дыхание. И вот уже через короткое время читатель с удивлением обнаруживает, что дышит в такт с рассказчиком. В нужных местах, предварительно набрав полную грудь воздуха, держит требуемой длины паузу, а потом – ух! – в один прием опустошает, до вакуума, грудную клетку. Или выпускает малыми порциями, коротко выговаривая у–а–э-оу.
Но все же главное во всей этой истории, по моему мнению, заключается в том, что Александр Дунаенко, описывая в своих рассказах вполне обыденную жизнь – мужчину и женщину, между ними любовь или нелюбовь, ссоры, измены, встречи, озарения, слезы, разлуки – рассуживает… да нет, что я такое говорю, менее всего Саше к лицу мантия судьи – представляет эту жизнь с весьма необыденной, необывательской точки зрения. У него поперечный (поперешный) взгляд, а в ряде случаев и вовсе контр–взгляд. Самые красивые кадры в фото– и видеосъемке получаются, если направлять объектив камеры против солнца – в таких кадрах получаются богатые по глубине и цвету тени, а контуры предметов обретают светящиеся ореолы, надо только грамотно выбрать экспозицию. Александр Дунаенко искушен в операторском искусстве, поэтому подтвердит мои слова. Самые интересные наблюдения над жизнью у того писателя, который смотрит против света. Надо только – чтобы свет не слепил глаза – чуть–чуть прищуриться. Ну а где прищур, там и легкая ироничная улыбка.
Так смотреть может только независимый человек. Мне остается лишь предположить, какой ценой дается эта независимость.
Большинство из представленных в книге рассказов насквозь эротичны. Причем автор не приемлет воздушную, бесплотную эротику, где основная интрига маскируется шелковым покрывалом, и мы лишь по изменению рисунка складок – они разбегаются, сходятся в спираль, изгибаются, опадают, вновь восстают – догадываемся, что же в действительности происходит. Автор как будто провоцирует читателя предельной откровенностью, он не знает неловкости в описании самого–самого, тех тайников, на подступах к которым иной сочинитель вдруг скатывается до ужимок и подмигиваний или до пошлости. Александр Дунаенко очень тонко и точно ведет повествование, а ведь тема взрывоопасная, малейшее неверное движение и напорешься на мину. Мне представляется, что на подобное способен лишь очень мужественный и очень мудрый писатель.
Я благодарна автору за его предельно нежное отношение к женщине. Не боготворит. Потому что знает и понимает: женщина – это не божественный свет, но игра света и тени. Возможно, именно этим она и притягивает мужчину. Мужчина исследователь. Любимая тема его исследований – пограничные состояния женской души, в них женщина раскрывается полно, щедро, без остатка. Как прекрасный цветок.
И еще благодарна за то ощущение легкой полынной горечи в душе, которое остается по прочтении рассказов. Их обязательно надо читать все. Потому что каждый – отдельная грань мира Александра Дунаенко. Путешествуйте по этому миру без опасения. Он добр, мудр и светится любовью.
Лара ГалльАлександръ Дунаенко. Обжигающая энергетика
Мне было бы интересно побыть немножечко рядом с ним. Невидимо.
Именно невидимо. Не касаясь. Не дыша.
Подсмотреть, как он ходит, смеется, говорит.
Как наблюдает свое сердце в его предстоянии миру.
Как взращивает в себе ежедневный наркотик нежной снисходительности к ближнему…
Как пишет себе черновики приговоров, рвет их, и пишет апелляции, и прошения, прошения, прошения о других, о ближних, потому что у него нет дальних, нет, нет… (а черновики становятся потом его рассказами).
Но конечно, это невозможно. Мне можно лишь вскипеть созвучием и пролить на бумагу тонкие сплетенья букв, тщась передать воздействие Сашиной прозы…
Однажды он написал мне: «бывает, что кто–то пишет свои произведения кровью. А, бывает, оголёнными нервами. Кровью заметнее. Нервом – больнее».
Чем пишет Дунаенко, что виден «розовый свет на снегу»? Что подсвечивает розовым чудо tabula rasa нового снега? Кровь? Или заря? Заря вечерняя или заря утренняя?
«… и дам ему звезду утреннюю»…
мне всегда представляется, что вот – ночь, пролетевшая в работе, написано–начеркано много–премного, и ты уже не понимаешь ничего, не ощущаешь себя, дрожишь от изнеможенья на самом краю мира один, и «надо ли это кому» думаешь…
И! Поднимаешь голову – а в окне неба уже почти нет и только одна звезда утренняя – твоя, потому и не ушла со всеми.
И! Опускаешь голову – а в окне снег уже розовеет зарей.
Ты на границе дня и ночи, ты на границе, ты на грани…
Сашины рассказы – предельны. Они на грани. На грани проникновения в сокровенный смысл явлений.
Такова эротика в его рассказах.
Вот что он написал мне однажды в контексте обсуждения жанра «интеллектуальной эротики»
«На простого человека энергетика гениталий действует обжигающе, он не может объяснить, отчего приходит в трепет, и пытается защитить себя – называет всё это самыми жуткими словами, какие только смог придумать от впечатления. Ему кажется – вот швырнёт он всё это на землю, потопчется, обругает – и чары исчезнут. Ему хочется таким образом возвыситься, выйти из–под этой необъяснимой власти. А – не уйдёшь.
Потому и сделали страшилки, что не могут ни понять, ни объяснить магии воздействия предметов, по сути, совершенно простых…»
При словах «магия воздействия» гениталий мне вспомнился неоплатоник Прокл, считавший, что постыдные образы мифов побуждают к поиску неизреченного знания. При чем, те же образы скрывают это знание от непосвященных.
Сашина поэтическая многообразная энергия, нисходит как–бы сверху к многовидным жизням души и погружает ее – душу – в некое невыразимое единение с автором.
Любовная исступленность в его сюжетах – попытка прийти в соответствии с красотой высшего замысла о любви. В соответствии с божественной симметрией определяет он свое искусство.
Его самые откровенные описания полны наилучших символов и предполагают присутствие своеобразной добродетели.
Его фантазии вмешанные в сюжет («Принцесса, дочь короля», «Дура»), совершаются через гротескные подражания, поражая читателя такими именами и речениями, таким инаковением гармоний и разнообразием ритмов, чтобы радовать и печалить страстное начало души.
Правда же, интеллектуальная проза – это не обязательно напряженный умняк?
У Довлатова, к примеру, проза интеллектуальнейшая. Проста в прочтении настолько, что ему инкриминируют рядовое бытописательство. Но его проза просто лучится умом. Для того, чтобы сплести слова таким именно образом требуется всю жизнь думать и проницать, и соотносить материи не иначе как философские, какой бы вид они не принимали в быту.
Вы понимаете, о чем я?
Бытописатель тоже работает с общим формами мышления, но мышления поверхностного, рассудочного.
Писатель интеллектуального склада – а Дунаенко таков – идет глубже, туда, где формы мышления предельно общие, архетипические, ну, как в сказках, понимаете?
Оставляя все рассудочные структуры в неприкосновенности, такой писатель проходит сквозь них, в самую глубь, и преобразует обычные сюжетные картинки в интеллектуальный продукт, в художественное произведение.
Читатель, потребляя такой продукт может и не понять, что «вкушает» интеллектуальную прозу. Просто ему будет хорошо.
Но «иным открывается тайна» и они остро чувствуют к а к пишутся т а к и е рассказы, какая плавильня духа дает в итоге такое теплое золото.
Все буффонады Дунаенко сотканы из нитей размотанного клубка вечной трагедии.
* * *
Однажды, я попыталась рассказать ему (!) какими мне видятся его тексты.
Сбивчиво и взахлеб лепетала о метафоричности, об аллюзиях, о том как тонко чувствует он ткань бытия, и драпирует свои чувства щедрыми складками натурализма. О том, что вот ему удалось нащупать архетипы. Что главное в его текстах не приведение мужчины и женщины к общему знаменателю – сексу, а другое, например – утоление человеком жажды познания себя (секс – это ведь не предел утоления общностей, а всего лишь порог)…
На что он мне сказал: «…когда пишешь, то строчки представляются средством, с помощью которого пытаешься высказать что–то, что находится между ними».
Milla Sinijdrvi(Милла Синиярви)Дуновение
«Я вру, и в этом моя честность», – философически заявил Феллини. Русская реалистическая проза, к которой можно отнести автора нашего сайта Александра Дунаенко, отображает действительность с максимальной достоверностью.
В рассказе «Сатисфакция» изображаются события районного масштаба, буднично, без всяких ЧП, гротеска и тех обобщений, которые провинциальные литераторы обычно не жалуют. Местечковый менталитет в традициях Шолохова умело раскрывается автором. Сельчанам понятно, о чем базар. Можно сплевывать семечки на пол, слушать, не напрягаясь. Или лузгать их, лежа в постели.
С доверительной интонацией рассказывает Дунаенко о взрослении мужчины. Авторский голос звучит так правдоподобно, что кажется, автор безумно смел, откровенно повествуя о своих сексуальных историях. Но это прием опытного литератора – создавать иллюзию достоверности. А как же иначе? Ведь речь о самом личном.
С грустью изображается наша действительность, простая до отвращения, серая, однообразная. И только воспоминания о любви возвышают знакомый быт, одухотворяя нравы безвременья.
Дунаенко показывает героя, для которого национальность и сексуальная ориентация – понятия интимные. Персонаж скромен, замкнут и консервативен. Он находится в плену представления, что ударить женщину можно, ведь «бьет – значит любит».
Впрочем маленький человек, который «ляпает» не то, случайно задевает окружающих, неловкий и несовременный, находит самовыражение в другом. Он умеет любить.
Для меня рассказы Дунаенко – образцы прозы о мужской чувственности. Мне важно узнавать современника, находить ответы на вопросы: почему так поступают мужчины?
Как любит русский? Наверное, как и француз, которого волнуют запах женщины, прикосновение к ее груди, исполнение капризов. Любой любит смотреть, как женщина ходит, разговаривает, смеется, ест, спит.
Душа моя замирает при описании сцены плачущего мужчины. Я сочувствую героине, узнавая себя! Сладостно мучить любимого, добиваясь очередного признания. Насилие с его стороны необходимо как некая сатисфакция, подтверждение закона природы. Мужчина – силен физически, женщина, подчиняясь, мстит за потерю прав.
Я вижу русскость Дунаенко в предельной откровенности или открытости. Автор раздевает мужчину. Проза Дунаенко исповедальна. Но отличается она от многочисленных рефлексий поколения сорокалетних тем, что автор серьезен и идет до конца. Он описывает эволюцию мужской сексуальности от детских лет до старости.
Пафосом многих рассказов Дунаенко является противопоставление старости и любви, смерти и эротики.
Хочется сравнить самую сильную сцену в рассказе – описание первого сексуального опыта героя–второклассника – с известным коллажем Феллини. Маленькая фигура режиссера находится между увеличенных женских ног в шикарных туфлях. Эпатаж прощается дуновением магического органа, который освящает мужские фигуры и вдохновляет на творчество.
ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ
Посвящается Джулии
ПРИНЦЕССА, ДОЧЬ КОРОЛЯИстория эта кошмарная, и, не приведи Господи, кому из вас такое пережить. У меня и сейчас в руке дрожит перо…
А вышло всё оттого, что вздумал я, старый пень и дурак, в тридцать пять лет жениться. Говорят, что рожать в этом возрасте уже будто бы трудновато, а вот жениться – в самый раз. Созрел, мол, нагулялся. Остепенился. Не знаю. Если в жизни всего наделался, то, скорее, помирать пора, а не жениться.
Красавица моя временно проживала в Москве и училась на журналистку. А я готовился получить диплом культурного человека в специальном институте, где пять лет учат играть на балалайке, а первые три года – читать и писать. Институт, само собой, тоже находился в Москве, общежитие наше поставили на ремонт, а меня, за хорошую учёбу, поселили в ДАСе – общежитии Московского университета. Первую неделю я ходил овцой по ихнему общежитию и пялил глаза на росписи, выполненные пещерным человеком, на курящих девочек и чёрных негров, которые рассаживались вокруг кадки с пальмой и чем–то напоминали Африку.
Я чуть было не окунулся во всю интересную атмосферу дискуссий и жарких прений, каковые разводили здесь люди исключительного мозгового размаха. Но тут эта женщина злополучная попалась. Вроде, как шлагбаумом, она отсекла мне путь к живому общению с талантливой молодёжью ДАСа.
Да, да, она была красавицей. Иначе я не пролил бы суп на её ночную рубашку. В той самой, знаменитой «дасовской» столовой, тихонько я двигал свой поднос к кассе и случайно оглянулся. Ну и негритянка… Ну и негритяночка! Тридцать пять лет жил, не знал, что такие негры на свете бывают. По телевизору их, что ли, выборочно всегда показывали? Да и здесь, в ДАСе, сплошь синие, губастые, с плоскими лбами – страшно смотреть. А тут – вполне европейская будто бы женщина, только губы сочно–красивые, чувственные, каких в Европе не делают, да кожа… Что кожа – у нас в Актюбинске, в Мугоджарском районе, и почерней девочку можно отыскать.
Наверное, я, как все мужчины, сволочь, потому что хочется рассказать и про стройность её, и про большие глаза голубые, и про волосы, что длинные, вьющиеся, до самого пояса. Ну, что она, скотина какая, что я о ней всё – с ног до головы, как о лошади. Ещё бы про зубы похвалился. Да, и зубки у неё были, хотя и несколько крупноваты, но хороши поразительно.
И вот на эту улыбку я натолкнулся со своим подносом, ожёгся об эти глаза. И был бы я последний чурбан невоспитанный, если бы не уронил весь обед, не облил ей супом ночную рубашку, и – не опрокинул себе на голову стакан сметаны потом, когда увидел, каких дел натворил, и как трудно будет теперь всё исправить.
Джулия (она – Джулия!)рассмеялась так, что миллион жующего в зале народу вздрогнул. Ей, конечно, было жаль заграничного своего платья, которое я, деревня, принял за ночную рубашку. Жаль, потому что от нашего советского супа «харчи» бессильны пятновыводители, нужны ножницы, но вид меня в сметане, по–видимому, с запасом покрыл издержки несчастного случая. Сразу стало видно, что я – человек необычайно острого ума, но, что более важно (как сказала мне потом сама Джулия), что я влюблён в неё без памяти.
Вечером я пошёл к Джулии извиняться. В голове был сумбур, как будто часть супа попала ещё и туда. Как зайду? Что скажу?
Дверь. Звонок. Джулия. Мы разговариваем. Джулия не сердится, совсем не сердится и много смеётся. Русский она знает плохо. Знает английский, французский, итальянский, несколько каких–то своих. Я со словарём знаю все языки. Но жадно вслушиваюсь в обрывки русских слов. В Африке есть маленькое государство Калликсо и Джулия – обыкновенная принцесса, дочь короля. Их страна отказалась культивировать у себя язвы капитализма. Сейчас Калликсо очень нужны свои адвокаты, журналисты, философы. Лучших своих людей правительство посылает на учёбу к нам, в Советский Союз. Я смотрю на Джулию восторженными глазами: она – лучшая. Она – самая лучшая. Прихожу к ней пять, десять раз – пропадаю. Что у них ещё за порядки – ходить почти нагишом. Ну, этот её «нагиш», правда, не совсем «нагиш». Карден бы заплакал, а то и вовсе слёг. Древний художник росчерком в несколько линий сделал ей наряд: так одевали богинь. Я хотел посмотреть, как их раздевают. Я взрослый человек, мне скоро сорок. Вечер. Мягкий розовый свет в комнатке Джулии. Мы одни. Я протянул руку, и тут послышалось тихое противное шипение. Бог с ней, с любознательностью. – Что это у тебя шипит. Джулия? Чайник, что ли? И тут, рядом с девушкой, появляется голова кобры… Так, ничего особенного: сплюснутая голова пружинисто покачивается на изогнутой струне туловища. Ещё этот… язычок, туда – сюда. Я, конечно, сразу за девушку испугался, встать не могу, белый весь. А она смеётся. Это, говорит, Кесси. Кесси живёт вместе с ней в общежитии и, по поручению богов, охраняет Джулию. У них в стране очень серьёзно относятся к браку. До свадьбы возле каждой девушки живёт такая кобра, и ещё не бывало случая, чтобы под венец попала не девственница.
Джулия, ты помнишь старый круглый стол, на котором творили свои бесчинства бояре старой Москвы? Как вообще такой стол мог попасть в ДАС? И даже – такие столы? На каждом этаже их было по два, на каждом столе – следы страстей трёхсотлетней давности. На этих столах любили, рубили головы, четвертовали, за этими столами пили и устраивали спиритические сеансы. В ДАСе столы украшали крохотные пазухи в длинных коридорах общежития.
Джулия, ты помнишь, ты приходила ко мне в 211‑ю? Девушке неприлично находиться в комнате мужчин, мы шли на круглый стол. К свиданию ты одевалась так, что во всём ДАСе бледнело электричество. Мини – разве можно такое мини! Колготки – что ты делала с бедными мальчиками ДАСа? Губы – зачем тебе этот шок в коридорах, зачем пожар?!.. Садилась на древний стол: стройная нога на стройную ногу – (а что ты делала со мной? – но я всё время помнил о Кесси) – садилась, брала в тонкие пальцы свою импортную цыгарку. Зачем куришь? С трёх лет, с трёх лет… Ну и хватит, зачем нам рахиты? Море, бананы, апельсины. Да, хорошо у вас. Самое лучшее у вас – это твои глаза, Джулия. Твои голубые, синие, зелёные, бирюзовые… чёрт, как они меняются… ты чистокровная калликсянка? Странно: кожа, голубые глаза. Можно, я коснусь губами твоей кожи? Ваш Бог разрешает? Наш? О! Наш разрешает всё, а потом на том свете наказывает. Можно, да? можно?..
* * *
В поезде двое суток в купе. Чай. Суп из солдатской мисочки. За окном остатки лесов. Ночью с верхней полки я протягиваю руку к Джулии. Она внизу. Я слышу кончики её пальцев. Полумрак. Сопят соседи по купе. И мне кажется, что, на соседних полках, спят проклятые змеи.
Наутро я в радостном волнении: колёса поезда въехали на актюбинскую землю. Яйсан, Мартук, Каратогай – красота–то какая! Что–то мне папа с мамой скажут… Я им вообще–то писал, что приеду с невестой, но не посвящал в подробности. Зачем заранее сообщать, что, мол, принцесса, и ещё полцарства в Африке в придачу. Да, Джулия что–то там говорила об алмазных приисках, залежах урана. Её папа втихаря уже бомбу делает. Если всё будет хорошо, бомбу он отдаст нам с Джулией. Будет ли всё хорошо? Со своим папой я договорюсь, а вот что скажет мама? На словах мы все интернационалисты, а когда доходит до дела… Вот у нас, в Растсовхозе, грек вздумал на испанке жениться, так между семьями чуть резня не вышла. Совхоз узнал, что все греки пархатые, а испанцы, только недавно, кушать стоя научились. А тут – калликсянка чернокожая.
В Москве я специально ходил с Джулией в Тимирязевский парк, на озеро, чтобы как можно сильнее загореть. Сама она чернее не становилась, а вот я к ней чуток подтянулся. Белый бикини Джулии издали обращал внимание. Москвичи оборачивались, останавливались, как будто негров никогда не видели, и с интересом разглядывали меня, да так, что я чувствовал себя марсианином.
На актюбинский вокзал шоколадная Джулия вышла в лёгком чёрном платье. Вот и ничего. Ну, немного темнее наших, но у неё душа хорошая. Бедная моя мама… Но даже папа в первые минуты ослабел…
Дорогие мама и папа, к вам не ревизор приехал, это моя Джулия. Я понимаю, что, поначалу, все матери глядят на сноху, как на человека другой расы, но, умоляю вас, будьте интернационалистами! Мир! Дружба! Рот фронт! Но пасаран! (Хоть бы один лозунг по–калликсянски, чтобы Джулии было приятно). Као ляо по соляо… нет… не то… Джулия опять смеётся, протягивает руку: мама тётя Анна Васильевна, My name позовут Джулия. Да, мама, это моя невеста. Папа обнял меня. Он рад. Он радовался бы даже и в том случае, если бы я и совсем не человека привёз, лишь бы мне было хорошо. – Что, уже надо жениться? Совсем не заметно. – Заметно, папа. Мне уже тридцать пять, и это заметно: голова седеть начала, морщины от бесконечного веселья. Нет, родители не приедут. Сложное положение в стране. Будут два–три министра, да товарищи по племени.
Я показываю Джулии грядки с морковкой, огурцы и помидоры. Папа у меня огородовед–любитель. Безобидный конкурент планово–убыточному совхозному хозяйству. Каждую осень он прячет в погреб мешок картофеля, в котором несколько десятков новых сортов. Есть и даже трогать их нельзя, потому что это сорта, и потому на зиму для еды папа собирает картофель с полей того самого убыточного совхоза, где горожане, по обычному осеннему авралу, создают видимость уборки, помощи города селу. Джулия не понимает сложной механики советского хозяйствования на уровне отдельно взятой семьи и страны в целом. Объяснять бесполезно. В Калликсо только начинают строить социализм и пока как–то всерьёз о продуктах не задумывались.
О свадьбе, в принципе, договорились. Родители сделали вид, что успокоились. Ночью мама подходит к моей кроватке и тихо плачет. В одно из свежих солнечных утр к нашему бараку подъехала чёрная «Волга». Вышли большие люди в чёрных пиджаках и галстуках. Облисполком, Гизат Эбатович. Очень приятно. Международная свадьба. Событие для города. Будут пресса, отцы города, КГБ. Мало ли, что может случиться. Автобус подадим, выделим средства. Это что, она? У – у, какая хорошенькая! А что она ест?..
Двенадцатого июля свадьба и день рождения Джулии. Город в транспарантах. Из предприятий всех повыгоняли для ликования, когда будет проезжать свадебный поезд. ЗАГС, католическая церковь. У нас перестройка. Уже два года мы стараемся терпимо относиться к людям, которые верят не в то, во что надо. Джулия сказала, что в церковь – обязательно. Ладно, понимаем. Потом – Дом культуры металлургов, свадьба. Накануне Джулия сказала мне одну странную вещь. У них, в Калликсо, прямо–таки культ нравственности и целомудрия. Но, в день свадьбы, жених с невестой должны пройти суровое испытание. Так требует их бог Мугму, и никто не смеет его ослушаться. В общем, нужно, чтобы с Джулией, в день свадьбы, переспали все мои и её друзья (в первую очередь – самые близкие), ну, конечно, товарищи по работе, по партии. Ну, а потом я и сам могу прикоснуться к своей невесте, и уже до конца дней мы будем принадлежать только друг другу.
Получалась вот такая ерунда. Я сказал: Джулия… Джулия, – я сказал, – а, неужели нельзя попросить этого Мугму, чтобы он, в порядке исключения, как–то поменял ваши традиции? Мы, вон – пить на свадьбах бросили… А тут ещё… Ведь свадьба–то международная! Я бы тоже помолился, меня ещё в партию не приняли. Я бы очень сильно молился, Джулия, ведь я же люблю тебя. Я смотрю на её длинные–длинные ресницы. Слеза каплей повисла на кончике. – Нет, Саша, нет. Мугму рассердится…
* * *
Гости, гости, гости. Как много мужчин. Откуда их столько набралось? Только из Калликсо человек двадцать припёрлись. Сами, без женщин. Конечно, чего на такую свадьбу ехать со своим самоваром? В Доме культуры духовой, расставлены столы. И – не знаю, как это назвать – что–то вроде шатра прямо посредине зала, на возвышении. Там – роскошное брачное ложе. Обком достал для такого случая. Вообще, новость об изюминке свадебного обряда по–калликсянски поначалу родила замешательство в рядах аппарата исполкома. Но, после событий в Алма – Ате и Нагорном Карабахе мы поняли, что к национальным традициям нужно относиться очень бережно, с пониманием. Конечно, если бы речь шла, к примеру, о человеческих жертвах тому же самому Мугму, то мы были бы против. Нам такие свадьбы не нужны. Но тут, вроде, ничего особенного. Как будто цветной телевизор купить и платить – либо сразу всё, либо в рассрочку. Так уж лучше сразу, если есть возможность.
Мы приехали в Дом культуры, и я должен быть тамадой. Я должен приглашать к Джулии мужчин и ещё каждого благодарить. Павлик, лучший друг, заходи. Почему не можешь – это обычай такой. Нужно. А то Мугму обидится. Нет, я этого Мугму не видел. Ты заходи. Мугму, обычай, потом… эта… очередь волнуется… Нет, горячей воды нет. Откуда в Доме культуры металлургов горячая вода?.. Не идёшь?.. Ну, как знаешь…
Я не помню, кто за кем шёл. Отдельные лица иногда всплывают в памяти. Гизат Эбатович: галстук, пиджак, живот. Подошёл, переваливаясь, ко мне. Вручил цветы, поздравил. Сказал: – вот как интересно: у нас, у казахов, свои обычаи. У них – свои… И, кряхтя, полез в шатёр. Был и Рапсодий Иванович. О! Рапсодий Иванович когда–то работал со мной и получил по ушам от кого следует за жажду перестройки за три года до перестройки. Проходя мимо меня, Рапсодий Иванович сделал вид, что выражает соболезнование и возился в шатре минут двадцать. Вермиклер прибежал, весь запыхавшийся: – я только туда и назад. Язю в буфете оставил, а сам к вам. Здесь же обычай. Куда? Сюда заходить?.. Вермиклер тоже со мной работал.
Свадьба была безалкогольной. Всё враки, когда говорят, будто бы на безалкогольную свадьбу люди собираются с неохотой. На нашу свадьбу собрался, как мне казалось, весь город… Уже прошли калликсяне, друзья, КГБ, ГАИ и местные органы власти. Уже прошли земляки и родственники товарищей по работе, а толпа у шатра все не уменьшалась. Подходили, говорили: – я вас знаю, вы на балалайке по телевизору выступали, мне можно?.. Я уже почти ничего не соображал. Мугму, Рапсодий Иванович, Калликсо – всё перемешалось в голове. Вот он, настоящий бал у Сатаны!..
Я захожу иногда в шатёр. Я свой человек, гости меня не стесняются, я же муж. Я вытираю Джулии лоб прохладной влажной салфеткой, пока какой–то мой новый товарищ поправляет свой оголтелый натурализм. Где же ты, Кесси?!..
Чьи–то руки жадно мнут тело Джулии. Каждый исполнитель моего безумного приговора, содрогаясь, как будто готов разбить, расплющить тёмную фигурку на роскошной арабской постели. Кто–то просит переменить позу. Заглянул Вермиклер: – моя Язя в буфете, по обычаю сколько раз нужно? Потом он, всё–таки, где–то напился, ходил среди столов, и, как я понимаю, в желании мне угодить, спрашивал: – ну, кто ещё невесту не е…, и он называл, конечно, всё слово полностью, до конца, чтобы все его поняли правильно…
Эти сутки июля я вспоминаю, как чудовищный сон. Сейчас, в наше время, разве такое возможно? Дикость. Да и абсурд, наконец. Я почти не удивился тому, что обо всех событиях, связанных с игрищами в угоду варварскому богу, все участники начисто забыли уже на следующий день. И, кроме разговоров о пышной международной свадьбе в Доме культуры металлургов – ничего, даже сна о том, что видел я, не осталось в головах впечатлительных актюбинцев.
И я побывал в Африке. В загадочной и полной чудес стране Калликсо. И мне, который видел только игрушечную речку Илек, облизывали ноги лазурные волны сразу двух океанов. Прозрачные и тяжёлые, они поднимались до небес и выбрасывали на берег цветы и драгоценные камни.
И только Павлик… Да… Павлик… Спустя три дня, после нашей с Джулией свадьбы в Доме культуры металлургов, его нашли мёртвым в машине. В собственной машине «Нива», цвета «голубая адриатика», где японский магнитофон мог без конца играть вам лучшие песни света. Они были лучшие, а так устроен этот дурацкий магнитофон, он играл их без перерыва. С начала и до конца. А потом менял дорожки. Павлик сидел, обхватив руками руль, и – слева от его губ – два красных пятнышка, две крохотные ранки запеклись, как порез от безопасной бритвы…
Врачи сказали (его, конечно, осмотрели врачи) – они сказали, что Павлик умер от О–ЭР–ЗЕ: видите ранки – типичный симптом, он ведь курил, правда? бросил? ну, вот видите, тогда, конечно… вот вам и результат: бросил курить, вышел под открытую форточку… Змеи? какие змеи? Что вы! Откуда у нас змеи в Актюбинске?!
* * *
Папа Джулии, как мужчина мужчине, лично мне подарил сундук с красочными перьями. Перья эти волшебные, в них нужно показываться на балконе перед народом. Я теперь там, у них, сын короля. И теперь я хочу, чтобы меня, как и первого сына отца Джулии, отравили.
Чтобы отравили, как можно, скорей.
11–21 мая, 1988 г.








