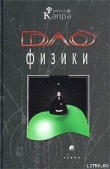Текст книги "УРОЖАИ И ПОСЕВЫ"
Автор книги: Александр Гротендик
Жанр:
Математика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Сам-то я далеко не всегда отличался подобной бдительностью: право же, это последнее, о чем я в те годы беспокоился. Между тем, я определенно ожидал, что другие станут проявлять ее по отношению ко мне. Первым и единственным человеком, который заставил меня задуматься об этом, был Майк Артин. Как-то раз он сказал мне – с шутливым видом, словно речь шла о секрете Полишинеля – что, ухватив живую идею за загривок, нет смысла тут же делить ее на части, высчитывая, кому что по праву принадлежит. Иными словами, когда ты подходишь
Самодовольство и обновление
вплотную к сути того или иного вопроса, – так, что уже можешь, перегнувшись через край, заглянуть в самую глубину, – невозможно толком разобрать, что здесь придумал ты, а что тебе подсказал кто-то другой; да и незачем.
Поначалу это соображение привело меня в некоторое замешательство. Мои старшие товарищи – Картан, Дьедонне, Шварц и другие – не могли бы сказать мне ничего подобного. В правила профессиональной этики, которые я в свое время изучал на их примерах, это никак не вписывалось. И все же, я чувствовал, что в его словах – а главное, в беззаботной веселости его голоса – содержалась некая истина, до сих пор от меня ускользавшая; это сбивало с толку{82}. В том, как я относился к математике (и прежде всего к математическим результатам) всегда было очень много честолюбия. Майк же – совсем другой человек. Глядя на него, нельзя было понять: то ли он «всерьез» занимается математикой, то ли просто забавляется, как веселый мальчишка. Он как будто увлечен игрой по уши; но чтобы из-за нее не есть, не пить да ночей не спать – это уж извините.
22. Прежде чем глубже погрузиться в раздумья, оставив позади (обманчивую подчас) видимую поверхность, мне хотелось бы высказать одну мысль. Точнее, она сама спешит сорваться у меня с языка. Звучит она примерно так: математическая среда, в которой я обретался в пятидесятые и шестидесятые годы – итого, два десятилетия кряду – действительно была миром без ссор и конфликтов. Это само по себе достаточно необычно; здесь стоит задержаться и поразмыслить.
Стоило бы уточнить, что говоря о математической среде тех лет, я имею в виду довольно узкий круг математиков, то есть центральную часть моего «микрокосма». Это «ядро» составляли всего-то человек двадцать моих коллег: ближайшие друзья, с которыми мы часто встречались и подолгу спорили о математике. Я как-то не осознавал раньше, что большинство из них были членами Бурбаки (сейчас, когда я перебрал в памяти их имена, это открытие меня поразило). Спору нет, Бурбаки были сердцем и душой моего микрокосма. Почти все мои друзья-математики так или иначе имели отношение к группе. В шести-
десятые годы я сам уже вышел из ее состава, но с точки зрения общих интересов в математике моя связь с членами группы (такими, как Дьедонне, Серр, Тэйт, Ленг и Картье) была прочней, чем когда-либо. К тому же, я оставался завсегдатаем Семинара Бурбаки – а вернее, тогда-то я им и стал: большая часть моих бурбакистских докладов (по теории схем) относится именно к шестидесятым.
И, без сомнения, как раз в шестидесятые годы общий настрой в группе Бурбаки стал меняться: появился дух элитарности, избранности, и на месте прежней открытости мало-помалу выросла стена, отделявшая нас от мира. В то время я совсем не задумывался об этом. Это и понятно, ведь каждый из нас, в том числе и я, по-своему способствовал переменам; заметить их – значило признать свою ответственность. Все еще помню свое удивление, когда, в 1970 г., я обнаружил, до какой степени самое имя Бурбаки стало непопулярным в широких слоях математического мира (а до тех пор мне, кажется, и в голову не приходило, что этот мир отнюдь не сводится к Бурбакам и их ближайшему окружению). Для многих людей оно ассоциировалось со снобизмом, узкой догматичностью, культом «канонической» формы (в ущерб живому восприятию математической реальности), заумностью, выхолощенной искусственностью изложения и массой других неприятных вещей! И не то, чтобы Бурбаки пользовались дурной славой только среди обитателей пресловутого «болота»: в шестидесятые годы (а возможно, и раньше) мне доводилось слышать отзывы в том же духе от достаточно известных математиков «со стороны». На математику они смотрели иначе, чем мы, и «стиль Бурбаки» казался им просто невыносимым (15). Итак, математический мир разбился на два лагеря. Безоговорочно принимая сторону Бурбаков, я все же испытывал изумление и горечь: ведь я-то верил, что математика, как ничто другое, приводит умы в согласие! Однако же, я мог бы припомнить, что поначалу чтение работ Бурбаки мне самому давалось непросто, даже если я вскорости научился с этим справляться. Язык этих работ был и впрямь педантичным и скучноватым: сами по себе они не могли бы разбудить во мне живой интерес к математике. Канонический (то есть написанный в соответствии со строгими правилами группы) текст, мягко говоря, не давал ни малейшего представления о том, в какой обстановке он был составлен. В этом, как я сейчас думаю, кроется основной просчет самого замысла группы: по статьям, по книгам, вышедшим из-под пера Бурбаки, не было
Самодовольство и обновление
видно, что писали их живые люди. И что этих людей явно связывало друг с другом нечто иное, чем, скажем, священная клятва всю жизнь не отступать ни на шаг от неумолимых канонов научной строгости…
Но, заговорив о необратимом скольжении группы в сторону элитаризма и о стиле изложения, принятом у Бурбаки, мы отступили от темы. Здесь меня в основном интересует (и поражает) то обстоятельство, что «бурбакистский микрокосм», ставший по моему выбору моей профессиональной средой, оказался настоящим бесконфликтным миром. Говоря об этом, нельзя забывать, что группа собрала вокруг себя людей, обладавших, если можно так выразиться, ярко выраженной математической индивидуальностью. Многие считались «выдающимися математиками» и, несомненно, пользовались достаточным авторитетом, чтобы окружить себя кругом последователей – своим собственным маленьким «микрокосмом». Там уже слово «господина учителя» было бы законом: его никто не посмел бы оспаривать(16)! Между тем, в группе мы все были «на равных»: о борьбе за власть в теплой и даже сердечной бурбакистской обстановке никто и не помышлял. В научной жизни, мне кажется, такое бывает нечасто (чтобы не сказать раз в столетие). И, не боясь повториться, я хотел бы лишний раз подчеркнуть, что замысел группы осуществился, и наша совместная работа обернулась редкой удачей.
Итак, похоже на то, что мне в свое время исключительно повезло: с первых же шагов по математической почве я набрел на то самое, почти сказочное поселение, не промахнувшись ни во времени, ни в пространстве. Оно выросло там за несколько лет до моего прихода и обрело совсем особые, быть может, неповторимые черты. Я вошел в эту необыкновенную среду, и она стала для меня олицетворением идеального «математического сообщества». Между тем, в смысле сколько-нибудь глобальном его, вероятно, вне этой чудесной среды просто не существовало. Да и вообще, за всю историю математики такая мечта воплощалась у нас лишь локально, в самых ограниченных кругах (возможно, группа, сформировавшаяся в свое время вокруг Пифагора, была одним из таких примеров – но то были люди совсем иного склада ума).
Я тогда очень остро ощущал свою принадлежность к этой среде – это было чувство, неотделимое от моего нового самоощущения, восприятия себя как математика. Это был первый, после семейного, круг друзей, где меня тепло приветствовали у входа и, не раздумывая, приняли,
как своего. Здесь, правда, действовала другая связь, особой природы: мой собственный подход к математике оказался сродни подходу, принятому в группе, и тем самым нашел себе подтверждение в новой среде. Не то, чтобы мой подход в точности совпадал с «бурбакистским» – но они были явно близки между собой, и здесь нельзя было ошибиться.
И вот, в придачу к своим неоценимым достоинствам чисто математического толка, новая среда была в моих глазах идеальным, сказочным краем без войн и без ссор – до полного совершенства ей недоставало лишь самой малости! Я ведь всегда искал такого бесконфликтного мира, и эти поиски привели меня в математику – в науку, где, как мне казалось, нет места и самому робкому намеку на дисгармонию. Достичь заветной цели – большая удача, но у нее есть и оборотная сторона. Конечно, в новой среде я сумел развить в себе кое-какие способности, состояться как математик в окружении старших коллег, ставших мне равными. Но в этом я нашел для себя (желанный!) способ укрыться от конфликта в моей собственной жизни. За такие подарки всегда приходится расплачиваться с судьбой. Заплатил и я – духовным застоем, растянувшимся на долгие годы.
23. Спору нет, «бурбакистская» среда в свое время оказала на меня весьма заметное влияние. Мой взгляд на мир (и на мое место в нем) заново сложился в кругу друзей-математиков. Но в чем заключалось это влияние, как оно проявилось в моей жизни – отдельный вопрос, а я не хочу отступать от темы. Одно я хотел бы здесь подчеркнуть: судить о людях по их «заслугам», мне кажется, я начал сам по себе. Работа мне удавалась, и мало-помалу в моей душе, откуда-то из глубины, начинало подниматься самодовольство; но и здесь дело было во мне, а не в моем новом окружении. По крайней мере, в пятидесятые годы (как, впрочем, и в начале сороковых) обстановка вокруг Бурбаки едва ли располагала к таким переменам. Все это было заложено во мне гораздо раньше; думаю, что семена проросли бы в любой другой среде с тем же успехом. Позволю себе повториться: история с «бездарем-учеником», о которой я не так давно рассказал, отнюдь не типична для атмосферы тех лет в нашей среде. (Зато она достаточно точно характеризует мои тогдашние нравственные установки, с присущей им амбивалентностью.) Отношения в группе Бурбаки основывались на уважении к человеку: в работе никто никого не принуждал, все чувствовали себя свободно (по крайней мере, атмосфера в Бурбаки пятидесятых мне сейчас вспоминается именно так). Самодовольство, стремление навязывать другим свою волю в такой обстановке не находило себе опоры.
Человеческое тепло дороже достижений высокой науки; ни в том, ни в другом в нашей среде не было недостатка. Эта среда, эта удивительная жизнь для меня – великая ценность. Но ее больше нет. Когда и как она умерла, я не знаю. Уверен, никто не заметил ее смерти; никто, даже про себя, не подхватил печальный напев неслышного колокола. Думаю, что разрушение начиналось исподволь, в душах людей – и впрямь, все мы «заматерели», очерствели, быть может. Мы стали важными, грозными, могущественными особами; к нашим словам прислушиваются, нашего внимания ищут. Искра, пожалуй, и сохранилась, но какая-то наивность потеряна по дороге. Кто-то из нас, быть может, еще успеет обрести ее вновь; и это будет для него, как второе рождение. Но той среды, что приняла меня когда-то, больше нет; ждать, что она воскреснет – пустая надежда. Все уже встало на свои места, и обратного хода нет.
Наивность затерялась в погоне за временем – и уважение, наверное, позабыто на каком-то из поворотов. А ведь это могло бы быть лучшее наше наследство; впрочем, когда у нас появились ученики, мы, вероятно, уже успели его растратить. Искра еще горела, но душевной невинности и след простыл, а уважение осталось лишь к «своим» и к «равным».
Пусть поднимется ветер, пусть его сухое дыхание обожжет лицо незадачливому путнику – мы надежно укрыты за толстыми стенами. Мы – хозяева крепостей, каждый со своей «свитой»…
Все встало на свои места…
24. Похоже, что разговор о моей жизни как математика принимает совсем иной оборот, чем я рассчитывал поначалу. Признаться, я вовсе не собирался устраивать «ретроспективу», выворачивая память стольких лет наизнанку. Я хотел написать несколько строчек, от силы одну-две страницы, о том, какие чувства у меня сегодня вызывает математический мир, который я когда-то оставил. И еще, быть может, поделиться с читателем догадками о том, что (судя по разным откликам, долетающим время от времени и до моего угла) думают обо мне мои прежние друзья. После этого я предполагал перейти к своей «главной теме», то есть, к вопросу о том, как сложилась научная судьба определенных идей и понятий, которые я в свое время ввел в математический
обиход. (Точнее, речь идет о некоторых новых типах объектов и структур; да и что это за слова – «ввести в математический обиход»? Дело-то было совсем иначе. Случайно, на ощупь, я обнаружил нечто в каких-то темных глубинах математики, где ни один исследователь до меня не бывал. Как меня туда занесло, в двух словах не расскажешь. Я вынес свои находки наружу, чтобы получше их рассмотреть. Какие-то из них я оставил на полпути, в полумраке, так что вокруг них еще много неясного. А то, что взял с собою, своими руками донес до яркого света.) Но вышло так, что мои записки превратились в размышление о прошлом – а все из-за того, что настоящее сбивало меня с толку, и я пытался как-то его осмыслить. Решительно, ту, прежнюю тему придется отложить до лучших времен; раздумье о геометрической «школе» (возникшей с моей подачи, а позднее исчезнувшей почти без следа), надеюсь, как-нибудь дождется более удачного случая{83}. А сейчас я должен довести свой «обзор» до конца, продолжить разговор о моей жизни как математика – среди коллег и учеников, в математическом мире. Подробности, связанные непосредственно с работой, научными результатами и проч., пока можно опустить.
Я только что возобновил свои записки после недолгого перерыва (меня отвлекли другие задачи). Все эти пять дней ко мне настойчиво возвращалось одно и то же воспоминание, одно и то же событие ярко и живо вставало перед глазами. Рассказ о нем, думается мне, мог бы послужить эпилогом к моему «De Profundis».
Случилось это в конце 1977 г. За несколько недель до того меня вызвали в Исправительный Суд Монпелье. Мое преступление заключалось в том, что я «безвозмездно предоставлял кров и пищу иностранцу, находившемуся в стране на незаконном положении» (то есть иностранцу, у которого бумаги, подтверждающие право на пребывание во Франции, были не в порядке). Тогда я и узнал впервые о существовании этого невероятного параграфа в уложении 1945 г., определяющего статус иностранцев во Франции. Этот параграф запрещает всем французам оказывать в какой бы то ни было форме помощь иностранцу «на незаконном положении». Этот закон, не имевший себе аналога даже в гитлеровской Германии по отношению к евреям, очевидно, никогда буквально не исполнялся. Государство оказало честь вашему покорно-
Самодовольство и обновление
му слуге, избрав его в качестве подопытного кролика, чтобы впервые испробовать в действии этот параграф. Что и говорить, странное «стечение обстоятельств».
Я был потрясен и несколько дней кряду пребывал в глубоком отчаянии; сознание мое было будто парализовано. Мне вдруг показалось, что я вернулся во времена тридцатипятилетней давности, когда человеческая жизнь не стоила ни гроша – в особенности, жизнь иностранца… Потом я как-то встряхнулся и решил бороться. Несколько месяцев подряд все мои силы уходили на попытки мобилизовать общественное мнение: сначала в Университете в Монпелье (где я работал), потом – на уровне всей страны. Дело, как выяснилось впоследствии, так или иначе было обречено на провал; тем не менее, борьба проходила для меня достаточно напряженно. К тому (довольно тяжелому для меня) времени и относится эпизод, который я сейчас, про себя, мог бы назвать прощальным.
Готовясь к акции в масштабе страны, я написал пяти особенно известным «деятелям отечественной науки» (в том числе, одному математику), чтобы поставить их известность о существовании этого невероятного закона. Должен сказать, что этот факт и сейчас кажется мне не менее поразительным, чем в тот день, когда меня вызвали в суд. В своем письме я предлагал предпринять совместную акцию протеста против жестокого распоряжения: ведь, по сути, оно ставит вне закона сотни тысяч иностранцев, проживающих во Франции. Что же до миллионов остальных, «легальных» иностранцев, то их уделом становится враждебное недоверие со стороны населения: под страхом нарушить закон (не требовать же паспорта у каждого встречного) французы, вероятно, должны избегать их, как прокаженных!
Вот результат (совершенно недоступный моему пониманию): ни один из упомянутых «деятелей» на мое письмо не отозвался. Как говорится, век живи – век учись.
Тогда-то я и решил поехать в Париж. Время было удачное: готовился очередной Семинар Бурбаки. Там мне, конечно же, предстояло повстречать многих старинных друзей; вот прекрасный случай заручиться поддержкой математической общественности. Я рассудил, что математическая среда должна быть особенно чувствительной к вопросу об иностранцах: ведь с коллегами, учениками, студентами из других стран каждый «действующий» математик в Париже сталкивается
чуть ли не ежедневно! При этом почти все иностранные ученые испытывали трудности при оформлении официальных документов. В кабинетах (и коридорах) префектуры полиции их ждал произвол властей; чиновники нередко обходились с ними презрительно… Лоран Шварц, которому я рассказал о своих планах, пообещал предоставить мне слово (для того чтобы я мог объяснить ситуацию присутствующим коллегам) в конце первого дня Семинара.
Так и вышло, что я в тот день явился на Семинар с чемоданчиком, набитым листовками. Алэн Ласку помог мне их раздать в коридоре Института Анри Пуанкаре перед началом заседания и в «антракте» между двумя докладами. Из моих прежних товарищей всего двое-трое, прослышав о деле, связались со мной еще до того, как я приехал в Париж, и предложили свою поддержку; Алэн был в их числе (17). Если я правильно помню, он и сам составил небольшую листовку. Роже Годеман также написал воззвание под заголовком: «Лауреата Нобелевской премии – под арест?» Это было чрезвычайно любезно с его стороны, хотя ход его мыслей в этом случае был мне не вполне ясен. У него выходило так, будто нельзя обижать только «Лауреатов Нобелевской Премии»; зато уж с каким-нибудь дворником можно было обойтись как угодно!
В тот день на Семинаре Бурбаки и впрямь собралась целая толпа. Думаю, там были почти все мои прежние друзья и товарищи по Бурбаки. Институт Пуанкаре захлестнуло людским потоком, и моих старых знакомых в нем было не сосчитать. Повстречал я там и несколько своих бывших учеников. Я рад был случаю, впервые за десять лет без малого, увидеть их снова – хотя знакомых лиц было так много, что глаза разбегались в этой толпе! Зато пересчитать тех, кто остался со мною в конце, не составляло большого труда…
Довольно скоро, однако, стало ясно, что встреча после долгой разлуки выходит «не та». В крепких рукопожатиях, конечно же, не было недостатка, и восклицания в духе: «Ба, да и ты здесь! Каким ветром занесло?» – сыпались со всех сторон. Но какая-то смутная неловкость скрывалась за восторженными возгласами: потому ли, что они совсем не разделяли моих забот? Ведь они явились сюда, чтобы принять участие в определенной математической церемонии; такое событие случается трижды в год и, естественно, занимает их мысли. А может быть, дело было просто во мне – как бывшим семинаристам, прочно стоящим на высоких ступенях церковной иерархии, становится неуютно в при
Самодовольство и обновление
сутствии кюре, сложившего сан? Не берусь судить; вероятно, здесь повлияло и то и другое. Я, со своей стороны, не мог не отметить, как изменились лица вокруг – когда-то такие родные, даже любимые. Я не увидел в них прежней живости: они как бы застыли, опустились. У меня было ощущение, будто я ошибся дверью; меня окружали совершенно чужие люди, с которыми у меня не могло быть ничего общего. Мысль о том, что мы с ними живем в одном и том же мире, казалась мне странной и непонятной. Я искал поддержки, я ехал к ним, чтобы обрести братьев – и вот передо мною чужие, до странности равнодушные люди. Хорошо воспитанные, надо отдать им должное: над моей затеей никто не смеялся, и листовок, насколько я помню, не бросали на пол. Может быть, их даже прочли: помогло любопытство.
Это, однако, отнюдь не означало, что над жестоким законом нависла угроза отмены. Я получил свои пять минут (может быть, даже десять) чтобы рассказать о положении иностранцев (а значит, многих людей, которые были для меня как братья). Зал был полон. Мои коллеги вели себя тише, чем если бы я читал очередной доклад. Вероятно, я говорил без убеждения: я не слышал живого отклика в зале, не улавливал в воздухе, как в былые времена, сочувствия и тепла. Здесь, должно быть, многие спешат, – сказал я себе и поторопился закончить. Тем, кого заинтересовало мое сообщение, я предложил немного задержаться, чтобы обсудить дело подробнее.
Когда объявили конец собрания, у выходов сразу образовалась толпа. Очевидно, спешили все: на поезд (который должен был вот-вот отойти) или в метро. Им никак нельзя было опоздать! В одну-две минуты огромный зал опустел – чудеса, да и только… В пустынном, ярко освещенном зале Эрмита, считая Алэна и меня, осталось три человека. Третий был незнакомец – готов поспорить, один из тех самых иностранцев, о которых в обществе и упомянуть-то неловко! Только посмотрите на него: как водится, в сомнительной компании, и вдобавок – заведомо на незаконном положении! Мы не стали обсуждать сцену, только что разыгравшуюся у нас на глазах: она и без того была достаточно красноречива. Не исключено, что из нас троих лишь я один не верил своим глазам; как бы то ни было, мои друзья тактично воздержались от каких-либо замечаний. Очевидно, я оказался слишком наивен…
Остаток вечера мы провели у Алэна и его бывшей жены Жаклин, за обсуждением ситуации и разговорами о том, что еще можно было бы
предпринять. Кроме того, мы немного лучше познакомились, кое-что узнав друг о друге. Ни тогда, ни после я не попытался соотнести эту историю с моими воспоминаниями о прошлом. И все же, в тот день я понял без слов, что той среды, того мира, который я знал и любил, больше не существует. Живое тепло родного воздуха, которое я надеялся обрести вновь, унесло ветром – много лет тому, так что потерялся и след…
Это открытие, однако, не принесло мне душевного покоя. Год за годом ко мне долетают все более резкие отголоски событий из того мира, откуда исчезло человеческое тепло. Иногда эти далекие вести по-прежнему ошеломляют меня, отдаются сердечной болью. В этом смысле размышление едва ли сможет что-нибудь изменить – разве только я пойму, наконец, что нет смысла скрывать чувство обиды и горечи от себя самого…
25. «Обзор» моих отношений с коллегами внутри нашего математического мира еще не завершен. Для полноты картины мне осталось прежде всего исследовать свои отношения с учениками в те времена, когда я сам ощущал себя частью пресловутого «математического сообщества». Мои ученики работали под моим руководством; ученики моих коллег, естественно, смотрели на меня, как на «старшего». Об этом тоже следует поговорить.
Взаимное уважение в моих отношениях с учениками всегда стояло на первом месте; это, пожалуй, я мог бы утверждать без оговорок. Эту установку я сам в свое время получил от старших; смею сказать, что годы ее не расшатали. У меня была репутация человека, который занимается «сложной» математикой (оценка, нельзя не отметить, весьма субъективная!). Еще говорили, что я требовательнее других (что уже не так субъективно). Поэтому студенты, приходившие ко мне, заранее знали, на что идут: работа их увлекала по-настоящему. У меня был всего один ученик, который поначалу вел себя несколько «развязно» – я даже не был уверен, что он сможет включиться в работу. Но прошло немного времени, и он взялся за ум без какого-либо «нажима» с моей стороны.
Насколько я помню, я никогда не отказывал тем, кто хотел поступить ко мне в ученики. У меня было два случая, когда я принимал человека – и по прошествии нескольких недель становилось ясно, что мой стиль работы ему не подходит. Откровенно говоря, сейчас мне кажет
Самодовольство и обновление
ся, что в обоих случаях сыграл роль какой-то психологический барьер: по его вине мы не сумели договориться, и связь «учитель-ученик» так и не установилась. Я же в тот момент заключил, слишком поспешно, что у этих молодых людей просто нет способностей к математике. (Конечно, случись все это сейчас, я был бы намного осторожнее в своих суждениях.) Я не замедлил изложить свою точку зрения обоим студентам и тогда же посоветовал им выбрать другую профессию: математика, на мой взгляд, не соответствовала их природным наклонностям. Теперь я знаю, что был не прав: один из этих молодых людей все же стал математиком и достиг известности, работая над сложными задачами на границе алгебраической геометрии и теории чисел. Что сталось с другой ученицей, молодой девушкой, мне неизвестно. Не исключено, что я был чересчур категоричен, и после нашего разговора она потеряла уверенность в своих силах (в то время как она, вероятно, могла бы заниматься математикой не менее успешно, чем ее товарищ). Мне кажется, я ошибся не потому, что с самого начала не поверил в их способности и желание работать – совсем нет: я доверял им не меньше, чем остальным ученикам. Я просто не понял тогда, что имею дело с проблемой чисто психологического толка: мне не хватало дальновидности (18).
Считая с начала шестидесятых (то есть, всего за десять лет) под моим руководством защитилось одиннадцать человек (19). Тему для диссертации мои ученики выбирали сами. Все они работали с большим подъемом; казалось, каждый из них душою срастался с избранной темой.
Впрочем, здесь было одно исключение. Один из моих учеников выбрал себе тему, по-видимому, без настоящего убеждения. Работу, за которую он взялся, «кто-то должен был сделать»; однако, в известном смысле, она была довольно неблагодарной. Она состояла в технической обработке уже готовых идей; сложные, даже сухие вычисления – на этой дороге не было неожиданностей (20). Передо мной тогда лежала обширная программа, занимавшая все мои мысли. Для того чтобы ее осуществить, я нуждался в помощниках. Предлагая своему ученику тему для диссертации, я не подумал о том, что по характеру она ему совсем не подходила. Вероятно, молодой человек, со своей стороны, не вполне отдавал себе отчет в том, что за работа ему предстоит. Как бы то ни было, ни он, ни я не успели вовремя заметить, что он выбрал не ту дорогу. Ему, конечно, следовало бы вернуться к перекрестку и попробовать заново.
Работа явно была ему не в радость. С тех пор как он за нее взялся, у него всегда был какой-то сумрачный, невеселый вид. Я же за своими «насущными» математическими заботами, кажется, давно уже не обращал внимания на подобные вещи. И напрасно: в математике, да и в чем угодно, самый ход работы во многом определяется настроением. Я следил за его работой: досадовал на задержки и облегченно вздыхал, когда дело налаживалось. Этим моя роль ограничивалась. Когда задуманная программа была, наконец, осуществлена, я больше не беспокоился по этому поводу.
Прошли годы, он стал солидным профессором – кажется, в те благословенные времена все, кому не лень, выходили в профессора! Как-то раз мне довелось обменяться с ним несколькими письмами. И лишь тогда, спустя годы после моего пресловутого «пробуждения», мне вдруг пришло в голову, что с этим учеником у меня что-то не сложилось: пропало ощущение полного успеха от нашей совместной работы. Теперь же, при зрелом размышлении, она представляется мне полным провалом, несмотря на «культурно» (отнюдь не «халтурно») отлаженную программу, солидный диплом и важную должность моего бывшего ученика. На мне лежит немалая доля ответственности за эту неудачу. Ведь это я в свое время заботился о том, как бы поскорее осуществить свою программу, больше, чем о живом человеке – а значит, я обманул его доверие. Итак, мое хваленое «уважение без оговорок» (будто бы лежавшее в основе моих отношений с учениками) оказалось поверхностным. Настоящее уважение идет от теплого, сердечного внимания к нуждам конкретного человека. А что от меня зависело в данном случае? Простая вещь: помочь ученику выбрать такую тему, чтобы ему радостно было над ней работать. Иначе труд теряет смысл, становится принудительным.
Как-то раз, на этих самых страницах, я заговорил о «мире, лишенном любви». В свое время я отверг его с таким негодованием – по праву ли? Ведь я и сам когда-то был частью этого мира, в котором сегодня вовсю хозяйничает ветер презрения. Не занес ли он и в мою душу семян с неблагодатной земли? Если так, они давно уже проросли… Похоже, только что я набрел на один из этих ростков – и достаточно зрелый. Какие всходы дадут его семена в душе моего ближнего, я судить не берусь. С таким же «уважением», обделенным настоящей любовью, я относился к собственным детям – и тут я уже мог видеть
Самодовольство и обновление
своими глазами, как эти семена прорастали, набирали силу, приносили плоды. И, размышляя, я начинал понимать, как это нелепо – ворчать и воротить нос от горького урожая…
26. Если не считать случая с этим учеником (безусловно, ничуть не менее «одаренным», чем другие), то можно с уверенностью сказать, что мои отношения с учениками всегда были искренно дружескими, зачастую даже сердечными. Волею обстоятельств, все они научились терпеливо сносить два моих основных недостатка как «научного руководителя». Во-первых, у меня был (и есть) отвратительный почерк; впрочем, кажется, все мои ученики мало-помалу научились его расшифровывать. Во-вторых, что гораздо важнее, мне всегда было очень нелегко следить за мыслью собеседника – я должен был сперва перевести ее на язык своих собственных образов, а затем «передумать» заново, на свой лад. Очевидно, что-то во мне противилось непосредственному восприятию чужой идеи – свойство, которое я сам в себе заметил далеко не сразу.
Я был слишком захвачен стремлением передать ученикам определенное видение математики, занимавшее тогда все мои мысли. Из-за этого я уделял намного меньше внимания тому, чтобы помочь ученикам в развитии их собственного видения (вероятно, во многом разнившегося с моим). В отношениях с учениками я и по сей день не избавился от этой привычки – но теперь, когда я стал принимать ее в расчет, она, как мне кажется, причиняет меньше вреда. Не исключено, что от рождения (или просто по жизни) я лучше приспособлен к уединенному труду (первые пятнадцать лет, то есть примерно с 1945 по 1960 гг., я занимался математикой в одиночку), чем к работе с учениками, у которых личный подход к математике, свои склонности и предпочтения только начали складываться (21). Однако правда и то, что учить мне нравилось с самого раннего детства. С начала шестидесятых и вплоть до этого самого дня, ученики, приходившие ко мне, всегда занимали важное место в моей жизни. По одному этому можно судить, что преподавательская деятельность, и моя собственная роль как учителя, весьма немало для меня значат (22).