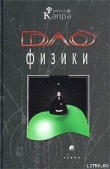Текст книги "УРОЖАИ И ПОСЕВЫ"
Автор книги: Александр Гротендик
Жанр:
Математика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
17. Справедливости ради отмечу, что еще до этого решающего поворота в моей жизни мне случалось дружить с «обыкновенными» математиками – явно не из «первых рядов». Если бы меня тогда спросили об этом (и не будь они моими друзьями…), я, без сомнения, отнес бы их именно к «болоту». Но меня, конечно, никто не спрашивал, а сам я до сих пор об этом не задумывался – и не вспомнил бы, не приведи меня к этому размышление. Пришлось немало потрудиться, перебирая в памяти события тех времен, чтобы мои разрозненные воспоминания мало-помалу слились в общую картину.
Как только я оказался в Нанси, у меня сейчас же появилось трое друзей. Они, как и я, приехали туда учиться математическому ремеслу. Тогда мы все были студенты как студенты, ничто не выделяло меня, как будущую «знаменитость». Сошлись мы между собой, конечно же, не случайно; после этого у меня двадцать лет кряду ни с кем не завязывалось похожей дружбы. Мы все были иностранцы, и значило это для нас немало. С прочими молодыми математиками в Нанси, в основном выходцами из Ecole Normale, я не сходился так близко, и вне стен университета мы с ними не встречались.
Один из нашей четверки друзей год или два спустя после нашего знакомства уехал эмигрантом в Южную Америку. Он, как и я, числился исследователем в CNRS. Каким-то образом у меня создалось впечатление, что он сам не слишком хорошо понимал, что же он, собственно, «исследовал»; его положение в CNRS вскоре сделалось ненадежным. Время шло, мы с ним встречались и писали друг другу все реже и реже, и в конце концов совершенно потеряли друг друга из виду. Моя дружба с двумя другими приятелями по Нанси оказалась прочнее (и куда менее поверхностной). Наши интересы в математике, между прочим, не играли здесь практически никакой роли.
С Терри Микилом и его женой Пресосией (она – хрупкая, тоненькая, он – плотный и коренастый) мы часто проводили вместе вечера, а бывало, засиживались и до рассвета. Они оба были тихие, мягкие люди. Терри играл на фортепьяно, мы пели, говорили о музыке (она была для них настоящей страстью), и о других вещах, которые казались нам важными. Но – не о самых важных; не о тех, что медленно, молчаливо точат душу и убивают исподтишка. И все же, этой дружбе я обязан многим. Терри обладал душевной тонкостью, изысканностью, которой мне недоставало (что неудивительно: я в то время не думал почти ни о чем, кроме математики). Намного острее, чем я, и как-то особенно живо он воспринимал простые, насущные вещи: такие, как солнце, дождь, земля, дружба, ветер и песня…
После того как Терри нашел себе место в Дартмутском Колледже (не так уж далеко от Гарварда, куда я, с конца пятидесятых, довольно часто наведывался), мы продолжали встречаться и переписываться. Тем временем я узнал, что он был подвержен депрессиям. Это обрекало его на длительные периоды лечения в «сумасшедших домах», как он сам однажды назвал их в коротком письме (написанном сразу после
Самодовольство и обновление
таких «кошмарных дней»). За все время нашей дружбы это был первый и единственный случай, когда он написал мне об этом. Встречаясь, мы с ним никогда об этом не говорили; только раз или два вопрос случайно всплывал в беседе (помню, я с удивлением спрашивал Терри, отчего они с Пресосией не заводят ребенка; в ответ он упомянул о своем душевном расстройстве). Не думаю, что кому-либо из нас могло прийти в голову серьезно обсудить с другом эту проблему. Напротив, нам было бы неловко даже просто коснуться ее в разговоре. Вернее, у нас с Терри не могло быть и мысли о том, что о каких бы то ни было проблемах, в его жизни или в моей, можно вдруг, ни с того ни с сего, заговорить вслух. Без слов, неодолимой стеною, на этой дороге вставал запрет.
Постепенно мы стали встречаться все реже и реже. Моя новая роль (роль «знаменитого математика») все сильнее захватывала меня; у нее были свои требования к актеру, и я должен был их исполнять. А главное, я был просто одержим желанием накопить как можно больше печатных работ, подписанных моим именем. Это стало навязчивой идеей; выбиваясь из сил в попытке превзойти самого себя, я забывал обо всем остальном. Моя собственная семейная жизнь тем временем медленно разрушалась – неуклонно, неумолимо, и я не мог найти причину беды оттого, что боялся искать…
Однажды я узнал, из письма дартмутского коллеги Терри, что мой друг покончил с собой. Новость пришла ко мне по остывшим следам: к тому моменту, как я получил письмо, Терри давно уже покоился в могиле. До моего сознания известие дошло, как сквозь туман – как некий отголосок далекого мира, покинутого мною еще в незапамятные времена. Этот мир умер во мне – раньше, быть может, чем Терри завершил свои счеты с жизнью, доведенный до отчаяния терзавшей его тревогой. Он не умел, или не хотел, справиться с ней в одиночку; я же ни о чем не догадывался – или не желал ничего замечать…
18. Мне кажется, что наши отношения с Терри не утратили своей естественности под влиянием внешних обстоятельств – таких, как различие наших положений в математическом мире (или чувство превосходства, которое я мог бы испытывать по этому поводу). Эта дружба, и еще две-три других, которые судьба подарила мне в те времена (не спрашивая, «заслужил ли» я этот подарок), оказалась для меня хорошим средством против известной напасти – болезни раздувшегося тщеславия. Ведь то, что я сумел полностью раскрыть свои возможности в математике (и добиться того, чтобы коллеги оценили их по заслугам!), безусловно, служило пищей моему растущему самолюбию – которое, в свою очередь, в тех или иных ситуациях уже давало о себе знать. Оно прокрадывалось в мои отношения с людьми: например, так было с моим третьим приятелем по Нанси, о котором я еще не успел рассказать.
И он сам, и его жена (с которой он познакомился еще до того, как мы встретились с ним в Нанси) были приветливые, милые люди. В их теплой, дружеской сердечности по отношению ко мне я никогда не имел повода усомниться. Я ли приходил к ним в дом, они ли меня навещали – наши встречи всегда были пронизаны исходившей от них веселой простотой, искренностью и естественным тактом. Не то, чтобы этот старый приятель дружил со мной из уважения к моим математическим заслугам или умственным способностям (что бы это ни значило). Совсем нет: в его веселой, искренней доброжелательности явно не было никакой задней мысли. И все же, глубокая амбивалентность, надвое расколовшая мой внутренний мир (и на протяжении всей моей жизни как математика неизменно дававшая о себе знать), не обошла стороной наших с ним отношений. Все эти двадцать лет она не позволяла забыть о себе.
Мы виделись с ними достаточно часто. В их присутствии я, всякий раз заново, не мог не ощутить их искренней привязанности ко мне – и, со своей стороны, на нее не отозваться. И я отвечал дружбой на дружбу, почти что против воли! При всем том, больше двадцати лет подряд я взирал на этих чудных людей с пренебрежением, с высоты своего величия (иной раз, вероятно, не без труда взбираясь на свой пьедестал). Началось это, должно быть, еще в Нанси. Про себя посмеиваясь над своим товарищем, я позднее автоматически перенес это же предубеждение и на его жену. В самом деле, если человек сам «ничего из себя не представляет», от его жены естественно ожидать того же.
Мы с матерью как-то изобрели для него насмешливое прозвище, и с тех пор, в разговорах между собой, никогда не называли его по имени. Это прозвище глубоко врезалось в мою память; еще долгое время после смерти матери я так и называл его (разумеется, про себя). Сейчас мне кажется, что мое пренебрежительное отношение к нему сформировалось определенно не без участия моей матери. Она всю жизнь отличалась сильным характером, и даже после ее смерти я еще лет двадцать,
Самодовольство и обновление
быть может, по-прежнему находился под ее влиянием. Я безоговорочно перенял ее систему ценностей, во многом определившую ее образ жизни. Мягкий, приветливый, нисколько не воинственный характер моего друга без лишних слов был сочтен «ничтожным» – и немедленно стал объектом насмешки. И только сейчас, впервые дав себе труд разобраться в том, что же, по сути, представляли собою мои отношения с этим человеком, я вдруг увидел, как неистово я все это время стремился отгородиться от его дружеской привязанности, от сердечной теплоты, всегда его отличавшей. Мой друг Терри (по характеру ничуть не более напористый или агрессивный) имел счастье понравиться моей матери. Из него не вышло мишени для насмешек; у меня есть подозрение, что наши отношения с Терри развивались так естественно, без какого-либо внутреннего сопротивления с моей стороны, как раз по этой причине. А ведь Терри вовсе не так уж страстно увлекался математикой, и его «способности» выглядели ничуть не более впечатляюще. Однако же, в его случае это не послужило для меня предлогом, чтобы отказывать ему и его жене в настоящем душевном контакте, со всех сторон защитившись от человеческого тепла панцирем насмешливого самодовольства!
Но ведь мой старый приятель не мог не чувствовать во мне, при каждой новой встрече, этого желания отстраниться. Почему он продолжал относиться ко мне с такой теплотой, для меня остается непостижимым. А впрочем, теперь-то я понимаю, что за неуклюжим панцирем, за нелепым пренебрежением, он ощущал во мне нечто другое – помимо мозговой мышцы, развитой едва только не в ущерб всему остальному. Во мне, как и в каждом из них, жил ребенок; я сам столько времени презирал его в себе, стараясь не замечать. Но где-то в закоулках моей души он по-прежнему жил и здравствовал, здоровый, розовощекий – совсем как в первый день моего рождения. И его-то, этого ребенка, полюбили во мне мои друзья – в отличие от меня, с возрастом не позабывшие своих корней. И, конечно, он (и никто другой!) исподтишка отвечал им такой же привязанностью. Глядишь, Почтенный Господин и не заметит, отвернувшись ненароком…
19. Почтенный Господин, к счастью, состарился и утратил былую бдительность. Из него уже сыплется песок; по большей части он дремлет в кресле, так что у мальчишки теперь куда больше свободы. Что же до той нелепой, растянувшейся на годы, истории с двумя воистину терпеливыми друзьями – мне кажется, я вспомнил о ней не случайно. Это история о том, как в личные отношения между людьми проникло самодовольство – странное, извращенное, быть может. Проявлялось оно весьма непосредственно – с силой, невероятной до гротеска. Может быть, я снова заблуждаюсь, но мне кажется, что больше в моей жизни ничего подобного не было: мое самолюбие играло заметную роль в работе, но не в дружбе. Тщеславие могло напомнить о себе в ту или иную минуту, но постоянно стоять у меня за спиной раздутой, навязчивой тенью ему обыкновенно не хватало наглости. В нашей среде в те времена такие казусы вообще, мне кажется, случались нечасто. Среди всех нас, друзей-математиков, я, вероятно, был самым «неуравновешенным», самым «зацикленным». Шутил я редко и вообще был склонен принимать все всерьез (от этой привычки я избавился лишь позднее). Словом, окажись я в обществе людей, во всем похожих на меня (если, конечно, такие вообще бывают), я, пожалуй, сбежал бы оттуда хоть на край света.
Удивительно, что мои друзья (как из «первых рядов», так и из «болота») не только терпели меня, но даже любили. Конечно, встречаясь, мы говорили в основном о математике: жаркие споры продолжались по несколько часов, а то и целыми днями. Но дело было не только в общих научных интересах: для меня сейчас особенно важно, что все мы, по большому счету, в ту пору по-человечески привязались друг к другу; самый воздух вокруг нас был как будто пронизан сердечным теплом. Рассеявшись с годами, в каких-то уголках моего прежнего мира это тепло все же задержалось, сохранилось и по сей день. Все так же открыты для друзей дома Дьедонне, Годемана, Шварцев – Лорана и Элен (у них я бывал почти что на правах родственника). И там мне дышится по-прежнему весело и легко – точь-в-точь как в первые дни моего приезда в Нанси. В те, давно прошедшие времена дружеские связи, казалось, возникали вдруг, случайно; но сродниться душами – не то, что ненароком надеть одинаковые шляпы. Мода проходит; дружба бывает устойчивее к годам.
Сердечная атмосфера, в которую я попал с первых же шагов в математическом мире, всегда казалась мне такой естественной, что я даже стал о ней забывать – а между тем, она сыграла в моей жизни важную роль. Ведь именно она заставила меня полюбить все, что было связано с нашей научной средой (которую олицетворяли в моих глазах старшие
математики). Душевное тепло, словно разлитое в воздухе, согревало меня, с силой вовлекая в свой мир и придавая словам «математическое сообщество» весь их сокровенный смысл.
Но это было давно, много лет назад. В наши дни молодым математикам приходится куда как несладко. Многие из них в годы своего ученичества оказываются совершенно отрезанными от простого человеческого тепла. Да и потом, выйдя в «большой свет», они нечасто встречают его на дороге. Научный руководитель, стоя на недосягаемой высоте, подчеркнуто отстраненно цедит свои скудные комментарии; плод твоих долгих стараний выглядит так беспомощно, отражаясь в его глазах. Слушая его, невольно подумаешь о циркулярах из министерства тяжелой промышленности: та же повелительная беспристрастность указаний, тот же сухой, канцелярский язык. И в такую засуху труд роняет крылья. Теперь он уже не более чем способ заработать на хлеб – безрадостный, ненадежный.
Это большая беда; из худших, быть может. Странная болезнь, поразившая мир математики – мир семидесятых и восьмидесятых, в котором тон задают уже наши ученики. В нем ученику назначают тему для работы, как собаке бросают кость: на, ешь, что дают! Ну так что же: разве узник выбирает место для своей камеры-одиночки? В этом мире тот, кто стоит у власти, волен презрительно отвергнуть серьезный, тщательный труд, плод многолетних усилий, со словами: «Я не нашел здесь для себя ничего забавного». Ответ окончательный; работа летит в мусорную корзину… Но, говоря об этом, я забегаю вперед.
В пятидесятые-шестидесятые годы в нашей среде все было иначе. Готов поручиться, что никто из моих друзей, к которым я частенько захаживал, в те времена не мог и предвидеть подобной напасти. Правда, в 1970 г. я обнаружил, что в «большом» научном мире все это давно стало повседневной реальностью – и даже среди математиков откровенное презрение, явное злоупотребление властью (бороться с которым было невозможно), как оказалось, не было такой уж редкостью. Этим грешили кое-какие известные математики из тех, кого я знал лично. Но в том узком кругу друзей, который я по наивности принимал за «истинный» математический мир или, по крайней мере, за его точное изображение в миниатюре, ничего подобного не случалось.
Однако зародыш презрения, позднее пробившийся мощным ростком, откуда-то должен был взяться. Мои друзья и я, мы сами посеяли
эти семена в душах наших учеников. И не только в них: кое-кто из моих старых друзей не избежал этой болезни. Но я пишу это не для того, чтобы «изобличать» порок или с ним бороться: есть ли смысл «бороться» с биологическим разложением? Когда я вижу, как души дорогих мне людей (учеников, или прежних товарищей) покрываются сухой коркой распада, у меня сжимается сердце. И тогда, вместо того чтобы с ясной головою принять это горькое знание, я часто протестую, не желая верить своим глазам, повторяя: «Этого не может быть!» Однако же, «это» есть, и в глубине души я знаю, что неспроста. Например, мне случалось видеть, как кто-то из тех, кого я знал и любил, с вежливой улыбкой на устах (не придерешься: сама корректность!) унижает другого, дорогого мне человека – быть может, отчасти именно потому, что узнает в нем меня. Если это и преступление, то, прежде всего против собственной души – и у меня есть причины чувствовать себя соучастником.
Но я снова отступаю от темы, притом вдвойне, если можно так выразиться. Ветер презрения свирепствует по всему миру – а я все жалуюсь, что дует из окон! Впрочем, не без оснований: ведь я узнал о нем, ощутив его на себе и увидев, как рушатся дома напротив. Но время говорить об этом вслух еще не настало. Многие вещи еще нужно обдумать молча, наедине с собой. А до тех пор хорошо бы вернуться к «математическому сообществу» пятидесятых-шестидесятых и, двигаясь дальше «По следам презрения» (вот и подходящее заглавие для этого раздумья-свидетельства), возобновить брошенную нить.
20. Я думал отвести здесь «болоту» всего несколько строк – так, для очистки совести. Просто сказать, что оно было, но я сам редко общался с его обитателями. Дело, однако же, обернулось иначе, как это часто бывает, когда занимаешься медитацией (или математикой). Заметишь что-то на дороге – как будто пустяк из пустяков; поднимешь, присмотришься: глаза разбегаются, такое богатство скрыто внутри! И, как водится, от предчувствия тайны уже бегут мурашки по коже. Точно так же вышло, на несколько страниц раньше, и с другой «мелочью» – тоже из моих воспоминаний о Нанси. (Вот странное совпадение; похоже, что университет в Нанси был как бы колыбелью для моей заново формировавшейся личности – только что возникшего в те годы самоощущения себя как математика.) Тогда, если читатель помнит, речь шла об истории с учеником моего насмешливого товарища – и впрямь, как я решил после того случая, немного туповатым, если людям приходится с ним так обращаться. Все эти воспоминания только что вернулись ко мне вдруг, яркой вспышкой – стоило мне написать (не слишком ли поспешно?), что «ничего подобного», никаких проявлений презрения к своему ближнему, «у нас» еще не наблюдалось. Хорошо, скажем иначе: на моей памяти это был единственный случай подобного рода (провозвестник грядущих бед?). И не станем останавливаться на подробном его описании: в этом, мне кажется, нет особой нужды. Люди, которые испытали на себе пренебрежение «вышестоящего», и так поймут, о чем речь: тщательно обрисовывать ситуацию для них, во всяком случае, незачем. Поймет меня и тот, кто просто видел что-либо похожее своими глазами (и не поспешил, отвернувшись, пройти мимо). Что же до остальных, унижавших ближнего своего с истинным удовольствием, или нарочно закрывавших глаза на то, что происходило у них под носом (надо сказать, что именно так я и поступал добрые двадцать лет кряду), – им до такого описания в красках и подавно нет дела. Какое там: их не проймешь и целым альбомом…
Мне остается рассмотреть вопрос о том, как складывались мои взаимоотношения (как личные, так и профессиональные) с коллегами и учениками в течение тех двух десятилетий. Попутно хорошо бы вообще вспомнить все то, что я мог знать о взаимоотношениях между людьми вокруг меня (речь идет о моем ближайшем окружении в математическом мире). Есть во всем этом одна вещь, которая сейчас, по прошествии многих лет, меня особенно поражает. Все мои воспоминания как будто говорят в один голос, что тогда еще в нашей среде в отношениях между людьми конфликт отсутствовал совершенно. Должен прибавить, что мне самому в те времена это казалось абсолютно естественным; так, мелочь, есть о чем толковать. Порядочные люди, умственно и духовно зрелые, притом каждый занят своим любимым делом; о каком конфликте может идти речь? Раздоры не возникают на пустом месте; им просто неоткуда взяться. Когда рядом со мной завязывалась ссора, я смотрел на нее, как на какое-то досадное недоразумение. Не могло быть сомнений в том, что все само собой разъяснится – и нелепая история забудется в ту же минуту! Вообще говоря, такой взгляд на вещи принято считать заблуждением молодости. Действительно, в жизни он, как правило, приносит человеку немало разочарований. Оттого я и выбрал математику среди всех прочих профессий, что (как я чувствовал) на этой дороге подобных разочарований ожидалось меньше всего. У нас, если ты действительно что-нибудь доказал, то все, как один, с тобой соглашаются – я хочу сказать, все порядочные, разумные люди; ну, да ведь все это само собой разумеется.
Похоже, что, в конце концов, чутье меня не подвело, и я не ошибся в своем выборе. Но история тех двух десятилетий, прожитых мною в тихом уюте «бесконфликтного» мира, оказалась в то же время историей долгих лет духовного застоя. Я жил, зажав уши, зажмурив глаза, так и не научившись почти ничему, кроме математики. А тем временем в моей личной жизни (сперва – в моих отношениях с матерью, позднее – в семье, которой я обзавелся вскорости после ее смерти) неукоснительно, в молчании назревала глубокая катастрофа. Обернуться на свою жизнь, открыто взглянуть на постигшие ее разрушения я не осмеливался. Но это уже другая история…
«Пробуждение» в 1970 г., о котором я не раз упоминал на этих страницах, стало поворотным пунктом в моей жизни как математика (я уехал работать в провинцию, мой круг общения стал совершенно иным). Столь же резко изменилась и моя семейная жизнь. В тот же год я, после разговоров с новыми друзьями, впервые отважился (лишь бегло, краешком глаза) заглянуть внутрь себя. И я увидел, как прочно обосновался в моей жизни конфликт, когда-то давно незаметно прокравшись в мой дом. С этого момента во мне зародилось определенное сомнение; в последующие годы оно весьма укрепилось. Я начал склоняться к мысли, что конфликт в жизни человека отнюдь не всегда сводится к легкому недоразумению. Нет, это не простая «помарка»; ее, пожалуй, не сотрешь с доски влажной губкой.
Относительное отсутствие конфликта внутри нашего «математического сообщества» (которое я в свое время выбрал для себя как среду обитания), теперь, по прошествии стольких лет, видится мне особенно примечательным. Ведь с тех пор я не раз имел возможность удостовериться в том, что стихия раздора бушует повсюду, где есть живые люди: в семьях и на работе, на заводах, в исследовательских лабораториях, в кабинетах профессоров и их ассистентов. Словом, все сводится к тому, что в сентябре-октябре 1948 г., ни о чем не подозревая, сразу по прибытии в Париж я ненароком очутился точь-в-точь в райском уголке Вселенной – в том самом, единственном в своем роде. Его обитатели жили неправдоподобно дружно и счастливо: они никогда не ссорились между собою всерьез!
Самодовольство и обновление
Все это вместе кажется, сейчас мне совершенно невероятным. Безусловно, это поразительное «совпадение» заслуживает того, чтобы остановиться на нем поподробнее. Миф ли это, или история? Атмосфера в нашем кругу была по-настоящему теплой и дружелюбной; мои ученики, коллеги и я, мы были привязаны друг к другу; я этого не выдумал. Но ни одного серьезного конфликта в научной среде – за два десятилетия? Невозможно; его, кажется, следовало бы выдумать!
Правда, какой-то намек на зарождение конфликта уже два раза всплывал в моих воспоминаниях, на этих самых страницах. Во-первых, сцена в Нанси с «бездарем»-учеником; но ведь мне, в общем, ничего не известно из ее предыстории. Во-вторых, мои собственные попытки отгородиться от сердечности моего «терпеливого друга» – но эта внутренняя борьба протекала в моей душе незаметно для постороннего взгляда. Конфликт, в общепринятом смысле этого слова, возникает на уровне отношений между людьми и не обходится без внешних проявлений. В этом смысле наша дружба с его семьей была совершенно безоблачной. Раскол жил только в моей душе; дело было не в них, а во мне.
Продолжим учет. Одна из первых мыслей – группа Бурбаки! Вплоть до конца пятидесятых я работал в ней более или менее регулярно. И все эти годы наши совместные занятия в группе олицетворяли для меня идеал коллективного труда: как с точки зрения скрупулезности, внимания к самым (на первый взгляд) незначительным деталям в ходе работы, так и в отношении свободы каждого из участников. Ни разу на моей памяти мои друзья по Бурбаки не делали попыток навязать свой стиль работы – мне или кому бы то ни было, из постоянных членов группы или из приглашенных. (В группу часто приходили люди посмотреть, что у нас делается; иногда, сработавшись, они «оседали» у нас.) Во всем – ни тени принуждения, никаких проблем «политического» толка: о какой-нибудь там борьбе за сферы влияния никто и не слыхал. Авторитет не означал власти; различие точек зрения на тот или иной вопрос «на повестке дня» не приводило к соперничеству между теми, кто их отстаивал. Группа работала без руководителя, и, насколько я могу судить, никто, пусть бы и в глубине души, не желал для себя этой роли. Разумеется, как во всяком коллективе, одни люди оказывали больше влияния на товарищей по группе, другие – меньше. В этом смысле, как я уже говорил, Вейлю принадлежала особая роль. Всегда,
когда он присутствовал на наших собраниях, он как бы «вел игру». В этом качестве ему (кажется, раза два) удавалось меня задеть: я был очень обидчив. Тогда я просто уходил; этим признаки «конфликта» исчерпывались. Постепенно и Серр приобретал в группе все большее влияние, так что под конец мог в этом поспорить с Вейлем. В ту пору, когда я еще входил в состав Бурбаки, это не подавало им повода для соперничества. Позднее они действительно стали недолюбливать друг друга, но в те времена я, во всяком случае, ничего такого за ними не замечал. Сейчас, по прошествии двадцати пяти лет, оглядываясь назад, я оцениваю Бурбаки пятидесятых, как редкую удачу – с точки зрения человеческих взаимоотношений внутри группы, сформировавшейся вокруг единого проекта. И это мне кажется исключительным достижением – более ценным, чем высокое качество книг, подписанных именем Бурбаки. Принять участие в работе такой замечательной группы – большое счастье. Моя судьба, вообще щедрая на подарки, оделила меня и этой радостью. Если я в свое время ушел из группы, то вовсе не потому, что с кем-нибудь рассорился или в чем-нибудь разочаровался. Просто мои собственные, не связанные с работой Бурбаки, задачи увлекали меня все больше и больше; в конце концов, мне пришлось бросить все свои силы на их разрешение. Мой уход, впрочем, не отбросил ни малейшей тени на мои отношения с друзьями по Бурбаки: как с группой в целом, так и с каждым из ее членов в отдельности.
Мне следовало бы рассмотреть по одной все возникавшие у нас (в промежуток между 1948 и 1970 гг.) ситуации конфликта, в которых я был бы непосредственно «замешан». Две короткие ссоры с Вейлем – вот все, что приходит мне в голову по этому поводу. Правда, мимолетная тень порой пробегала и между нами с Серром; но это было уж совсем несерьезно. Как обычно, всему причиной была, в основном, моя чрезмерная обидчивость. Серр, впрочем, тоже имел свои особенности: например, он мог вдруг прервать разговор, как только тема беседы переставала его занимать – притом, весьма бесцеремонно. Если же та или иная работа, которой я был особенно увлечен, не вызывала у него интереса, он никогда не пытался скрыть это обстоятельство. Наоборот: он всячески подчеркивал свое безразличие (чтобы не сказать, отвращение) к тому, что я пытался ему рассказать. Это, признаться, случалось довольно часто – и, как правило, приводило меня в растерянность. Тогда я немного обижался на Серра; впрочем, до настоящей ссоры здесь
Самодовольство и обновление
никогда не доходило. Характером мы были несхожи; зато в математике нас на редкость многое объединяло. Иногда у меня возникало чувство, будто мы с ним в совершенстве дополняем друг друга.
Что-то похожее я (позднее) испытал в своей жизни только однажды, когда познакомился с Делинем. Та же общность математических интересов, та же «состроенность душ» – даже, пожалуй, еще сильнее. Впрочем, я припоминаю, что вопрос о принятии Делиня сотрудником в IHES4 в 1969 г. внес в наши отношения какой-то разлад. Но я не назвал бы это конфликтом: мы как будто не ссорились, и вообще я не замечал в наших с ним отношениях сколько-нибудь резких перемен.
Кажется, на этом я завершил обзор. Отчет готов: перед нами все, сколько-нибудь осязаемые, проявления конфликта на уровне личных взаимоотношений (между коллегами, учениками и проч.) внутри нашей среды – и это за добрых двадцать лет с лишком. Хотите – верьте, хотите – нет. Итак, в райском уголке, столь любезном моему сердцу, люди не знали ссор – а стало быть, и презрения? Еще одно противоречие в математике?
Решительно, этим стоит заняться подробнее!
21. Выше, пытаясь разобраться в своих воспоминаниях, я заведомо пропустил несколько мелких неприятных эпизодов. Конечно, в моих отношениях с тем или иным из коллег временами пробегал «холодок» отстраненности; причиной тому оказывалась, как правило, моя чрезмерная обидчивость. Мне следовало бы упомянуть здесь три-четыре случая, когда забывчивость друга явно наносила удар моему самолюбию. Например, мне могло показаться, что моя идея или научный результат, о котором я рассказал своему товарищу, сыграли известную роль в работе, которую он только что опубликовал – и забыл в ней об этом упомянуть. Все эти истории задержались у меня в памяти, а значит, в свое время затронули какое-то чувствительное место – эдакий родничок на оболочке души, который, как видно, с годами не зарастает! Только один раз я позволил себе упрекнуть коллегу в забывчивости – а честность моих друзей была, безусловно, вне подозрений. Уверен, что и мне самому случалось так ошибиться, пропустив необходимую ссылку в той или иной из своих работ. Но и меня никто никогда этим не корил. Вообще, я не помню, чтобы вопрос о приоритете
4Institut des Hautes Etudes Scientifiques – Институт высших научных исследований – прим. перев.
хоть однажды послужил внутри моего «микрокосма» причиной ссоры, вражды или даже просто кисло-сладкого словца, мимоходом брошенного в разговоре. Все-таки один раз, когда отсутствие подобающей ссылки в работе одного из моих коллег уж слишком (на мой взгляд) бросалось в глаза, я решил ему об этом сказать. Тогда все обошлось короткой перепалкой – и она только оздоровила общую атмосферу, не оставив в наших душах едкого осадка. Тот мой приятель был очень одаренным математиком; в частности, новые идеи он схватывал на лету и легко усваивал. При этом мне кажется, он обладал досадной склонностью иногда принимать за свои те из математических находок, о которых он в действительности услышал от кого-то другого.
Вообще, здесь кроется известная трудность; с ней в той или иной форме неизбежно сталкиваются все математики (и не только они). Ее нельзя объяснить одним лишь тщеславным стремлением каждого накопить побольше «заслуг», как реальных, так и воображаемых. Другое дело, что это большинство людей действительно этим страдает, и я здесь далеко не исключение. Но нельзя забывать, что понимание той или иной ситуации (в математике или где бы то ни было), вне зависимости от того, каким путем мы к нему приходим, – нечто по сути своей сугубо личное. Даже если вначале кто-то помог тебе выйти на верную дорогу, ты все равно идешь по ней на своих двоих, без попутчиков – и горизонты впереди открываются тебе одному. Ты внимательно всматриваешься в рисунок картины, к тебе приходит понимание; все это, повторяю, твой собственный, сугубо личный опыт. Видение, которое тебе так открылось, иногда можно передать другому; но и тогда твой собеседник воспримет его по-своему. Вот почему для того, чтобы разобраться, какова «заслуга» другого в формировании твоего нового видения – или понимания ситуации, к которому ты пришел – нужна огромная бдительность.