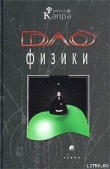Текст книги "УРОЖАИ И ПОСЕВЫ"
Автор книги: Александр Гротендик
Жанр:
Математика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
Прогулка по творческому пути, или дитя и Мать
сматриваться как составляющие нечто вроде последней квинтэссенции темы мотивов, как вдохновение, жизненно важное для самой хрупкой и изощренной из всех тем, «ядра в ядре» новой геометрии.
Вот, в общих чертах, суть вопроса. Мы уже видели, как важно (в особенности с точки зрения гипотез Вейля) для простого числа р уметь построить «когомологические теории» для «многообразий (алгебраических) в характеристике р». Знаменитый «когомологический /-адический инструмент» предоставляет именно такую теорию, и даже бесконечное множество различных когомологических теорий, каждая из которых соответствует какому-нибудь простому числу /, отличному от характеристики р. Очевидно, здесь есть «недостающая теория», соответствующая случаю равенства между / и р. Чтобы с этим справиться, я нарочно выдумал другую когомологическую теорию (которая уже недавно упоминалась), называемую «теорией кристальных когомологии». Впрочем, для важного случая бесконечного р имеются в распоряжении еще три когомологические теории{57} – и никакой гарантии, что не придется рано или поздно ввести новые когомологические теории с совершенно аналогичными формальными свойствами. В противовес тому, что творится в обычной топологии, здесь мы поставлены перед фактом ошеломляющего изобилия различных когомологических теорий. Обрисовывается вполне отчетливое ощущение (сначала оно было довольно туманным), что все теории стремятся «свестись к одной», что они «дают одни и те же результаты»{58}. Именно затем, чтобы выразить это ин-
В свое время будет приведена формулировка этих гипотез. Для более подробных комментариев см. «Обзор построек» (PC IV, примечание п° 178, стр. 1215-1216) и сноска на стр. 769 в разделе «Убеждение и знание» (PC III, примечание п° 162).
туитивное ощущение «родства» между различными когомологическими теориями, я вывел на свет понятие мотива, отвечающего алгебраическому многообразию. Этим термином я хотел навести на мысль, что речь идет об «общем мотиве» (или «общей причине»), скрытом в глубине огромного множества различных априори возможных когомологических инвариантов. Эти различные когомологические теории стали бы, как тематические разработки, каждая в «темпе», «ключе» и «ладу» («мажорном» или «минорном»), какие ей подобают – одного и того же «основного мотива» (называемого «мотивной когомологической теорией»), который в то же время является наиболее фундаментальным, или самым «утонченным» из всех этих различных «воплощений» темы (то есть из всех возможных когомологических теорий). Так, мотив, соответствующий алгебраическому многообразию, образовывал бы «окончательный», «в полном смысле этого слова», когомологический инвариант, из которого все прочие (соответствующие всевозможным когомологическим теориям) выводились бы, как «воплощения» музыкальной темы, ее различные «реализации». Все важнейшие свойства когомологии многообразия проявлялись бы (или «слышались бы») уже в соответствующем мотиве, как если бы знакомые свойства и структуры на отдельных когомологических инвариантах (/-адических или кристальных, например), стали бы попросту точными отражениями свойств и структур, заключенных в мотиве{59}.
гладкая проективная поверхность при г = 2. В действительности, насколько мне известно, никто после моего ухода не соизволил поинтересоваться этим важнейшим вопросом, типичным из тех, что вытекают из стандартных гипотез. Согласно велению моды, единственный эндоморфизм, достойный внимания – это эндоморфизм Фробениуса (с которым, отчасти, сумел разделаться Делинь, подручными средствами …).
Прогулка по творческому пути, или дитя и Мать
Вот, выраженная языком не математической техники, но музыкальной метафоры, квинтэссенция еще одной идеи младенческой простоты, тонкой и смелой одновременно. Я развивал эту идею в рамках основных задач, которые считал наиболее неотложными, под заголовком «теория мотивов», или «философия (йога) мотивов», во все время с 1963 по 1969 гг. Эта теория, с ее завораживающим структурным богатством, во многом остается еще на стадии предположений{60}.
Я несколько раз говорю на страницах «РС» о «йоге мотивов» – о том, что представляется мне особенно важным. Здесь излишне рассуждать о том, о чем уже сказано в другом месте. Достаточно указать, что сами «стандартные гипотезы» берут начало в мире йоги мотивов, вытекая из нее естественным образом. В то же время они предоставляют принцип подхода к одной из возможных конструкций понятия мотива.
Эти гипотезы мне казались, кажутся и сейчас, одним из двух наиболее основополагающих вопросов алгебраической геометрии. Ни они,
Это дает представление о том, до какой степени «мотивные когомологии» суть более тонкий инвариант, окруженный «арифметической формой» (если возможно отважиться на такое выражение) многообразия X куда плотнее, чем традиционные инварианты, чисто топологические. В моем восприятии мотивов они представляются, как что-то вроде «пуповины», незаметной, скрытой от взгляда, который связывает алгебро-геометрические свойства алгебраического многообразия со свойствами «арифметической» природы, воплощенными в его мотиве. Последний может рассматриваться, как объект, по духу «геометрический», но в котором «арифметические» свойства, определяемые геометрией, оказываются, так сказать, «обнаженными» и выставленными напоказ.
Итак, мотив представляется как глубочайший «инвариант формы» из тех, что вплоть до настоящего момента удавалось связать с алгебраическим многообразием, помимо его «мотивной фундаментальной группы». И тот и другой инварианты предстают передо мной, как «тени», проявления «мотивного гомотопического типа», которые остается описать (и о которых я скажу несколько слов в примечании «Обзор построек, или инструменты и видение» (PC IV, п° 178, см. постройка 5 (Мотивы), и в особенности стр. 1214)). Именно этот последний объект, мне кажется, должен стать наиболее совершенным воплощением ускользающего интуитивного представления об «арифметической (или мотивной) форме» произвольного алгебраического многообразия.
ни другая, также важнейшая, проблема (так называемая «проблема разрешения особенностей») не разрешены до сих пор. Но в то время как вторая из них высится, сегодня, как и сто лет назад, громадой великолепной и грозной, те, что я имел честь поставить, неоспоримым приговором моды отнесены (в годы, последовавшие за моим уходом с математической сцены, и в точности как собственно тема мотивов{61}) к разряду прелестной гротендической чепухи. Но я снова забегаю вперед…
17. По правде сказать, я не так уж много и подробно раздумывал над гипотезами Вейля. Иная, широкая панорама уже начинала разворачиваться передо мной. Я старался уловить взглядом все, что мог, и изучить тщательно, ничего не упустив. То, что я видел перед собой, выходило далеко за пределы (предположительных) нужд доказательства, оставляя позади даже то многое, что можно было предвидеть, вооружившись оптикой этих гипотез. С появлением теорий схемы и топоса мне вдруг открылся новый, неожиданный мир. «Гипотезы», бесспорно, занимали в нем центральное положение: как столица обширной империи, где не счесть провинций. Но, как правило, между этим почтенным, великолепным городом и отдаленными областями огромной страны нет настоящей связи: дальние дороги, ненадежная почта… Прямо себе этого не говоря, я все же знал, что отныне служу великой задаче. Мне предстояло исследовать огромный, неведомый мир: изучить его географию, вплоть до самых удаленных границ, исходить все дороги; тщательно, одну за другой, описать ближайшие, наиболее доступные провинции. И все свои находки нанести на карту – как можно точнее и подробнее, до последней деревушки, до самой скромной хижины в ней.
На эту-то работу в основном и уходили мои душевные силы. То был терпеливый и долгий труд по закладке основ, который я один перед собой видел ясно, и, главное, «нутром чувствовал». Далеко опередив в этом отношении все остальные задачи, он забрал себе наиболее внушительную часть моего времени, между 1958 (когда, одна за другой,
Прогулка по творческому пути, или дитя и Мать
появились теории схем и топосов) и 1970 (годом моего ухода с математической сцены).
Впрочем, я нередко в нетерпении грыз удила, проклиная каждую задержку. Эти бесконечные задачи давили мне на плечи неотвязным, назойливым грузом. Ведь, как только по сути в них разберешься, новизна пропадает, а то, что остается на ее месте, льнет к рукам бытовой рутиной. И тогда – какой уж там бросок в неизвестное! Так, хлопоты по хозяйству… Вот и приходилось постоянно сдерживать в себе стремление пуститься вскачь – инстинкт первооткрывателя, отправляющегося на поиски никому не ведомых, безымянных миров (а они все звали и звали меня, заглядывали в глаза, просили назвать по имени…). Эта тяга, которой я мог давать волю не иначе, как изредка и почти украдкой, все эти годы получала лишь скудное удовлетворение.
И все же, по сути я знал, что передаваемая ей доля энергии – ворованная (иначе не скажешь) у моих «задач» интендантского толка – обретала по дороге иную, редкую, изысканную структуру. И не мудрено, ведь ее путь лежал через творчество. В чем его и искать, как не в напряженном внимании, с которым вслушиваешься в голоса вещей, стремясь различить зов того, что просит себе плоти, чтобы появиться и жить… В темноте, среди тайных, бесформенных, влажных складок питающего лона, возможен лишь неясный намек на очертания – и неуклонная, страстная воля родиться на свет. Говоря о труде открытия, как не признать, что в этом напряженном внимании, в этой жаркой заботе и есть его главная сила. Так, проникая под слой питательной почвы, солнечное тепло торопит семена. Навстречу его ласке из земли, как некое чудо, пробиваются едва заметные ростки; созревший бутон раскрывается и видит свет дня.
Оглядываясь на свой жизненный труд как математика, я угадываю в нем действие двух сил, или стремлений – различной природы, равно глубоких. Чтобы их обозначить, я выбрал, во-первых, образ строителя, во-вторых – первопроходца, или исследователя. Поставив их рядом, я вдруг поразился, до чего оба они «мужественны», «ян», даже «мачо»{62}! У этих слов гордое звучание мифа, в них слышится эхо «великих событий». Несомненно, эти образы были мне навеяны остатками моего прежнего, «героического» представления о творчестве; уж оно-то в свое время было «ян» с ног до головы и выше. В таком виде они создают сильно искаженное, чтобы не сказать застывшее по стойке смирно, впе-
чатление о действительности, которая на деле гораздо проще, скромнее, подвижней, – она живая, попросту говоря.
В мужественном стремлении «строителя», которое, казалось бы, должно без устали толкать нас к новым постройкам, я различаю, однако же, страстишку домоседа, от души привязанного к какому-то одному дому. Прежде всего прочего, это его дом, то есть нечто близкое; это большое живое существо, частью которого он себя ощущает. И лишь во второй черед, по мере того как расширяется круг вещей, воспринимаемых, как близкие, здание оказывается «домом для всех». И в этом стремлении «строить дома», заняться зодчеством (как «занимаются» любовью…), есть еще, и прежде всего, нежность. Это желание прикоснуться к тем материалам, которые нужно обрабатывать один за другим – с любовной заботой, которая рождается именно от такого тесного контакта. А когда воздвигнуты стены, уложены балки и крыша на месте, приходит вкус к новой работе. Тогда, шаг за шагом обустраивая дом изнутри, чувствуешь глубокое удовлетворение, глядя, как среди спален, кладовых и гостиных устанавливается особый порядок, ровное согласие гостеприимного дома – красивого, удобного для жизни. Ведь он, тот самый дом, – тоже образ матери. Это то, что окружает и защищает нас, то, что нас укрывает от бед и ободряет. И быть может (где-то на более глубоком уровне; пускай мы в эту самую минуту строгаем балки, кладем кирпичи, чтобы на голом пустыре выросло строение), дом этот и есть то, откуда вышли мы сами, то, что в нашей незавершенности защищало и питало нас в те странные, незабываемые времена, до нашего рождения… Это тоже Лоно.
И вот образ, только что явившийся сам собою, чтобы, опрокинув тесные рамки громкого символа «первооткрыватель», передать как будто глубоко запрятанную, но обретенную вновь реальность вещей, на глазах теряет всякую «героическую» окраску. И в памяти снова всплывает все тот же архетипический образ материнства – питательной «матки», с ее тайными, неясными трудами живорождения…
Итак, я думал, будто природа этих двух стремлений совершенно различна, а они, глядишь, оказались до того похожи между собой, что я не устаю изумляться. И то и другое по сути – желание обрести контакт, и каждое из них влечет нас не далее, чем к новой встрече с Матерью. Ведь Она воплощает для нас обе стороны окружающего нас мира: как то, что нам близко, знакомо в нем, так и то, что неизвестно. Отдаться на волю любого из этих стремлений – значит вернуться
Прогулка по творческому пути, или дитя и Мать
к Матери. То есть заново соприкоснуться с тем, что нам так близко, знакомо как будто бы – ив то же время где-то совсем далеко, как темная звезда над горизонтом. Но, неведомое нам, оно все же бывает предпослано странным чувством; переживая его, мы узнаем.
Разница здесь в окраске, в том, как смешаны ингредиенты – совсем не в природе. Когда я «строю дома», преобладает знакомое, когда «исследую» – неизвестное. Эти два «способа» открытия, или, лучше сказать, две стороны одного и того же процесса, нельзя отделить друг от друга. Оба существенны; в работе они друг друга дополняют. Оглядываясь на свой математический труд, я вижу, что равновесие сил в нем подчинялось закону маятника. Первый из двух аспектов, начиная преобладать, словно уже готовился дать место второму{63}. Но при этом совершенно ясно, что во всякую минуту присутствуют оба импульса. Когда я возвожу дома, их обустраиваю, или убираю строительный мусор, тогда я нахожусь на склоне «ян», так что «мужественная» сторона творчества задает тон. Когда же я, пробираясь вперед на ощупь, исследую бесформенное, неуловимое, еще безымянное, тогда я на «инь», женском, склоне моего бытия.
Я совсем не намерен преуменьшать здесь значение того или иного аспекта своей природы, и уж тем более отрицать его. Зачем, ведь каждый из них по-своему важен: «мужской», который строит и порождает, и «женский», который, зачиная, хранит в себе медленное, скрытое от глаз вынашивание плода. Я «есмь» и то, и другое – «ян» и «инь», мужчина и женщина. Но я знаю и то, что самая тонкая, самая изысканная сущность творчества обретается все же на склоне «инь», женском – пускай он скромен, небросок и зачастую непригляден на вид.
Думаю, что как раз на этот склон меня всегда и тянуло в работе, притом с особенной силой. Действующие правила, однако, призывали меня вкладывать львиную долю своей энергии в труд с преобладанием другого аспекта – в тот, что воплощается в осязаемых «продуктах»
(хочется сказать, законченных и готовых на продажу). И в этих-то продуктах, чьи контуры прочерчены как нельзя более отчетливо; как обтесанный камень, весомых и непреложных в своей реальности, подобный труд, конечно, находит неоспоримое подтверждение…
Сейчас, в перспективе, я ясно вижу, как это всеобщее соглашение давило на меня – и как я был собственной податливостью обречен нести этот груз. Доля «зачатия», или «исследования», в моей работе оставалась более чем скудной вплоть до того, как я ушел со сцены – пусть так. И все же, в эту минуту оглядываясь назад, на то, что все это время представляла собой моя работа как математика, я понимаю ясно, как никогда, что основным ее содержанием и главной силой она обязана именно тому аспекту труда, каким в наши дни принято пренебрегать. А если его замечают, то говорят о нем высокомерно, с насмешкой. Это тот склон, где обретаются идеи, даже грезы – никак не «результаты». На этих страницах я попытался уяснить себе, что же особенно существенного я сделал в современной мне математике. Мне хотелось охватить взглядом лес, не задерживаясь на отдельных деревьях. Так вот, я увидел не список «великих теорем», а живой веер плодотворных идей{64}, которые, сложившись вместе, предстали моему взгляду единым, широким видением.
18. Когда это «предисловие» стало превращаться в «прогулку» вдоль моего труда как математика, с небольшой речью о «наследниках» (прочно вжившихся в роль) и «строителях» (неисправимых), начало вырисовываться также недостающее название этому предисловию, и звучало оно как «Ребенок и строитель». С течением дней делалось все яснее, что «ребенок» и «строитель» – один и тот же персонаж. И тогда название стало проще: «Строитель-дитя». Имя, право, не хуже, чем у других, да и я был им доволен!
Прогулка по творческому пути, или дитя и Мать
Но вот, поразмыслив, мы пришли к тому, что этот гордый «строитель», или (скромнее) ребенок-который-играет-в-постройку-домов, – лишь одно из лиц знакомого всем играющего-ребенка, у которого их два. Есть еще ребенок-который-любит-изучать-предметы, всюду совать нос, прятаться в песке или в грязной тине, или в прочих безымянных, нелепейших, невозможнейших местах. Без сомнения, желая обмануть (себя, а то кого же), я принялся давать ему новые клички – сверкающее имя «пионера» и, вслед за ним, более приземленное, но еще ярче окруженное ореолом, – «исследователя». Спрашивается, из пары «строитель» и «пионер-исследователь», который мужественней, кто привлекательней? Орел или решка?
И затем, присмотримся немного ближе: вот он, наш отважный «пионер», в конце концов явившийся девочкой (а мне-то нравилось наряжать ее мальчишкой) – сестрой темных запруд, грозовых туч, туманных завес ночи, молчаливой и почти невидимой из-за своей привычки держаться в тени; той, о ком от века никто и не вспомнит (разве только затем, чтобы, ломаясь, посмеяться над ней…). Я и сам отлично сумел найти средство день за днем не вспоминать о ней, забыть дважды, позволю себе сказать: я сначала желал видеть только одного мальчика (того, кто играет в постройку домов) – и даже когда просто нельзя было не заметить присутствия другого, я опять увидел мальчишку, в ней тоже…
Что касается красивого названия для моей «прогулки», критики оно не выдерживает. Это имя уж очень «ян», с ног до головы «мачо»; выбор хромает. Чтобы ему снова не пойти вкривь, нужно взять под руку другого – другую, ведь она тоже здесь. Но вот что странно: эта «другая» воистину не имеет имени. Единственное, которое как-то с ней вяжется – «исследователь», но это снова имя для мальчика, ничего не попишешь. Тут сам язык подлец; мы ловимся к нему на крючок, даже не замечая того, а ведь он явно в сговоре со старинными предрассудками.
Можно было бы, наверное, выкрутиться с «ребенком-который-ст-роит» и «ребенком-который-исследует». Бросивши недосказанным то, что один – «мальчик», а другой – «девочка», и то, что это один и тот же ребенок, мальчик-девочка, который, строя, исследует и, исследуя, строит… Но давеча, вдобавок к двойному склону инь-ян того, что созерцает и исследует, и того, что называет и строит, открылась еще одна сторона сути вещей.
Вселенная, Мир, даже Космос – вещи по существу странные и от нас чрезвычайно далекие. На самом деле они нас не затрагивают. Самые глубинные наши мотивы, ответственные за тягу к познанию, не к ним влекут нас. Нас манит их Идея во плоти, непосредственная и осязаемая, самая близкая, самая «чувственная», богатая ассоциациями, красками и отзвуками, полная тайны – Та, что сливается с истоками нашего плотского бытия, как родная по крови, и Та, что во все времена внимает нам, готовая нас принять «на другом конце пути». И это к Ней, к Матери, родившей нас, как она родила Мир, пробивается родник души, импульс, влекущий нас за собой, к Ней стремятся пути желания, ведя нас обрести Ее вновь, вперед и по кругу неустанно, чтобы, погрузившись, вернуться к Ней…
Итак, непредвиденный поворот дороги во время «прогулки» дал мне возможность вдруг воскресить в памяти как будто знакомую, но слегка позабытую притчу о «Матери и ребенке». Можно назвать ее иначе, «Жизнь, как путешествие к ее сути». Или, на более скромном уровне правды одного человека, это притча «Бытие, или поиск».
Это притча, и это выражение опыта предков, чьи корни в душе крепки – мощнейшего среди первородных символов, питающих глубокие творческие пласты. Я думаю, что узнал в ней, пересказанной древним языком архетипов, само дыхание творческой силы в человеке, живительное для его плоти и духа, слышное в его проявлениях самых мимолетных и незаметных, различимое в самых ярких и долговечных.
Это дыхание, как и родственный ему образ во плоти, родом из самого скромного мира. Но кто заметит его – а если это вдруг случится, кто тогда не пожмет плечами, в спешке отводя глаза от какой-то беззащитной, немыслимо хрупкой его оболочки… И пока ты живешь, история превратностей, выпавших на долю этого дыхания-вдохновения – это твое приключение, «приключение познания». Притча о ребенке и матери вечно без слов о нем говорит.
Ты сам ребенок, происшедший от Матери, защищенный Ею, вскормленный ее могуществом. И ребенок тянется к Матери, Совсем-родной, Близко-знакомой – к встрече с Ней, не знающей предела, всегда неизвестной и полной тайны…
Конец «Прогулки по творческому пути».
Прогулка по творческому пути, или дитя и Мать
Эпилог: Невидимые Круги.
19. До появления точки зрения топосов, к концу пятидесятых годов, эволюция понятия пространства мне представляется по существу непрерывной. Она проистекала как бы гладко, без скачков и резких поворотов, начиная с евклидовых теоретических разработок на предмет окружающего нас пространства и с геометрии, что досталась от греков, увлекавшихся изучением некоторых «фигур» (прямых, плоскостей, кругов, треугольников и пр.), обитающих в этом пространстве. Конечно, способ восприятия «пространства» математиками (или «естественными философами») претерпевал глубокие изменения{65}. Но и эти изменения, на мой взгляд, умещались целиком в природе самой «непрерывности» – никогда они не ставили математика, связанного (в точности, как любой из нас) системой привычных мысленных образов, перед чем-либо чужеродным, неуютным, приводящим во внезапное замешательство. Так меняется для нас, значительно, но постепенно, некто, кого мы знали еще ребенком, и чья эволюция с годами происходила на наших глазах, с первых его шагов до отрочества и полной зрелости. Меняется неуловимо в какие-то, иногда долгие, периоды затишья – и, бывает, бурно, явственно, в короткий срок. Но даже в периоды роста или самого напряженного взросления, пускай мы потеряли его из виду на месяцы, а то и на годы, мы ни на секунду не поколеблемся, не усомнимся: это все он же, он самый, существо прекрасно знакомое и привычное, и уж его-то мы узнаем, как время ни шути.
Полагаю, можно сказать, впрочем, что к середине нашего столетия это привычное создание уже изрядно состарилось – эдакий человече, который вконец износился, истощив былое здоровье, так что наплыв новых задач, к каким он совершенно не был подготовлен, оказался ему не по силам. Да он мог уже преспокойно отдать богу душу; никто не позаботился бы обратить на это внимание или, скажем, составить бумагу. «Все на свете» усердно старались бы представить дело так, будто он еще
жив, по-прежнему хлопоча вовсю в его доме; глядишь, тут и вышло бы, что покойник словно и впрямь почти не мертвец.
Вообразите же себе, однако, досаду завсегдатаев этого дома, когда на месте почтенного старца, прямого, как палка, застывшего в своем кресле, они, приходя, застают резвящимся здоровехонького мальчишку, от горшка два вершка. А он им мимоходом, совершенно серьезно и как будто это само собой разумеется, заявляет, что «Его милость Пространство» (и можете впредь обходиться без «Вашей милости», к чему церемонии) – это он и есть! И пускай был бы хоть намек на фамильное сходство – побочный сынок, там уж кто знает… так ведь нет! Как будто ничего, отдаленно напоминающего старого Папашу Пространство, так хорошо им знакомого (или это им так казалось…), и на чей счет уж во всяком случае (и помыслить-то невозможно, чтоб вышло иначе) была уверенность, что он будет всегда.
Вот оно, пресловутое «перерождение понятия пространства». Это его я «видел», как нечто несомненное, ни разу не попытавшись описать для себя картину словами – вплоть до самой минуты, когда пишутся эти строки. И я вдруг осознал с новой ясностью (сработала последняя метафора и тут же навеянная ею целая туча ассоциаций): традиционное понятие «пространства», и родственное ему понятие «многообразия» (любого, и в особенности «алгебраического»), к тому моменту, когда я зашел в их края, стали совсем дряхлыми и немощными – все равно, как если бы они и впрямь уже отдали Богу душу{66}. И можно сказать, что когда появились одна за другой точка зрения схем (и ее потомство{67}, и в довершение ко всему десять тысяч страниц оснований),
Прогулка по творческому пути, или дитя и Мать
а затем точка зрения топосов, кризис-скрывавший-свое-имя оказался наконец разрешенным.
Что касается нашей недавней аллегории с мальчишкой на месте Папаши-Пространства, здесь нужно говорить не об одном дитяти, возникшем в результате внезапной мутации, но о двоих. Двое ребятишек, имеющих между собой несомненное «фамильное сходство», даже если в них нет ничего общего с усопшим старцем. И еще можно сказать, присмотревшись, что крошка Схема – как бы «переходное звено» родственной цепочки, связывающей покойного Батюшку Пространство (он же Многообразие, любого вида) с малышкой Топосом{68}.
20. Ситуация представляется мне весьма сходной с той, что сложилась в начале нашего века с появлением теории относительности Эйнштейна. То был концептуальный тупик, еще более явный, воплотившийся в неожиданном противоречии, которое казалось неразрешимым. Как ей и положено, новая идея, которая восстановила порядок в наступившем было хаосе, оказалась простой по-младенчески. Примечательно, что (точь-в-точь по сценарию, который разыгрывается вновь и вновь…) среди всех этих блестящих, выдающихся, авторитетных ученых, которые разом бросились вдруг «спасать все, что еще не поздно», ни один не додумался до этой идеи. Должно было случиться, чтобы безвестный молодой человек, едва закончивший (если довелось) учиться в университете, явился (слегка смущенный, быть может, собственной дерзостью…) и объяснил прославленным старейшинам от науки, что нужно сделать, чтобы «спасти положение»: перестать разделять пространство и время{69}! Технически, все тогда сложилось удачно для того,
русского термина нет – прим. перев.) всех видов (особенно схемные, или формальные), наконец, так называемые «жесткие аналитические» пространства (их ввел Тэйт, следуя плану работ, который я составил, основываясь на новом понятии топоса, и в то же время на понятии формальной схемы). Это, впрочем, далеко не полный список…
чтобы эта идея появилась и была воспринята. И, к чести старших коллег Эйнштейна, они в самом деле сумели воспринять новую идею, не слишком ворча и досадуя. Вот знак, что то была все же великая эпоха…
С математической точки зрения новая идея Эйнштейна была банальна. Для нашего восприятия физического пространства, напротив, это была глубокая перемена, внезапно смешавшая карты. Первая мутация своего рода, считая от математической модели физического пространства, предложенной Евклидом 2400 лет назад, которую все физики и астрономы (включая Ньютона) подправляли время от времени для нужд механики, как земной, так и небесной.
Исходная идея Эйнштейна впоследствии сделалась глубже, получив воплощение в более тонкой, богатой и гибкой математической модели, при поддержке богатейшего арсенала уже существующих математических понятий{70}. С появлением «общей теории относительности» эта идея превратилась в широкое видение физического мира, охватившее одним взглядом субатомный мир бесконечно малого, Солнечную систему, Млечный Путь и удаленные галактики, и распространение электромагнитных волн в пространстве-времени, искривленном в каждой точке материей, там расположенной{71}. Тогда, во второй и последний раз в истории космологии и физики (вслед за первым великим синтезом, проведенным Ньютоном три века тому назад) появилось широкое объединяющее видение совокупности физических явлений во Вселенной, изложенное языком математической модели.
Впрочем, это эйнштейновское видение физической Вселенной, в свою очередь, пошатнулось под наплывом событий. «У совокупности физических явлений», которые нужно было принять в расчет, было довольно времени с начала этого столетия, чтобы расширить свой список! Появилось множество физических теорий, каждая из которых более
не имеет никакой экспериментальной основы. Это заявление «устами младенца», это возглас: «А король-то голый!» – тот, с каким преодолевают известные нам «круги невидимые, но властные, которые ограничивают Вселенную»…
760дна из самых поразительных черт, отличающих эту модель от евклидовой (или ньютоновской), а также от первой модели Эйнштейна (из «специальной теории относительности») состоит в том, что глобальная топологическая форма пространства-времени остается неопределенной, вместо того чтобы быть предписанной автоматически самой природой модели. Вопрос определения этой глобальной формы кажется мне (как математику) одним из самых увлекательных в космологии.
Прогулка по творческому пути, или дитя и Мать
или менее успешно объясняла ограниченный набор фактов из невероятного нагромождения «наблюдаемых явлений». И все ждали дерзкого мальчишку, который нашел бы, играя, новый ключ (если он один…), горячо предвкушаемую модель, которая «сработала» бы и объяснила бы все разом{72}…
1) Требуется размышление «философской» природы над самим понятием «математической модели» и тем, как оно соотносится с действительностью. Начиная с успеха ньютоновской теории, среди физиков стало аксиомой по умолчанию, что существует математическая модель (даже единственно правильная модель) для абсолютно адекватного, без сучка и задоринки, выражения физической реальности. Это соглашение, более двух столетий задававшее у нас тон, представляет собою нечто вроде окаменелых останков некогда живого видения Пифагора: «Все есть число». Может статься, это новый «невидимый круг», пришедший на смену древним метафизическим кругам, чтобы ограничить Вселенную физика (в то время как раса «естественных философов» определенно представляется вымершей: их с легкостью вытеснили компьютеры…). Стоит лишь мгновение над этим поразмыслить, как становится ясно, что законность этого соглашения далеко не бесспорна. Есть даже весьма серьезные философские причины тому, чтобы априори ставить ее под сомнение, или, по крайней мере, предусматривать строжайшие границы применимости соглашения. Поняв это, остается – теперь, или никогда – подвергнуть эту аксиому тщательной критике, даже может быть, «доказать», вне всякого сомнения, что она не имеет под собой основания: что не существует неопровержимой математической модели, которая объясняла бы совокупность так называемых физических явлений, составляющих сегодняшний список.