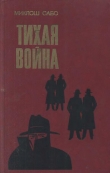Текст книги "Соколы Троцкого"
Автор книги: Александр Бармин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 44 страниц)
Однажды консульский привратник впустил ко мне молодую высокую блондинку с ребенком. Она выглядела внешне спокойно, но чувствовалось, что она сильно взволнована.
– Чем могу помочь, мадам? – спросил я стоявшую передо мной особу.
Подождав, пока выйдет привратник, она медленно и с большим трудом заговорила на ломаном французском языке. Она была женой Генерального секретаря греческой компартии Захариадиса, чешкой по национальности. С момента перехода партии на нелегальное положение жила в маленьком домике в пригороде Афин, ни с кем не встречалась и почти не выходила из дома. Муж бывал дома очень редко и после непродолжительного отдыха снова неделями пропадал, но другие члены партии оказывали ей материальную поддержку.
– Вы, наверное, знаете из газет, что десять дней назад Захариадиса арестовали. С тех пор я дважды выходила в условное место на встречу с его помощником, но он не появился. У меня совсем кончились деньги. Я долго не решалась прийти к вам, но я никого в городе не знаю, а у меня ребенок.
Она назвала мне имя помощника Захариадиса, и я сразу вспомнил, что как раз утром это имя попалось мне в списке арестованных лиц, который я видел в утренней газете.
– Боюсь, что вы с ним уже не встретитесь, – сказал я. – У вас есть какие-то планы? Что вы хотите от нас?..
Она хотела поехать в Москву. У нее был просроченный чешский паспорт, но она надеялась получить советскую визу и деньги на дорогу. Я пошел с этой проблемой к Кобецкому. Тот был обеспокоен и раздражен:
– Вы отлично знаете, что мы не имеем права заниматься такими делами. Мы не можем компрометировать миссию.
– Но мы же не можем так просто оставить эту женщину с ребенком на улице. Ее муж в тюрьме, и ей не к кому обратиться за помощью. Мы можем дать ей визу и немного денег, и об этом никто не узнает. Мы не можем выгнать ее.
– Не уговаривайте меня, Александр Григорьевич. Я ничего подобного не могу делать и не буду делать, – нервно сказал Кобецкий.
Разговор был долгим, трудным и бесполезным. С трудом сдерживая гнев, я вернулся в консульство.
– Вот ответ нашего посланника, – сказал я терпеливо ожидавшей женщине. – Миссия абсолютно ничего не может для вас сделать. Но я хочу поговорить с вами просто как частное лицо. У вас есть какие-нибудь друзья или знакомые в Чехословакии? Если вы доберетесь до Праги, вы сможете дальше сами пересесть на поезд в Москву? Тогда вот вам деньги, которых вам хватит на дорогу и питание. Это мои личные средства, которые я даю вам без всякой санкции своего шефа. Об этом никто не должен знать. Если он узнает, то запретит мне это делать. Отправляйтесь в чешскую миссию и получайте визу. Если будут какие-то трудности, попросите их позвонить мне.
Коллеги в чешской миссии были гуманны и отзывчивы. После небольшого деликатного разговора со мной по телефону они согласились дать ей визу. Она зашла в консульство поблагодарить меня, и больше я ее никогда не видел.
Еще одна «тайная деятельность», в которой я должен признаться, заключалась в том, что я действовал как иностранный корреспондент советского агентства новостей ТАСС – обязанность, которую я унаследовал от моего предшественника на дипломатической должности. Перед отъездом из Москвы мне в Наркоминделе сказали, что ТАСС «приготовил для меня эту работу». Сам Наркоминдел ни санкционировал мне это совместительство, ни отговаривал от него. Я встретился с директором ТАСС Долецким, и мы быстро нашли общий язык.
Раньше я уже писал статьи в журналы, но то были первые и, надо сказать, робкие опыты моей газетной работы. Новое задание конечно же ускоряло темп моей неспешной дипломатической деятельности и давало дополнительный стимул интересу к динамичной политической жизни Греции. Мои сообщения имели штамп «Отделение ТАСС в Афинах», и курьер миссии всегда их относил на почту для цензуры. Греки были достаточно тактичны и не старались выяснить, кто скрывался за этим таинственным штампом, тем более что направлявшиеся по этому каналу сообщения объективно освещали события в Греции. Но члены дипломатического корпуса не подозревали, что все сообщения ТАСС из Афин выходили из-под пера их коллеги. Я это точно знаю, потому что они не раз спрашивали меня, почему я так терпеливо выслушиваю парламентские дебаты. Я небрежно отмахивался от этих вопросов, но однажды мне стало жаль, что я не мог раскрыть эту маленькую тайну. Думаю, что в этой связи я стал причиной отзыва из Афин японского поверенного в делах.
В Токио группа офицеров вооруженных сил организовала террористический акт против нескольких членов правительства. Комментируя это происшествие, японский поверенный неожиданно вышел за рамки обычной для японцев дипломатической сдержанности. Он заявил, что этого как раз и следовало ожидать от японской армии, и те, кто внимательно следит за обстановкой в этой стране, предвидели такое развитие событий. Я мимоходом процитировал это заявление в одном из своих сообщений, но «Правда» и «Известия» подали мое сообщение очень выпукло на первых полосах. Возможно, это было не единственной причиной, но так или иначе японский поверенный был срочно отозван.
Вскоре после моего приезда в Афины мы получили из английской миссии приглашение посетить религиозную службу по случаю кончины короля Великобритании Георга V. Официально Советский Союз был атеистическим государством, и я и Кобецкий уже много лет не бывали в церкви. Он колебался, стоит ли идти, и наконец попросил указаний из Москвы. Литвинов ответил: «Делайте как другие дипломаты». И вот мы с Кобецким во фраках и цилиндрах, с развевающимся на автомашине красным советским Государственным флагом с серпом и молотом, торжественно подъехали к собору. В то время как мы с Кобецким спокойно поднимались по ступеням собора, толпа зевак с изумлением рассматривала нашу машину с красным флажком. Наверное, для них наше появление у собора было чем-то сверхъестественным.
Через несколько дней мы получили от британского посланника сэра Сиднея Уотерлоу выражение благодарности от имени нового короля Эдуарда VIII. С этой же почтой к нам пришли журналы с фотографиями траурной церемонии в Лондоне. Среди генералов и принцев, которые шли за гробом, был маршал Тухачевский. Он шел рядом с низкорослым толстым генералом, чье имя я запомнил – Франко, представлявшим молодую Испанскую республику.
Примерно через месяц после встречи с архитекторами я в фотографическом магазине снова встретился с девушкой-архитектором, чьи золотые волосы так запомнились мне. Мы улыбнулись друг другу, и она показала мне фотографии, за которыми зашла в магазин, – это были ее снимки в национальном костюме, танцующей на плоской крыше дома. Указывая на эту крышу, она сказала с гордостью:
– Я сама спроектировала и построила этот дом для моей матери. Из этих окон видны Акрополь и Парфенон.
Как раз в это время мы задумали некоторую перестройку в здании миссии.
– Само провидение послало вас! – сказал я. – Мы как раз ищем архитектора Может быть, вы сможете сделать так, что и мы из своих окон будем видеть Парфенон!
Она согласилась посмотреть нашу миссию, и таким образом наше первое свидание носило профессиональный характер. Вместе с ней мы осмотрели комнаты, но скоро перешли от обсуждения планировки помещений к обсуждению различий между античной и современной архитектурой. И вот она уже начала объяснять мне, как исключительно точный рисунок колонн Парфенона подчеркивает воздушность этого сооружения. Она рассказывала с таким энтузиазмом, что было просто противоестественно вести этот разговор в закрытом помещении, когда сам Парфенон был всего в двух километрах от миссии. Закончили мы нашу беседу уже в Акрополисе.
Я сказал ей, что собираюсь посетить знаменитые руины Муценуса и Эпидауруса, и попросил ее порекомендовать кого-нибудь в качестве гида. Она сказала, что с удовольствием будет моим гидом.
Через неделю мы поехали в те места, которые история сделала всемирно известными: величественный амфитеатр в Эпидаурусе, строгие гробницы Клитемнестра и Агамемнона, мрачное Дельфийское ущелье, покрытые мхом руины стен, где несколько столетий назад стояла деревня Тангра. Если бы я мог не думать о набиравших полную силу страшных тенденциях у меня на родине, я был бы вполне счастлив. Я всеми силами старался, чтобы тень от этого не омрачала наше путешествие по пыльным дорогам под палящим солнцем Греции. Где бы мы ни были, всегда перед нами на горизонте в двух-трех местах мерцало голубое море. Я был полон восхищения Грецией и этой прекрасной дочерью Греции, которая меня сопровождала.
По вечерам, когда я оставался дома один, меня постоянно одолевали мрачные мысли. Я пытался читать, совершал длительные прогулки, но ничто не могло развеять этих настроений. Я искал развлечений в компании своих друзей из греческой интеллигенции. Мы посещали кафе и небольшие таверны в пригородах Афин. Но эти ужины с веселыми и умными друзьями, хорошей пищей и музыкой казались мне пресными по сравнению с моими археологическими экскурсиями. Мне было намного легче и интереснее в обществе Мари.
Как-то я сказал ей, что, посвятив столько времени и сил искусству и истории, она имеет право немного отдохнуть. Не согласиться ли она поужинать со мной в уютном ресторане на побережье?
Мы поехали в Глифаду, небольшой курорт в Фалеронском заливе. Проехав мимо фешенебельных отелей, мы остановились у небольшой таверны, стоявшей прямо на пляже. Мы ужинали одни на террасе, тихий воздух был заполнен ароматом цветов, в море отражалась полная луна. Величественный усатый официант принес нам барбуну, только что пойманную в море, и бутылку вина Ретцина. Закончился ужин белым сыром.
Я наполнил бокалы вином.
– За ваше счастье, Мари. Делайте как я – это обычай в моей стране.
Медленно мы выпили свои бокалы до дна и звонко чокнулись ими. Затем я бросил мой бокал через плечо. Она последовала моему примеру.
Услышав звон разбитого стекла, владелец таверны вскочил со своего места. Но мы вроде не ссорились, и он снова сел. К нам подошел официант и вопросительно уставился на наши улыбающиеся лица.
– Принесите новые бокалы, а те включите в счет, – сказал я ему.
– Когда в России двое выполняют этот ритуал, – сказал я Мари, – это приносит им счастье.
Мы еще долго гуляли по пляжу, пили кофе в еще одном маленьком ресторанчике, танцевали на открытой террасе под музыку греческого джаза. Было много танцующих, но мне казалось, что музыка играла только для нас. Впервые за много лет у меня было спокойно и легко на душе.
Потом мы вернулись на пляж и расположились на скалах. Никто не произносил ни слова. Я заглянул в лицо Мари. Наши взгляды встретились, и ее голубые глаза стали совсем темными. Я обнял ее и поцеловал.
37. ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ПРОЦЕСС
Советские газеты так мало сообщали о том, что действительно происходило дома, что первая половина зловещего 1936 года прошла для нас почти в идиллическом спокойствии. Я убеждал себя, что жизнь в Советском Союзе, видимо, приходит в норму. Конечно, потребуется время, чтобы залечить старые раны и забыть горькую нужду первой пятилетки. И все-таки я себя сознательно обманывал, умышленно не вспоминая того, что мне довелось увидеть. Я просто бежал от своих собственных мыслей.
Но однажды в августе гром грянул среди ясного неба. Сначала московское радио, а потом и газеты сообщили о том, что через пять дней начнется судебный процесс над Зиновьевым, Каменевым и еще четырнадцатью членами «антисоветского террористического центра». Два бывших партийных лидера, на основе теории «моральной ответственности» за убийство Кирова, уже были осуждены на десять лет каждый, тысячи их сторонников были или брошены в тюрьмы или депортированы. Казалось, что этих жертвоприношений на тризну по Кирову было достаточно. Как и многие мои товарищи, я был потрясен этой злонамеренной затеей до глубины души. Но Сталину этого было мало. Он снова вытаскивал на свет труп несчастного Кирова и использовал его, чтобы избавиться от своих уже поверженных и раскаявшихся критиков и противников. Тональность статей в «Правде» не оставляла сомнений в исходе процесса. Каждая строка указывала на смертный приговор, но мы в миссии просто не могли в это поверить. Кобецкий, в прошлом секретарь Зиновьева, старел у нас на глазах. Этот обычно разговорчивый человек хранил глухое молчание, проводя целые дни в своем кабинете, где он часами слушал радио и беспрерывно курил. Во время процесса эмоциональная атмосфера в миссии напоминала дурной сон. Мы избегали говорить о том, что казалось сплошным безумием, каким-то диким вывихом со всех возможных точек зрения.
Читая сообщения в газетах, мы не верили своим глазам, что Зиновьев, Каменев, Смирнов и другие публично признали себя виновными в чудовищных и совершенно очевидно невозможных преступлениях. Их «признания» были полны нелепостей и противоречий и состояли исключительно из общих заявлений и намерений. Не было никаких ссылок на конкретные действия или документы. Ни один человек, знакомый с фактами и методами «юстиции», которые уже применялись по делу Кирова, не мог принимать иначе как зловещий трагикомический спектакль бойкие показания обвиняемых о «Ленинградском центре», который готовил убийство Сталина и свержение советской власти с помощью иностранных держав. Это стало особенно отвратительным, когда на мгновение трагическая правда прорвалась через этот бесстыдный спектакль.
Смирнов неожиданно отступил от заготовленной ему роли и на вопрос прокурора: «Когда вы вышли из состава центра?» – неожиданно ответил: «Я никогда и не собирался выходить из состава центра потому, что неоткуда было выходить».
Вышинский с удивлением и нажимом: «Разве центр не существовал?»
Смирнов устало: «О чем вы говорите?»
Но такие человеческие проблески были крайне редки. Кошмар возобновлялся, и этот полунасмешливый и полубезумный диалог продолжался.
Для нас, старых членов партии, эти процессы представлялись сплошной выдумкой. Не могло быть и речи о том, чтобы верить этим признаниям. Мы знали этих людей, мы работали с ними со времен революции и Гражданской войны. Мы также знали, что в советских условиях то, в чем они признавались, было невозможно. Но нам от этого было не легче. Основную аудиторию составляло новое поколение, которое не знало своего прошлого. Им надо было просто верить, и у них не было никакой другой информации, кроме собственных признаний обвиняемых и сыпавшихся на них со всех сторон разоблачений и проклятий. Никаких критических статей в газетах или журналах, никаких публичных дискуссий или частных бесед – только шепотом за закрытыми дверьми. Нам, кто жил при советской системе, было ясно, что молодое поколение в целом поверит этим чудовищным выдумкам.
Но нам казалось невозможным, чтобы внешний мир принял это чудовищное действо всерьез. Мы полагали, что в мире есть немало зрелых людей, проницательных политиков и журналистов, которые смогут отличить факты от вымысла. Но мы ошибались. С помощью «либеральных» журналистов и «попутчиков», которые сами хотели быть обманутыми, Сталин сумел убедить остальной мир в том, что его война на уничтожение со своими соперниками за власть есть «защита социалистического отечества» от невиданного нашествия полчищ мерзких предателей. «Загадка московского процесса» объяснялась ими с циничной простотой: Троцкий в своей отчаянной борьбе за власть вступил в сговор с нацистами, фашистами и японскими милитаристами для того, чтобы свергнуть режим Сталина. Новый друг демократий, Сталин, вовремя вскрыл этот заговор и заслуживает благодарности за своевременный срыв «зловещих» планов Троцкого.
Во время «процесса шестнадцати», когда я читал сообщения телеграфных агентств и слушал радиопередачи, в моем сознании навязчиво пульсировал один-единственный вопрос. Для нас не было вопроса в том, верить или не верить признаниям. Мы знали, что они были продиктованы Сталиным и ОГПУ. Но в то время мы не знали и не могли понять цели этой чудовищной затеи. Для чего Сталин поднимал этот ураган страха и ненависти, деморализуя советскую систему и нанося ущерб ее престижу в глазах международного сообщества?
Мы все думали, что невероятная бездна самоуничижения, в которую низвергли себя шестнадцать обвиняемых, по крайней мере спасет их от расстрела. В конце концов, разве они не были друзьями Ленина и товарищами Сталина? Нельзя же расправиться с ними как с «бешеными псами».
Я перебирал в уме различные прецеденты. После революции крупные судебные процессы почти никогда не оканчивались расстрелами. В первые годы многие антибольшевистски настроенные социалисты просто изгонялись из страны. Суд над эсерами в 1922 году завершился только условными смертными приговорами, хотя обвиняемые фактически боролись с советской властью с оружием в руках и организовали покушение на жизнь Ленина. Из обвиняемых, проходивших по «шахтинскому делу», лишь несколько были приговорены к смерти, остальные получили непродолжительные сроки, и скоро им было разрешено работать на промышленных предприятиях Сибири. Обвиняемые по делу Рамзина, которые признались в подготовке вооруженной иностранной интервенции в сговоре с французским генштабом, после отбывания непродолжительного заключения были помилованы и восстановлены в прежних должностях. На следующем процессе меньшевиков обвиняемые, обвинявшиеся в аналогичных преступлениях, были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Судебный процесс над Торнтоном и другими английскими инженерами в 1933 году – я был на этом процессе – закончился умеренными приговорами. Нет, до сих пор Сталин никогда не проливал кровь своих бывших товарищей, с которыми он работал не один год и которые принадлежали к старшему поколению лидеров Октябрьской революции. Было просто невозможно предположить, что этот процесс будет иметь какой-то другой исход.
Эта надежда подогревалась поступившими сообщениями о восстановлении накануне процесса института помилования, отмененного после убийства Кирова. Это, совершенно очевидно, было сделано в интересах Зиновьева и обвинявшихся вместе с ним товарищей. Никому из нас не пришло в голову, что это была всего лишь приманка, имевшая своей целью склонить обвиняемых к «признанию».
Когда мы получили известие о приговоре и казни, мы все были в состоянии оцепенения. Никто не решался говорить даже шепотом. Не хватало смелости взглянуть друг другу в глаза. Я был потрясен. Я понимал, что это означало конец большевистского периода в истории страны.
Бедный Кобецкий, чьи деловые и дружеские связи с Зиновьевым были нам известны. Он был молчалив и бледен. Он был сломлен. Но ему еще предстояло выполнить свой долг. Он должен был собрать сотрудников, прочесть им сообщение об итогах процесса и предложить им принять резолюцию, одобряющую приговор суда. Он закрылся в своем кабинете, написал выступление и прочел его нам срывающимся голосом. Там были все официально требовавшиеся выражения: «человеческие отбросы», «расстрелять как бешеных собак», «под мудрым руководством любимого вождя», «уничтожить троцкистскую заразу». Читать это для него было пыткой, как и для нас слушать это. Никто не обнаружил своих истинных чувств. Резолюция была принята единодушно без голосования; и каждый из нас остался наедине со своими угрызениями совести.
Через несколько дней в греческих газетах было опубликовано сообщение из Москвы о предстоящем отзыве нескольких скомпрометированных дипломатов: Давтяна, Раскольникова, Кобецкого. Я показал это сообщение Кобецкому. Его лицо стало напряженным, но он ничего не сказал. В тот же день он направил телеграмму Литвинову с требованием опровержения этого сообщения или своего немедленного отзыва. Ответ Литвинова гласил: «Оставайтесь на своем посту и ждите указаний».
Внешне течение нашей жизни восстановилось, но тяжесть, которая давила на наше сознание, не может быть передана словами.
С каждой почтой из Москвы для руководства, секретарей партячейки и библиотекарей стали поступать списки книг, которые должны быть немедленно сожжены. Это были книги, в которых упоминались теоретики марксизма и другие публицисты, которые считались скомпрометированными прошедшим процессом, Поскольку практически перво-, второ– и третьеразрядные фигуры за последние пятнадцать лет уже были изобличены в какой-нибудь ереси, я с изумлением подумал, что у нас останется на полках библиотек! Достаточно было предисловия Бухарина, Радека или Преображенского к любой классической работе – и она летела в печку!
В таком темпе, – подумал я, – мы сожжем больше книг, чем нацисты, и определенно больше марксистской литературы. Что и случилось на самом деле. Огромное число книг было сожжено только потому, что их редактировал недавно изгнанный из страны известный советский библиофил Рязанов, основатель Института Маркса-Ленина. Первое издание сочинений Ленина, вышедшее под редакцией Каменева и содержавшее положительные отзывы о сегодняшних «предателях», было изъято из обращения.
Сталин лично почистил и переиздал единственный том его «сочинений» – компиляция статей и речей – прежние издания были потихоньку изъяты из магазинов и библиотек. Причина этого могла заключаться в том, что в прежних изданиях содержались следующие высказывания:
«Вся практическая организационная работа по подготовке Октябрьского вооруженного восстания проводилась под непосредственным руководством председателя Петроградского совета товарища Троцкого. Мы можем сказать со всей определенностью, что быстрым переходом гарнизона на сторону Советов и хорошей организацией работы Военно-революционного комитета партия обязана прежде всего товарищу Троцкому».
«Товарищ Троцкий утверждает, что в лице Зиновьева и Каменева мы имели дело с правым уклоном… Как же объяснить тогда, что партия смогла избежать раскола?.. Раскола не произошло, и разногласия сохранялись всего лишь несколько дней потому, что Каменев и Зиновьев были большевиками, ленинцами».
«…Бухарин… не нарушил ни одного решения Центрального Комитета. Вы требуете крови Бухарина? Так знайте, что вы ее не получите… Мы против политики ампутаций… Мы за единство… Если мы это начнем, то где это закончится? Сегодня мы отсечем Бухарина, завтра другого, и так, пока партия не будет окончательно уничтожена!»
Но уже никто не был так безрассуден, чтобы вспоминать во время процесса эти высказывания Сталина.
В течение лета мы с Мари совершили много замечательных экскурсий, которые я никогда не забуду. Мы посетили острова Эгейского моря, в том числе Самос, откуда происходила ее семья, – место просто непередаваемой красоты и спокойствия. Но события августа абсолютно выбили меня из колеи. Ни любовь, ни красота греческих пейзажей не могли преодолеть моей депрессии, и мы перестали ездить по античным местам Греции, Иногда мы совершали прогулки по крутым и узким улицам афинских пригородов. Большую часть времени я молчал, и Мари понимала, что творилось у меня в душе. Она тоже переживала напряженный период.
Мы планировали наше общее будущее: она закроет свое бюро в Афинах и поедет со мной в Советский Союз. Мы будем вместе там работать, строить нашу великую страну. Но когда она поделилась своими планами с семьей, это вызвало в ней бурю различных, но больше отрицательных эмоций. Родственники и слышать ничего не хотели о ее возможном браке с русским. Их маленькая хрупкая девочка, которая всегда жила в теплой и солнечной Греции, просто замерзнет в снежной России, где медведи свободно бродят по улицам! Она там будет постоянно болеть! Она погибнет!
Мари не верила в эти ужасные картины и стояла на своем. Она с улыбкой рассказывала об этих страхах в семье и не принимала их всерьез. Но меня беспокоили не столько медведи на улицах, сколько вещи, более опасные для тонких нервов. Я знал, как ей, всегда жившей в достатке и комфорте, будет трудно привыкать к трудностям повседневной жизни в Москве. Ее храбрость и решимость не вызывали у меня сомнения. Я знал, сколько настойчивости и терпения проявила эта молодая гречанка из привилегированных слоев общества, чтобы преодолеть скептицизм профессоров и непонимание своих товарищей и после пяти лет напряженной учебы стать инженером-архитектором. Именно поэтому родственники, зная ее твердый характер, так энергично пытались отговорить Мари от этой новой «эксцентрической затеи». Но больше всего меня беспокоила и печалила перспектива неизбежного разочарования, которое, я знал, ожидало ее в России. Я ведь хотел, чтобы она любила Россию и была там счастлива.
В один из дней после обеда, когда я собирался идти на официальный прием, раздался телефонный звонок. Звонила Мари. Ее голос дрожал от волнения: «Шура, я знаю, ты очень занят, но мне нужно немедленно тебя видеть – на несколько минут».
Я быстро пошел в небольшое кафе около стадиона. Мари уже была там. На лице ее отражалась тревога и смятение.
– Мне нужно было просто увидеть тебя на минуту, – сказала она извиняющимся тоном. – Просто поддержать мою решимость – мне показалось, что она оставляет меня.
В ее борьбе наступил критический момент. Мать со слезами умоляла дочь отказаться от планов поездки в Россию. Скоро из дома уходил сын, и дочь оставалась ее единственной радостью. До сих пор Мари успешно противостояла рациональным аргументам, но этот эмоциональный взрыв был выше ее сил.
Некоторое время мы сидели за столиком молча, держась за руки. И вдруг мне вспомнилась одна надпись, которую мы видели на одном из древних памятников: «Anaskhomen tas kardias!» (Поднимите выше свои сердца!) Мари улыбнулась, и глаза ее посветлели. У нее снова появились силы бороться за наше счастье. Я следил, как она садилась в такси, и испытывал чувство нежности и гордости.
После августовской трагедии наша дипломатическая активность значительно снизилась, а на некоторых направлениях практически прекратилась. Из дома мы не получали ориентировок об общей политической ситуации и сами перестали посылать в Москву информацию о местной ситуации и деятельности правительства. С изумлением я наблюдал, как во время итало-абиссинского конфликта Советский Союз, официально выражая свои симпатии Эфиопии, продолжал поставлять нефть в Италию, никак не объясняя нам свои действия. В Испании началась гражданская война, и на первых порах наше правительство старательно воздерживалось от любых действий, которые могли быть истолкованы как поддержка защитникам республики. И по этому поводу к нам не поступило никаких разъяснений.
Когда, наконец, Сталин решил оказать помощь республиканцам и направил в Испанию посла, несчастного Марселя Розенберга, бывшего поверенного в делах в Париже, я получил телеграмму от Крестинского с назначением меня Генконсулом в Аликанте. Это случилось 3 ноября 1936 года, но спустя несколько дней это назначение было отменено, когда испанское правительство, а с ним и советское посольство переместились в соседнюю Валенсию.
В декабре я решил поехать в Москву в отпуск на автомобиле. В это время года балканские дороги непроходимы, и я планировал ехать через Италию, Австрию, Чехословакию и Польшу с общей протяженностью маршрута около пяти с половиной тысяч километров. Меня уже давно привлекала спортивная сторона такой поездки, так как моя зимняя одиссея из Ленинграда в Москву не излечила меня от этой страсти. И еще мне хотелось занять себя чем-то, что полностью захватило бы и отвлекло от мрачных мыслей.
Кобецкий и другие друзья в миссии как могли старались отговорить меня от этой авантюры, указывали на риск, которому я буду подвергаться особенно в Польше и России. Действительно, пока еще никто не совершал такой поездки зимой. Они предсказывали, что я только разобью вдребезги свою машину и вообще не доберусь до Москвы, затерявшись где-то в снежных заносах. Но эти мрачные прогнозы только разжигали мой спортивный азарт, к тому же мне казалось, чем труднее будет на дороге, тем лучше это будет отвечать моему настроению.
Чтобы успокоить своих друзей, я рассказал им, что советский план строительства дорог предусматривал создание современной автомагистрали от польской границы до Москвы. Строительство этой дороги предполагалось закончить к ноябрю. Сам я не очень в это верил, но аргумент представлялся довольно убедительным. К тому же я сказал им, что в одной из наших миссий по пути прихвачу себе попутчика.
Понимая, что поездка все-таки связана с немалым риском, я не хотел использовать автомобиль, принадлежащий миссии, и за счет тщательной экономии в течение года купил себе новый «форд», который прибыл из Нью-Йорка как раз за несколько дней до намеченного мной отъезда.
Перед отъездом я поехал с Мари к морю. Мы провели вечер в том же самом ресторане, где разбивали бокалы, и снова выпили за наше будущее. У Мари было много планов работы в России, и я обещал ей принять меры к тому, чтобы меня быстрее отозвали домой. Машину я собирался оставить в Москве, и мы уже мечтали, как будем вдвоем ездить по улицам столицы.
Мы бросили последний взгляд на Фалеронский залив, который был так же тих и прекрасен, как в наш первый вечер здесь. Было очень тепло, и я рассказал Мари, как выглядит в это время года заснеженная Россия. Я пообещал ей вернуться в конце января.
На следующее утро я был уже на пути в порт Пирей. По дороге заехал в цветочный магазин и заказал букет роз для Мари, который ей должны были доставить 8 января в честь годовщины нашего знакомства на встрече архитекторов.
Я упоминаю об этом потому, что спустя три года случилось то, что придало этой дате особое для нас значение. В канун Рождества 1939 года, прожив три года как гонимые беженцы в Париже, мы отправились в трансатлантическое плавание из затемненного порта Гавра, чтобы начать в новом мире новую жизнь. Наш пароход «Де Грасс» должен был прибыть в Нью-Йорк через десять дней. Но нам пришлось несколько дней дожидаться конвоя в Саутгемптоне, а потом медленно, зигзагами пересекать Атлантический океан, прячась от вражеских подводных лодок. Плавание продолжалось больше двух недель, и мы оказались в Нью-Йорке в холодный солнечный зимний день 8 января.
Мы шли вдоль Гудзона по западной стороне Манхэттена по улицам, покрытым снегом и слякотью. Проносившиеся такси забрызгивали нас грязью. Нам приходилось пробираться в лабиринте фруктовых ящиков, сложенных штабелями на тротуаре. Было очень грязно и неуютно, со всех сторон нас толкали встречные прохожие, но нам казалось, что мы еще никогда в жизни не видели такого прекрасного города. Мы шли, держась за руки. На душе было легко. Хотелось петь.
Теперь мы каждый год отмечаем этот день как наш двойной День Благодарения. Он соединил нас, он дал нам новую страну и дом.