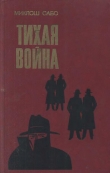Текст книги "Соколы Троцкого"
Автор книги: Александр Бармин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 44 страниц)
Это не была организованная Богема, и не коммерциализованный Монпарнас, созданный продавцами картин и владельцами кафе, вроде «Дома» или «Купола» – этих знаменитых мест обитания богемы, которая в большинстве своем представляла пеструю смесь недовольных иностранцев. Это была настоящая жизнь, где энтузиазм был подлинным и рождал шедевры, а отчаяние столь искренним, что приводило к самоубийству. Еще живы люди, которые хорошо помнят то время. Одним из самых популярных среди поэтических кафе было «Стойло Пегаса». Я помню нарисованного на стене крылатого коня, парящего над головой небритого поэта в крестьянской блузе.
Однажды вечером, когда я возвращался домой после одного такого романтического вечера, сонный портье дал мне пришедшее по почте письмо. Это было событием, потому что я уже давно потерял контакт с матерью, да и с друзьями переписки не вел. Почерк был Ольги Федоровны, моей законной и совершенно нереальной жены, которая теперь жила с матерью в Тамбовской губернии. Я вскрыл письмо, и, должен признаться, сердце мое забилось чаще, чем того требовали обстоятельства нашего чисто формального супружества. Увы, письмо было спокойно-деловым, в нем сквозила мысль о том, что обстоятельства больше не требовали сохранения нашего парадоксального брака и нам следовало бы оформить развод. Я ответил в том же духе. Но так как я жил в столице, а она в провинции и почта работала из рук вон плохо, нам пришлось писать друг другу несколько раз. Ее последующие письма были столь же сдержанно-вежливы, но в одном из них она добавила постскриптум, сообщив, что все еще страдает от малярии. В то время я лечился от этой же болезни в Институте тропической медицины. Доктора обещали мне полное выздоровление в трехмесячный срок. Я с трудом в это верил, и на самом деле этого не произошло, но я написал Ольге Федоровне и предложил ей показаться докторам из этого института. Когда я писал это письмо, меня беспокоила мысль, только ли в этом состоят мотивы моего приглашения Ольги Федоровны. Я в этом не был уверен.
Прошла пара недель, но ответа не было. Однажды вечером я работал дома, готовясь к экзаменам. Мой коллега, с которым мы делили комнату, был болен тифом и лежал в госпитале (несколько дней назад я на руках отнес его вниз и передал «скорой помощи»). Неожиданно в дверь постучали. Вошла разрумянившаяся от мороза Ольга Федоровна, и вместе с ней в комнату вошла, как я неожиданно для себя ощутил, сама радость.
Тем не менее я подумал: зачем она пришла?.. О чем нам надо говорить сначала – о лечении или о разводе? Мы молча смотрели друг на друга и улыбались. Не слишком ли долго мы валяли дурака?
На следующий день я должен был сдавать профессору военной истории генералу Мартынову зачет по русско-японской войне. Мартынов знал, что я владею материалом, и задал мне лишь один-два рутинных вопроса об обороне Порт-Артура.
Порт-Артур?.. Я ничего не мог о нем вспомнить!
Что с вами? – спросил меня старый генерал. – О чем вы думаете?
Мартынов был достаточно снисходителен и дал мне еще пять дней на подготовку. Когда я пришел к нему следующий раз, мои ответы были вполне удовлетворительны. И в тот вечер я пошел со своей женой в «Стойло Пегаса». Кажется, для нас начиналась новая жизнь.
16. НАЧАЛО СОВЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
Примерно в это время К. К. Юренев предложил мне, не прекращая занятий в академии, пойти работать в Народный комиссариат иностранных дел, к Чичерину. Нарком был исключительно энергичным работником, и за ним не могли угнаться полдюжины его секретарей. Поскольку спал он мало и лучше всего ему работалось ночью, под рукой у него круглосуточно должен был быть полный штат секретарей и помощников. Постоянно у него дежурили два секретаря. Я выбрал себе ночную смену.
В то время наркомат уже располагался в том здании на Кузнецком мосту, в котором он находится и сегодня. Начальником секретариата был атлетически сложенный грек с классическими чертами Аполлона по фамилии Кангилари.
Чичерин был таким человеком, манеру работать которого приходилось уважать. Его кабинет был доверху завален книгами, газетами и документами, то же самое творилось на письменном столе. Рядом с письменным столом стоял небольшой столик с бутылкой коньяку и рюмками. Когда к утру Георгий Васильевич чувствовал, что засыпает, он взбадривал себя рюмкой «Мартеля». Соседний кабинет был пуст и сообщался с приемной, в которой располагались секретари. В наши обязанности входило принимать письма, телеграммы, доклады и сортировать их на большом столе. Мы никогда не докладывали о поступившей почте Чичерину. Он сам приходил и брал то, что ему было нужно. Часто он заходил к нам в рубашке с короткими рукавами, с повязанным вокруг шеи большим шелковым шарфом, в шлепанцах с металлическими пряжками. Видимо, удобства ради он никогда не застегивал эти пряжки, и при ходьбе они позвякивали. Первый раз, когда он увидел меня на дежурстве, он ничего не сказал, а только внимательно взглянул на меня поверх очков, взял с моего стола пачку телеграмм и проследовал в свой кабинет, слегка выпятив вперед свою клиновидную бородку.
Ноты, которые рассылал этот министр иностранных дел социалистической республики, вызывали головную боль во всех канцеляриях Европы. Чичерин сам сочинял их с большой тщательностью, полагаясь на свою феноменальную память. В редкие свободные минуты он писал стихи, сочинял музыку к стихам и блестяще играл на фортепиано. Он был старый холостяк и жил в наркоминдельском доме, его хозяйство вела швейцарская пара, с которой он дружил много лет. Он вел очень простой образ жизни, нисколько не заботился о внешней благопристойности, персональных удобствах, будь-то в одежде или в чем-то другом. Но он очень тепло относился к сотрудникам своего аппарата, что временами было и трогательно и комично.
Начальник секретариата, красавец Кангилари, пользовался большим успехом у женщин. К несчастью, его внимание привлекла жена одного из сотрудников секретариата. Однажды этот сотрудник ворвался в кабинет Чичерина и разрыдался у него на плече.
– Кангилари спит с моей женой!
Чичерин был в негодовании. Когда успокоившийся сотрудник ушел, нарком вышел в приемную и, ухватив первого попавшегося ему навстречу человека за лацкан, жалобно воскликнул:
– Этот Кангилари невыносим! Он разрушает семейную жизнь всего моего аппарата!
Несмотря на это преувеличение, он тактично разрешил эту проблему, отправив пострадавшего секретаря с женой за рубеж. Секретарь убыл под руку со своей коварной женой, вполне удовлетворенный такой сатисфакцией.
Любимым временем Чичерина для приема послов была полночь. Германский посол граф Брокдорф-Ранцау, в своем стоячем крахмальном воротничке, придававшем его лицу надменное выражение, мог дожидаться приема в этот немыслимый час вместе с послами балтийских и азиатских стран – крупные западные страны все еще держали нас в карантине, и только эти малые страны имели в Москве своих представителей. Стало настоящим событием, когда мы получили телеграмму за подписью Пуанкаре по вопросу обмена пленными, но еще более важным событием стало приглашение Советской России принять участие в Генуэзской конференции.
Перед утром, между четырьмя и пятью часами, у Чичерина бывали иностранные корреспонденты и другие, симпатизирующие Советской России иностранные гости. Около пяти утра я брал наркомовский «роллс-ройс» и ехал в противоположный конец Москвы за его личной машинисткой. В шесть утра он начинал диктовать ей свою корреспонденцию. Затем письма поступали ко мне на стол. Их надо было зарегистрировать, оригиналы направить адресатам, а копии приобщить к делам.
Иногда Георгий Васильевич выходил ко мне и помогал опечатывать сургучными печатями секретные документы, направляемые Ленину, Троцкому и другим руководителям.
– Осторожно! – бормотал он, прыгая вокруг. – Будьте осторожны, а то прожжете бумагу!
После этих неотложных дел у меня наступало некоторое затишье и я мог заняться чтением самых важных депеш, одни заголовки которых приводили меня в трепет. «Народный комиссар по иностранным делам Председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину…» Именно ради этой информации, которая открывала мне глаза на многое, я держался за эту работу и совмещал ее с учебой в академии.
Я помню одно предложение Чичерина, высказанное в письме к Ленину. Как и Ленин, он не испытывал особых симпатий к Лиге Наций, считая ее лишь слегка закамуфлированной коалицией победителей против побежденных. Он предложил создать, под эгидой Советов, Лигу Народов, где угнетенные и эксплуатируемые народы, национальные меньшинства могли бы быть представлены наравне с ведущими державами. В противовес Лиге Наций, Лига Народов должна была стать центром международной справедливости.
Однажды машинистка Чичерина из-за переутомления допустила ошибку, которая в сегодняшней Москве наверняка была бы расценена как акт саботажа и контрреволюции. Все послания Ленину заканчивались традиционной фразой: «С коммунистическим приветом», но она вместо этого, в полусне, напечатала: «С капиталистическим приветом!»
Я заметил это на копии, когда курьер на велосипеде уже уехал. Я позвонил в охрану Кремля и в смятении услышал, что пакет уже доставлен. Я позвонил в секретариат Ленина и узнал, что документы уже у Владимира Ильича на столе и теперь их никто не может тронуть. Что теперь будет из-за этого несчастного «капиталистического привета»? Ничего особенного не случилось, но когда я показал несчастной машинистке копию, она (машинистка) позеленела, а Георгий Васильевич лишь усмехнулся в свою бородку: это не скомпрометирует революцию. В то время никому не пришло бы в голову усмотреть в этом саботаж или контрреволюцию.
Почти все, кто работал с Чичериным, теперь исчезли. Кто расстрелян, а кто заключен в тюрьму. Я вспоминаю их имена и чувствую себя так, как будто переношусь в мир духов.
Вот, например, Фехнер, молодой сотрудник, с приятными манерами и быстрым умом, который после пятнадцати лет безупречной службы стал поверенным в делах в Литве. Мы всегда считали его большим ребенком, но это не помешало в 1937 году арестовать его, обвинить в чудовищных преступлениях и заключить в тюрьму. Вспоминается много других имен: Цукерман, очень методичный работник, преданный коммунист, который впоследствии возглавил отдел стран Ближнего Востока, – расстрелян без суда 16 декабря 1937 года; Сандомирский, в прошлом анархист, при царизме был на каторге за революционную агитацию, возглавлял отдел Балканских стран – в 1935 году был сослан в Сибирь, а потом расстрелян; Ганецкий, ветеран социал-демократического движения, одно время заместитель наркома по иностранным делам, был отправлен в какую-то контору, ведавшую цирками и мюзик-холлами, – в 1937 году арестован.
Большинство секретарей Литвинова постигла та же участь. За небольшим исключением все они сгинули в тюрьмах и подвалах ОГПУ. Один из его любимцев, Дивильковский, избежал этой участи лишь только потому, что за год или два до чисток погиб в автомобильной катастрофе. Другая его любимица, его личный секретарь, Елена Крыленко, сестра наркома юстиции, тоже избежала этой участи, но по более счастливой причине. Она была замужем за Максом Истманом и, когда тот опубликовал свою историческую книгу «После смерти Ленина», в которой дал провидческий анализ грядущей диктатуры, раскрыл перед общественностью существование сенсационного «Завещания» Ленина, уже работала секретарем советского посольства в Париже. Когда ей неожиданно предложили вернуться в Москву, она предусмотрительно отказалась.
Леон Михайлович Карахан, в отличие от Чичерина, появлялся в своем кабинете около одиннадцати утра, чисто выбритый, безукоризненно одетый, в перчатках и отполированных очках, похожий в своем безупречно сидящем костюме на киногероя. Он был обаятельным, раскованным человеком, природа одарила его изысканной восточной красотой, на его бледном лице выигрышно выделялась заостренная бородка. У него был профиль такой чистоты, какой можно увидеть только на старых монетах, он отлично умел держать себя, обладал веселым характером и даром убеждать людей. Прирожденный оптимист, очень работоспособный человек, непринужденный в отношении с окружающими, он всегда был готов помочь своим молодым коллегам. Словом, самой природой он был создан для блестящей дипломатической карьеры, и никто не мог сравниться с ним в способности быть наставником молодых дипломатических работников.
Начав свою карьеру на переговорах в Брест-Литовске, он затем направляется советским представителем в Пекин для восстановления дипломатических отношений с Китаем. Потом он был послом в Турции, аккредитованным при правительстве Мустафы Кемаля (Ататюрка). Его подпись есть на многих договорах. Неизвестно, за что его расстреляли. Это было сделано тайно, и его имя постарались очернить уже на последующем процессе «двадцати одного». Карахан очень нравился женщинам, и, я подозреваю, в связи с этим он мог как-то неудачно попасться на глаза диктатору, который никогда не прощает проявленного к нему пренебрежения. Я не могу отделаться от мысли, что повод был мелочным, хотя могли быть и другие причины, и главная из них – его высокий личный авторитет. Он был женат на приме-балерине Большого театра Марине Семеновой. Перед казнью мужа ей дали возможность оформить развод и вернуть свою девичью фамилию. И она продолжает танцевать, услаждая взор палачей, которые послали на смерть ее мужа.
Во время Генуэзской конференции я познакомился с Христианом Раковским, занимавшим в то время пост заместителя наркома. Он был в расцвете сил, всегда улыбался и всегда был в курсе всех заслуживающих внимания дел. Я также познакомился с заместителем Председателя Совнаркома Армении Бекзадяном, который также сопровождал Чичерина на Генуэзскую конференцию. Это был уже упоминавшийся мной будущий советский посол А. А. Бекзадян, который исчез из Будапешта в конце 1937 года.
Перспектива поездки на Генуэзскую конференцию привела всех молодых сотрудников секретариата, мужчин и женщин, в состояние сильного возбуждения. Все хотели туда поехать, и Георгий Васильевич, доведенный до исступления этими многочисленными просьбами, как-то ворвался в мою комнату и приказал:
– Немедленно оповестите всех, что я запрещаю упоминать Генуэзскую конференцию!
Я решил подойти к этой вспышке темперамента своего шефа с юмором, но как солдат я привык выполнять приказы. Заранее предвкушая удивление своих коллег, я приколол на доске следующее объявление:
«Народный комиссар распорядился не заводить с ним разговор о Генуэзской конференции».
– О-о! – сказал Карахан с улыбкой, увидев объявление. – Это намного облегчит мою работу.
Чичерин несколько секунд разглядывал объявление и оставил его висеть на том же месте еще несколько дней. Но один английский журналист принял эту шутку всерьез и сообщил об этом в свою газету как о признаке того, что в обстановке всеобщего возбуждения, вызванного перспективой примирения Советской России с капиталистическими странами, народного комиссара буквально осаждали важные государственные деятели.
С приближением лета моя нагрузка в академии настолько возросла, что я вынужден был оставить свою работу в Наркоминделе, но в течение следующего года я периодически бывал у Чичерина по различным вопросам. Последний раз я видел его на XIV съезде партии в Кремле в 1925 году. Он широко улыбался, только что его избрали в состав ЦК партии. Возможно, это было последней радостью в его жизни. Группировка Литвинова вела жесткую борьбу за контроль над комиссариатом, стараясь свести на нет любые решения, принимавшиеся Чичериным. Наконец Чичерин открыто заявил о невозможности работать с Литвиновым и на заседании ЦК назвал его своим «антиподом». В это время Георгий Васильевич был уже очень болен и уехал лечиться в Висбаден, где у него появилось большое искушение остаться там навсегда. Потребовались длительные и деликатные переговоры, чтобы убедить его возвратиться в Москву, где официально он все еще занимал пост наркома по иностранным делам.
В Висбаден поехал Карахан и уговорил Чичерина вернуться, но его возвратили в Москву лишь для того, чтобы заменить на посту без скандала. Его место занял Литвинов. Чичерин же тихо исчез с политической сцены и был забыт еще до своей кончины. Но забвение было лишь одной из несправедливостей, выпавших на его долю. Министр иностранных дел был обречен жить в нищете, в тесной квартирке без отопления, испытывая нужду в повседневных продуктах, пока наконец не вмешался ЦК партии и исправил положение. Свои последние годы он провел в полном одиночестве, практически инкогнито, занимая скромную квартирку в одном из арбатских переулков. Он ни с кем не встречался, кроме двух своих бывших секретарей. Когда он умер, его не стали хоронить в Кремлевской стене, и он покоится на Новодевичьем кладбище.
Работая в секретариате Чичерина, я часто встречал Литвинова, являвшегося вторым заместителем наркома. Полный, внушительный, он обычно был серьезен, однако мог быть и приятным собеседником. За столом он был непринужден и весел, очень любил танцевать и оставался хорошим танцором, даже когда ему было уже далеко за шестьдесят.
Не особенно щепетильный в личных отношениях, он был очень требователен в работе и обладал особым талантом втираться в доверие верхов. За несколько лет он сумел оттеснить Чичерина, который не был обидчив и думал только о деле.
Литвинов, урожденный Мейер Баллах, рано примкнул к революционному движению. В 1901 году он был арестован как член подпольного социалистического кружка за хранение оружия и типографского оборудования и осужден на пять лет ссылки в Сибирь, но ему удалось бежать из киевской тюрьмы. В революции 1905 года партия поручала ему ответственные задания по доставке в Россию оружия и пропагандистской литературы. В 1907 году большевистские экспроприаторы» на Кавказе, в число которых входил Иосиф Сталин, тогда известный как Коба, взорвали экипаж, перевозивший деньги, и Литвинов вывез часть этих денег для обмена в Европе. По ориентировке царской охранки он был арестован французской полицией, которая нашла у него банкноты, добытые в ходе ограбления. Он был выдворен из Франции и уехал в Англию.
После революции он вернулся в Россию и в 1918 году был назначен полпредом в Великобритании, но его миссия потерпела фиаско – Британия начала проводить политику бойкота, и ему пришлось вернуться в Москву. Позже именно Литвинову выпала миссия реабилитировать Россию в глазах мирового общественного мнения. Венцом его карьеры можно считать день в Женеве, когда он, в сопровождении своей свиты, под аплодисменты присутствующих делегатов вошел в зал заседаний Лиги Наций, и это означало, что большевизм стал «респектабельным» и Россия присоединяется к версальской политике западных держав.
Эти годы он жил в постоянной опасности, необъяснимо выживая тогда, когда гибли все его друзья и сотрудники. Он все еще был нужен Сталину. Литвинов, как хороший картежник, всегда умудрялся сохранять некий ореол таинственности. В своих заграничных поездках после чистки он загадочно улыбался, и продолжал улыбаться даже тогда, когда его детям запретили сопровождать его, даже когда его жене запретили жить в Москве и отправили ее жить на Урал.
Уж так случилось, что первыми расстреливали лидеров партии. Это понятно, Сталин начинал с мыслителей. Затем пришла очередь генералов, маршалов, руководителей промышленности и, примерно в это же время, дипломатов. Двое из четырех заместителей Литвинова были расстреляны, третий оказался в тюрьме, а четвертый просто исчез. Его старые друзья и личные протеже, послы Юренев и Розенберг, тоже исчезли. Почти все руководители департаментов наркомата и ведущие дипломатические сотрудники за рубежом, которых он подбирал на протяжении пятнадцати лет, были расстреляны. А Литвинов продолжал загадочно улыбаться: «Просто они были предателями, а так все хорошо!» Трудно сказать, объяснялась ли его самоуверенность тем, что он считал себя незаменимым, или же он просто вынужден был делать хорошую мину при плохой игре потому, что его семья была в заложниках.
Пойдя на союз с Гитлером, Сталин тотчас же избавился от своего верного слуги – Максим Литвинов был единственным евреем, за исключением Лазаря Кагановича, который оставался в то время в высшем эшелоне советского правительства.
В последующие два года М. М. Литвинов периодически появлялся на официальных мероприятиях, тщательно выбритый и в безукоризненно отглаженном костюме. По всем внешним признакам он вел нормальную жизнь, но никто не знал, откуда он появлялся, куда исчезал и чем занимался. Он снова появился из своей неизвестности вскоре после нападения Германии на Советский Союз и в радиопередаче на английском языке призвал британцев высадиться на континенте. Потом он принимал участие во встрече Сталина с Гарриманом и Бивербруком. В 1941 году он был извлечен из запасника и назначен послом в Соединенных Штатах Америки.
Что станет с Литвиновым при каком-то новом, непредсказуемом повороте в советской политике? Этого никто не может сказать. Но одно совершенно ясно: ни один политик в сталинской России, кто был допущен к большим секретам, таким секретам, которые не снились даже авторам приключенческих романов, не может считать себя в безопасности, рассчитывать на спокойную отставку в укромном месте. В тоталитарном государстве нет укромных мест для тех, кто служил диктатору и был выброшен им за ненадобностью.
Пока наши дипломаты вели переговоры с европейскими Державами, я проходил полевую подготовку в лагере на Ходынке. Мы проводили занятия по тактике и вели топографическую съемку местности.
Однажды, возвращаясь с полевых занятий на Ходынке, нагруженный картами и топографическими инструментами, я на улице столкнулся с К. К. Юреневым.
– Как раз ты мне и нужен, – заявил он. – Меня только что назначили в Ригу, и я беру тебя с собой. Согласен? Хорошо! Готовься в конце недели к отъезду.
Под напором Юренева обычно все решалось очень быстро. Так было и на этот раз. Я без проволочек был назначен секретарем российской миссии в Латвии и через сорок восемь часов уже сидел в поезде, направлявшемся в Ригу.
Россия медленно оправлялась от ран, но голод еще был обычным явлением, не говоря уже о простой нехватке продовольствия и бедности. Однако стоило нам пересечь границу, как все вокруг радикально изменилось. Если не считать моей поездки в финский город Виипури в 1917 году, я никогда не встречал такой чистоты и ухоженности, какую я увидел в Риге с ее красивыми витринами, аккуратно замощенными улицами и ярко раскрашенными домами. В здании миссии были зеркала и дорогая мебель – традиционные атрибуты буржуазного образа жизни. В первое же утро нам принесли такой завтрак, о котором я не мог даже мечтать. Здесь я впервые попробовал кофе со сливками, роскошь, которую я воспринял со смешанным чувством тревоги и печали.
Несколько дней спустя я пошел прогуляться в городском саду, в петлице моего костюма был советский значок. Ко мне подошел белогвардейский офицер и потребовал его снять. После обмена «любезностями», в ходе которых он узнал, что у меня был дипломатический паспорт, он отвязался от меня, но Юренев, которому я рассказал об этом инциденте, сказал мне:
– Лучше вам снять этот значок. Если вам сломают шею, то никакие мои усилия не смогут вернуть вас к жизни. Я также при всем желании не смогу сделать из этого казус белли, хотя мы и окажемся в очень неловком положении.
Я запротестовал, но в конце концов вынужден был подчиниться приказу. Так действительно было спокойней.
Наше правительство решило создать небольшой дом отдыха для ответственных советских работников в районе Майоренхофа, довольно близко к Риге, но все-таки на советской территории. Латвийская полиция во все глаза следила за этим домом отдыха, где советские комиссары, журналисты и члены ЦК проводили свои вечера с пением революционных песен. Как все полицейские мира, они были немного помешаны на заговорах и сумели убедить себя, что это пение было очень опасным признаком, и нашу миссию постоянно засыпали вопросами по этому поводу.
В Майоренхофе я встречал М. М. Литвинова, который привозил туда свою семью из Лондона; редактора газеты «Известия» и будущего биографа Бакунина, Ю. М. Стеклова (интересно, что с ним сейчас стало?); одного из меньшевистских лидеров Петроградского Совета в 1917 году, историка Н. Н. Суханова, который в 1931 году был осужден на десять лет; снова здесь я встретился с Файзуллой Ходжаевым, которого в последний раз видел в тюрбане и шелковом халате. Вместе со мной он совершил поездку на Рижское взморье. На этот раз он был одет в кожаный реглан и фетровую шляпу, цвет его лица был желтее обычного. Помню, тогда голова его была занята проектами реформ в Центральной Азии.
Я возвратился в Москву накануне IV конгресса Коммунистического Интернационала в дипломатическом вагоне, сопровождая нескольких иностранных делегатов – Клару Цеткин, уже пожилую, но полную боевого задора революционерку; чеха Богумила Смерала, толстого человека в очках, возможно, самого большого оппортуниста из всех существовавших в коммунистической среде в то время; поляка Генрика Валецкого и венгерского профессора Евгения Варгу. Наконец, среди них был Борис Суварин, который представлял Французскую коммунистическую партию.
Двое из этих делегатов вели себя особенно возмутительно, демонстрируя полное непонимание обстановки. Варга и Валецкий требовали отдельных купе, хотя было вполне очевидно, что вагон был так переполнен, что я при всем желании не мог им этого предоставить. Я не мог отдать и мое купе, так как в нем скрывался нелегал, которого в Риге приговорили к смертной казни. В этом споре меня полностью поддерживал Суварин, хотя Два члена Исполкома Коминтерна угрожали по приезде в Москву заявить формальный протест (это они и сделали). По моему же разумению, такой старый революционер как Валецкий, конечно, мог бы удовольствоваться плацкартным местом в вагоне первого класса, то же самое мог бы сделать и бывший член советского правительства Венгрии – Варга. Но, видимо, та мелочная роскошь, которую дает власть, ударяет людям в голову, и они перестают что-либо соображать.
Мы подружились с Борисом Сувариным. В то время он был членом Исполкома Коминтерна, и я несколько раз навещал его в скромном номере отеля «Люкс», который служил штаб-квартирой делегатам Коминтерна.
Я хочу воспользоваться возможностью и отдать дань памяти Ромуальду Адамовичу Муклевичу, который был одним из наших замечательных солдат и которого, конечно, уже нет в живых. Крепкий, тучный, этот круглолицый старый большевик обладал удивительным спокойствием и в то же время уверенностью прирожденного лидера. Одно время он, простой матрос, как Дыбенко, был командующим Красным Флотом и заместителем наркома обороны, потом возглавлял Наркоматы военной промышленности и судостроения и неожиданно исчез в 1937 году. Это был такой человек, которого Сталин не мог оставить в живых, даже за решеткой.