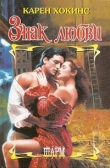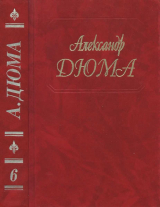
Текст книги "Сорок пять"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
КАЗНА ШИКО
Шико провел ночь, грезя в своем кресле.
Он именно грезил, ибо осаждали его не столько мысли, сколько видения. Возвратиться к прошлому, испытать, как чей-то уловленный тобою взгляд, один-единственный взгляд внезапно озарил целую эпоху жизни, уже почти изгладившуюся из памяти, не значит просто думать о чем-то. В течение всей ночи Шико жил в мире, уже оставленном далеко позади и населенном тенями знаменитых людей и прелестных женщин. Как бы озаренные взором бледной обитательницы таинственного дома, проходили они перед ним одна за другой, и за ними тянулась целая цепь воспоминаний – радостных или ужасных.
Шико, так сетовавший, возвращаясь из Лувра, что ему не придется поспать, теперь и не подумал лечь. Когда же рассвет заглянул к нему в окно, он сказал себе: “Время призраков прошло, пора подумать и о живых”.
Он встал, перепоясался длинной шпагой, набросил на плечи темно-красный плащ из такой плотной шерсти, что его не промочил бы даже сильный ливень, и со стоической твердостью мудреца обследовал свою казну и подошвы своих башмаков. Последние показались Шико вполне достойными начать путешествие. Что касается казны, то ей следовало уделить особое внимание. Поэтому в развитии нашего повествования мы сделаем паузу и расскажем читателю о казне Шико.
Обладавший, как всем известно, изобретательностью и богатым воображением, Шико выдолбил часть главной балки, проходившей из конца в конец через весь его дом: балка эта содействовала и украшению жилища, ибо была пестро раскрашена, и его прочности, ибо имела не менее восемнадцати дюймов в диаметре.
Выдолбив эту балку на полтора фута в длину и на шесть дюймов в ширину, он устроил в ней казнохранилище, содержавшее тысячу золотых экю.
Вот какой расчет произвел при этом Шико.
“Я трачу ежедневно, – сказал он себе, – двадцатую часть одного из этих экю: значит, денег у меня хватит на двадцать тысяч дней. Столько я, конечно, не проживу, но половину прожить могу. Надо, однако, учесть, что к старости и потребности и, следовательно, расходы у меня увеличатся, ибо недостаток жизненных сил придется восполнять жизненными удобствами. В общем, здесь на двадцать пять – тридцать лет жизни, этого, слава Богу, вполне достаточно!”
Произведя вместе с Шико этот расчет, мы убедимся, что он был одним из состоятельнейших рантье Парижа. Уверенность в будущем наполняла его некоторой гордостью.
Шико вовсе не был скуп, долгое время он даже отличался мотовством, но к нищете испытывал отвращение, ибо знал, что она свинцовой тяжестью давит на плечи и сгибает даже самых сильных.
И потому, заглянув в это утро в свое казнохранилище, чтобы произвести расчеты с самим собою, он подумал: “Черти полосатые! Время сейчас суровое и не располагает к щедрости. С Генрихом мне стесняться не приходится. Даже эта тысяча экю досталась мне не от него, а от одного моего дядюшки, который обещал оставить в шесть раз больше: правда, дядюшка этот был холостяк. Если бы сейчас была еще ночь, я пошел бы к королю и выудил бы у него сотню луидоров. Но уже рассвело, и я вынужден рассчитывать только на себя… и на Горанфло”.
При мысли о том, чтобы выудить деньги у Горанфло, достойный друг приора улыбнулся.
“Красиво было бы, – продолжал он размышлять, – если бы мэтр Горанфло, обязанный мне своим благополучием, отказал в ста луидорах приятелю, уезжающему по делам короля, который ему, Горанфло, дал аббатство святого Иакова. Ах, – продолжал он, – Горанфло теперь изменился. Да, но Робер Брике – по-прежнему Шико. Однако ведь я еще под покровом ночи должен был явиться за письмом короля – знаменитым письмом, от которого при Наваррском дворе должен вспыхнуть пожар. А сейчас уже рассвело. Что ж, я придумал, каким способом получу его, и при этом смогу нанести мощный удар по голове Горанфло, если он окажется чересчур непонятливым. Итак – вперед!”
Шико положил на место доску, прикрывавшую его тайник, прибил ее четырьмя гвоздями и сверху закрыл плитой, засыпав ее пылью, чтобы заполнить пазы. Уже собираясь уходить, он еще раз оглядел комнату, в которой прожил уже много счастливых дней, ни для кого недостижимый, скрытый так же верно, как сердце в человеческой груди.
Затем он окинул взглядом дом напротив.
“Впрочем, – подумал он, – эти черти Жуаезы способны в одну прекрасную ночь пожечь мой особнячок, чтобы хоть на мгновение привлечь к окну незримую даму. Эге! Но если они сожгут дом, то моя тысяча экю превратится в золотой слиток! Наверное, благоразумнее всего было бы зарыть деньги в землю. Да не стоит: если господа Жуаезы сожгут дом, король возместит мне убытки”.
Успокоенный этими соображениями, Шико запер дверь комнаты, забрав с собой ключ. Выйдя за порог и направляясь к берегу, он подумал: “Между прочим, этот Никола Пулен может заявиться сюда, найти мое отсутствие подозрительным и… Да что это сегодня у меня в голове все какие-то заячьи мысли! Вперед! Вперед!”
Когда Шико запирал входную дверь – так же тщательно, как и дверь своей комнаты, – он заметил слугу неизвестной дамы, который, сидя у окна, дышал свежим воздухом; видимо, он рассчитывал, что так рано утром никто его не увидит.
Как мы уже говорили, лицо этого человека было совершенно изуродовано раной, нанесенной ему в левый висок и захватившей также часть щеки. Кроме того, одна бровь, сместившаяся из-за раны, почти совсем скрывала левый глаз, ушедший глубоко в орбиту. Но странная вещь: хотя голова его облысела, а в бороде поблескивали серебряные нити, у него был очень живой взгляд, а другая, неповрежденная щека казалась юношески гладкой.
Увидев Робера Брике, спускавшегося со ступенек крыльца, он набросил на голову капюшон и собрался было отойти от окна, но Шико знаком попросил его остаться.
– Сосед! – крикнул Шико. – Из-за вчерашнего шума мой дом мне просто опротивел. Я на несколько недель еду за город. Не будете ли вы так любезны приглядеть за моим домом?
– Хорошо, сударь, – ответил незнакомец, – охотно это сделаю.
– А если обнаружите каких-нибудь жуликов…
– У меня есть хорошая аркебуза, сударь, будьте покойны.
– Благодарю, сосед. Я хотел бы попросить еще об одной услуге.
– Я вас слушаю.
Шико сделал вид, что измеряет взглядом расстояние, отделяющее его от собеседника.
– Мне не хотелось бы кричать отсюда о подобных вещах, дорогой сосед, – сказал он.
– Тогда я спущусь вниз, – ответил незнакомец.
Он действительно исчез из поля зрения Шико. Тот подошел поближе к дому напротив и услышал за дверью приближающиеся шаги, потом дверь открылась, и Шико очутился лицом к лицу со своим соседом.
На этот раз тот совсем закрыл лицо капюшоном.
– Сегодня утром что-то очень холодно, – заметил он, пытаясь как-то объяснить предпринятую им меру предосторожности.
– Ледяной ветер, сосед, – ответил Шико, стараясь не глядеть на своего собеседника, чтобы не смущать его.
– Я вас слушаю, сударь.
– Так вот, – сказал Шико, – я уезжаю.
– Вы уже изволили мне это сообщить.
– Я помню, помню. Но дома я оставил деньги.
– Напрасно, сударь, напрасно. Возьмите их с собой.
– Ни в коем случае. Человеку недостает легкости и решимости, когда в дороге он пытается спасти не только свою жизнь, но и кошелек. Поэтому я оставил деньги дома. Правда, они хорошо спрятаны, так хорошо, что за них можно опасаться только в случае пожара. Если бы это произошло, прошу вас, как своего соседа, проследить, когда загорится вон та толстая балка: видите, там, справа, конец ее выступает наружу в виде головы дракона. Проследите, прошу вас, и пошарьте в пепле.
– Право же, сударь, – с явным неудовольствием ответил незнакомец, – эта просьба довольно стеснительная. Делать такие признания больше подобает близкому другу, чем человеку вам незнакомому, которого вы и не можете знать.
Произнося эти слова, он пристально вглядывался в лицо Шико, расплывшееся в приторно-любезной улыбке.
– Что правда, то правда, – ответил тот, – я вас не знаю, но я очень доверяюсь впечатлению, которое на меня производят лица, а у вас, по-моему, лицо честного человека.
– Однако же, сударь, поймите, какую вы возлагаете на меня ответственность. Ведь вполне возможно, что вся эта музыка, которой нас угощали, надоест моей госпоже, как она надоела вам, и тогда мы отсюда переедем.
– Ну что ж, – ответил Шико, – тогда ничего уж не поделаешь, и я не стану с вас спрашивать, сосед.
– Спасибо за доверие, проявленное к незнакомому вам бедняку, – сказал с поклоном слуга. – Постараюсь оправдать его.
И, попрощавшись с Шико, он направился к себе.
Шико, со своей стороны, любезно раскланялся. Когда дверь за незнакомцем закрылась, он прошептал ему вслед:
– Бедный молодой человек! Вот кто настоящий призрак. А ведь я видел его таким веселым, жизнерадостным, красивым!
XIXАББАТСТВО СВЯТОГО ИАКОВА
Аббатство, которое король отдал Горанфло в награду за его верную службу, и в особенности за его блестящее красноречие, расположено было за Сент-Антуанскими воротами, на расстоянии около двух мушкетных выстрелов от них.
В те времена часть города, примыкающая к Сент-Антуанским воротам, усиленно посещалась знатью, ибо король часто ездил в Венсенский замок, тогда еще называвшийся Венсенским лесом.
Вдоль дороги в Венсен многие вельможи построили себе небольшие особняки с прелестными садиками и великолепными дворами, являвшиеся как бы пристройками к королевскому замку; в этих домиках часто происходили свидания, но осмелимся утверждать: несмотря на то, что в те времена даже любой буржуа с увлечением вмешивался в дела государства, на этих свиданиях никаких политических разговоров не велось.
По этой дороге туда-сюда вечно сновали придворные, поэтому можно считать, что она до известной степени соответствовала тому, чем в настоящее время являются Елисейские поля.
Согласитесь, что аббатство, гордо возвышавшееся справа от дороги, было отлично расположено. Оно состояло из четырехугольного строения, окаймлявшего огромный, обсаженный деревьями двор, сада с огородом позади, жилых домов и значительного количества служебных построек, придававших монастырю вид небольшого селения.
Двести монахов ордена св. Иакова проживали в кельях, расположенных в глубине двора, параллельно дороге. Со стороны фасада четыре больших окна, выходивших на широкий и длинный балкон с железными перилами, давали воздуху, свету, веяньям внешней жизни доступ во внутренние помещения аббатства. Подобно крепости под угрозой осады, оно обеспечивалось всем необходимым с приписанных к нему земель и угодий в Шаронне, Монтрейле и Сен-Манде. Там, на пастбищах, находило обильный корм стадо, неизменно состоявшее из пятидесяти быков и девяноста девяти баранов: монашеские ордена то ли по традиции, то ли по писаному канону не могли иметь никакой собственности, исчисляющейся ровными сотнями.
В особом строении, настоящем дворце, помещалось девяносто девять свиней, которых с любовным и – в особенности – самолюбивым рвением пестовал колбасник, выбранный самим доном Модестом. Этим почетным назначением колбасник был обязан превосходнейшим сосискам, фаршированным свиными ушами, и колбасам с луком, которые он некогда поставлял в гостиницу “Рог изобилия”.
Дон Модест, благодарный за трапезы, которые он в свое время вкушал у мэтра Бономе, расплачивался таким образом за долги брата Горанфло.
О кухнях и погребе нечего даже и говорить.
Фруктовый сад аббатства, выходивший на юго-восток, давал несравненные персики, абрикосы и виноград; кроме того, из этих плодов вырабатывались консервы и сухое варенье неким братом Эзебом, творцом знаменитой скалы из засахаренных фруктов, поднесенной обеим королевам Парижским городским управлением во время последнего официального банкета.
Что касается винного погреба, то Горанфло сам наполнил его, опустошив для этого все погреба Бургони. Ибо он обладал вкусом подлинного знатока, а знатоки вообще утверждают, что единственное настоящее вино – это бургундское.
В этом-то аббатстве, истинном раю тунеядцев и обжор, в роскошных апартаментах второго этажа с балконом, выходившим на большую дорогу, мы вновь встретимся с Горанфло, украшенным теперь вторым подбородком и облеченным достопочтенной важностью, которую привычка к покою и благоденствию придает даже самым заурядным лицам.
В своей белоснежной рясе, в черной накидке, согревающей его мощные плечи, Горанфло был не так подвижен, как в серой рясе простого монаха, но зато более величав. Ладонь его, широкая, словно баранья лопатка, покоится на томе in-quarto[7]7
В четвертую долю листа (лит.).
[Закрыть], совершенно исчезнувшем под нею; две толстые ноги, упершиеся в грелку, вот-вот раздавят ее, а руки теперь уже недостаточно длинны, чтобы сойтись на животе.
Утро. Только что пробило половину восьмого. Настоятель встал последним, воспользовавшись правилом, по которому начальник может спать на час больше других монахов. Но он продолжает дремать в глубоком покойном кресле, мягком, словно перина.
Обстановка комнаты, где отдыхает достойный аббат, напоминает обиталище скорее богатого мирянина, чем духовного лица. Стол с изогнутыми ножками, покрытый богатой скатертью; картины на сюжеты религиозные, но с несколько эротическим привкусом, – странное смешение, которое мы находим лишь в искусстве этой эпохи; на полках – драгоценные сосуды для богослужения или для стола; на окнах – пышные занавески венецианской парчи, несмотря на некоторую ветхость свою, более великолепные, чем самые дорогие из новых тканей. Вот некоторые подробности той роскоши, обладателем которой дон Модест Горанфло сделался милостью Бога, короля и, в особенности, Шико.
Итак, настоятель дремал в своем кресле, и в солнечном свете, проникшем к нему, как обычно, отливали серебристым сиянием алые и перламутровые краски на лице спящего.
Дверь комнаты потихоньку отворилась. Не разбудив настоятеля, вошли два монаха.
Первый был лет тридцати пяти, худой, бледный, все мускулы его были нервно напряжены. Голову он держал прямо. Не успевал он еще произнести слова, а соколиные глаза уже метали стрелу повелительного взгляда, который, впрочем, смягчался от движения длинных светлых ресниц: когда они опускались, отчетливей выступали темные круги под глазами. Но когда, наоборот, между густыми бровями и темной каймой глазных впадин сверкал черный зрачок, казалось – это блеск молнии в разрыве двух медных туч. Монаха этого звали брат Борроме. Он уже в течение трех недель был казначеем монастыря.
Второй был юноша лет семнадцати-восемнадцати, с живыми черными глазами, заостренным подбородком, смелым выражением лица. Роста он был небольшого, но хорошо сложен. Задирая широкие рукава, он словно с гордостью выставлял напоказ сильные, подвижные руки.
– Настоятель еще спит, брат Борроме, – сказал молоденький монах, – разбудим его или нет?
– Ни в коем случае, брат Жак, – ответил казначей.
– По правде сказать, жаль, что наш аббат так любит поспать, – продолжал юный монах, – мы бы уже нынче утром могли испробовать оружие. Заметили вы, какие среди прочего там прекрасные кирасы и аркебузы?
– Тише, брат мой! Вас кто-нибудь услышит.
– Вот ведь беда! – продолжал монашек, топнув ногой по мягкому ковру, приглушившему удар. – Сегодня чудесная погода, двор совсем сухой. Можно было бы отлично провести учения, брат казначей!
– Надо подождать, дитя мое, – произнес брат Борроме с напускным смирением, хотя глаза его горели огнем.
– Но почему вы не прикажете хотя бы раздать оружие? – все так же горячо возразил Жак, заворачивая опустившиеся рукава рясы.
– Приказать? Я?
– Да, вы.
– Я ведь ничем не распоряжаюсь, – продолжал Борроме, приняв сокрушенный вид, – хозяин тут!
– В кресле… спит… когда все бодрствуют, – сказал Жак, и в тоне его звучало скорее раздражение, чем уважение. – Хозяин!..
И его умный, проницательный взгляд, казалось, проникал в самое сердце брата Борроме.
– Надо уважать его сан и его покой, – произнес Борроме, выходя на середину комнаты и сделав при этом такое неловкое движение, что небольшой табурет опрокинулся и упал на пол.
Хотя ковер заглушил стук упавшего табурета, как заглушил он звук удара, когда брат Жак топнул ногой, дон Модест вздрогнул и пробудился.
– Кто тут? – вскричал он дрожащим голосом заснувшего на посту и внезапно разбуженного часового.
– Сеньор аббат, – сказал брат Борроме, – простите, если мы нарушили ваши благочестивые размышления, но я пришел за приказаниями.
– А, доброе утро, брат Борроме, – сказал Горанфло, слегка кивнув головой.
Несколько секунд он молчал, как видно, напрягая все струны своей памяти, затем, поморгав, спросил:
– За какими приказаниями?
– Относительно оружия и доспехов.
– Оружия? Доспехов? – переспросил Горанфло.
– Конечно. Ваша милость велели доставить оружие и доспехи.
– Кому я велел?
– Мне.
– Вам?.. Я велел принести оружие, я?
– Без всякого сомнения, сеньор аббат, – произнес Борроме твердым, ровным голосом.
– Я, – повторил до крайности изумленный дон Модест, – я?! А когда это было?
– Неделю назад.
– А, уже прошла неделя… Но для чего оно, это оружие?
– Вы сказали, сеньор аббат, – я повторяю вам собственные ваши слова, – вы сказали: “Брат Борроме, хорошо бы раздобыть оружие и раздать его всей нашей монашеской братии: гимнастические упражнения развивают телесную силу, как благочестивые увещевания укрепляют силу духа”.
– Я это говорил? – спросил Горанфло.
– Да, достопочтенный аббат. Я же, недостойный, но послушный брат, поторопился исполнить ваше повеление и доставил оружие.
– Странное, однако же, дело, – пробормотал Горанфло, – ничего этого я не помню.
– Вы даже прибавили, достопочтенный настоятель, латинское изречение: “Militat spiritu, militat gladio”[8]8
Воинствует духом, воюет мечом {лат.).
[Закрыть].
– О, – вскричал дон Модест, от изумления выпучив глаза, – я прибавил это изречение?
– У меня память неплохая, достопочтенный аббат, – ответил Борроме, скромно опустив глаза.
– Если я так сказал, – продолжал Горанфло, медленно опуская и поднимая голову, – значит, у меня были на то основания, брат Борроме. И правда, я всегда придерживался мнения, что надо развивать тело. Еще будучи простым монахом, я боролся и словом и мечом: “Militat spiritu…” Отлично, брат Борроме. Как видно, сам Господь меня осенил.
– Так я выполняю ваш приказ до конца, достопочтенный аббат, – сказал Борроме, удаляясь вместе с братом Жаком, который, весь дрожа от радости, тянул его за подол рясы.
– Идите, – величественно произнес Горанфло.
– Ах, сеньор настоятель, – начал снова брат Борроме, возвратясь через несколько секунд после своего ухода. – Я совсем забыл…
– Что?
– В приемной дожидается один из друзей вашего преподобия, он хочет с вами о чем-то поговорить.
– Как его зовут?
– Мэтр Робер Брике.
– Мэтр Робер Брике не друг мне, брат Борроме, он просто знакомый.
– Так что вы, ваше преподобие, его не примете?
– Приму, приму, – рассеянно произнес Горанфло, – этот человек меня развлекает. Пусть он ко мне поднимется.
Брат Борроме еще раз поклонился и вышел.
Что касается брата Жака, то он одним прыжком вылетел из апартаментов настоятеля и очутился в комнате, где сложили оружие.
Через пять минут дверь опять отворилась, и появился Шико.
XXДВА ДРУГА
Дон Модест продолжал сидеть все в той же блаженно расслабленной позе.
Шико прошел через всю комнату и приблизился к нему. Желая дать понять вошедшему, что он его заметил, дон Модест лишь соблаговолил слегка наклонить голову.
Шико, видимо, ни в малейшей степени не удивило безразличие аббата. Остановившись на почтительном расстоянии от Горанфло, он поклонился:
– Здравствуйте, ваше преподобие!
– Ах, вот и вы, – произнес Горанфло, – видимо, воскресли?
– А вы считали меня умершим, ваше преподобие?
– Да ведь вас совсем не было видно.
– Я был занят делами.
– А!
Шико знал, что Горанфло вообще скуп на слова, пока его не разогреют две-три бутылки старого бургундского. Так как час был еще ранний и Горанфло, по всей видимости, еще не закусывал, Шико подвинул к очагу глубокое кресло и молча устроился в нем, положив ноги на каминную решетку и откинувшись всем туловищем на мягкую спинку.
– Вы позавтракаете со мной, господин Брике? – спросил дон Модест.
– Может быть.
– Не взыщите, господин Брике, если я не смогу уделить вам столько времени, сколько хотел бы.
– Э! Да кому, черт побери, нужно ваше время, господин настоятель? Черти полосатые! Я даже не напрашивался к вам на завтрак, вы сами мне предложили.
– Разумеется, господин Брике, – сказал дон Модест с беспокойством, которое объяснялось довольно твердым тоном Шико. – Конечно, я предложил, но…
– Но вы рассчитывали, что я откажусь?
– О нет. Разве свойственна мне привычка лицемерить, скажите, господин Брике?
– Человек, стоящий, подобно вам, выше многих других, может усваивать любые привычки, господин аббат, – ответил Шико, улыбнувшись так, как умел улыбаться только он.
Дон Модест, прищурившись, взглянул на Шико. Насмехался ли Шико или говорил серьезно – разобрать было невозможно.
Шико встал.
– Почему вы встали, господин Брике? – спросил Горанфло.
– Собираюсь уходить.
– А почему вы уходите, вы же сказали, что позавтракаете со мной?
– Прежде всего я не говорил, что буду завтракать.
– Простите, но я вам предложил.
– А я ответил – может быть. Может быть не значит – да.
– Вы сердитесь?
Шико рассмеялся:
– Сержусь? А на что мне сердиться? На то, что вы наглый и грубый невежда? О дорогой сеньор настоятель, я вас слишком давно знаю, чтобы сердиться на ваши мелкие недостатки.
Как громом пораженный этими словами, Горанфло сидел, раскрыв рот и вытянув вперед руки.
– Прощайте, ваше преподобие.
– О, не уходите.
– Я не могу откладывать своей поездки.
– Вы уезжаете?
– Мне дано поручение.
– Кем?
– Королем.
У Горанфло голова пошла кругом.
– Поручение, – вымолвил он, – поручение от короля. Вы, значит, снова с ним виделись?
– Конечно.
– Как же он вас встретил?
– Восторженно. Он-то помнит друзей, хоть он и король.
– Поручение от короля, – пролепетал Горанфло, – а я-то наглец, невежда, грубиян…
Сердце его теперь сжималось, как шар, из которого выходит воздух, когда его колют булавками.
– Прощайте, – повторил Шико.
Горанфло даже привстал с кресла и своей огромной рукой задержал уходящего, который, надо признаться, довольно охотно подчинился насилию.
– Послушайте, давайте объяснимся, – сказал настоятель.
– Насчет чего же?
– Насчет вашей сегодняшней обидчивости.
– Я сегодня такой же, как всегда.
– Нет.
– Я просто отражение людей, с которыми в данный момент нахожусь.
– Нет.
– Вы смеетесь, и я смеюсь; вы дуетесь, и я корчу гримасы.
– Нет, нет, нет!
– Да, да, да!
– Ну хорошо, признаюсь, – я был кое-чем озабочен…
– Вот как!
– Неужели вы не будете снисходительны к человеку, обремененному такими трудными делами? Чем только не занята моя голова! Ведь это аббатство – словно целая область! Подумайте, под моим началом двести душ, я и эконом, и архитектор, и управляющий; ко всему у меня имеются еще и духовные обязанности.
– О, этого и правда слишком много для недостойного служителя Божия!
– Ну вот, теперь вы иронизируете, – сказал Горанфло, – господин Брике, неужто вы утратили христианское милосердие?
– А оно у меня было?
– Сдается мне, что тут не без зависти с вашей стороны; остерегайтесь – зависть великий грех.
– Зависть с моей стороны? А чему мне, скажите, пожалуйста, завидовать?
– Гм, вы думаете: “Настоятель дон Модест Горанфло все время идет вперед, движется по восходящей…”
– …в то время как я двигаюсь по нисходящей, не так ли? – насмешливо спросил Шико.
– Это из-за вашего ложного положения, господин Брике.
– Господин настоятель, а вы помните евангельское изречение?
– Это какое же?
– “Низведу гордых и вознесу смиренных”.
– Подумаешь! – сказал Горанфло.
– Вот тебе на! Он берет под сомнение слово Божие, еретик! – вскричал Шико, воздевая руки к небу.
– Еретик! – повторил Горанфло. – Это гугеноты еретики.
– Ну, значит, схизматик!
– Что вы хотите сказать, господин Брике? Право же, я не знаю что и думать.
– Ничего не хочу сказать. Я уезжаю и пришел с вами попрощаться. А посему прощайте, дон Модест.
– Вы не покинете меня таким образом!
– Покину, черт побери!
– Вы?
– Да, я.
– Мой друг?
– В величии друзей забывают.
– Вы, Шико?
– Я теперь не Шико, вы же сами меня этим только что попрекнули.
– Я? Когда же?
– Когда упомянули о моем ложном положении.
– Попрекнул! Как вы сегодня выражаетесь!
И настоятель опустил огромную голову, так что все три его подбородка, приплюснутые к бычьей шее, слились воедино.
Шико наблюдал за ним краем глаза: Горанфло даже слегка побледнел.
– Прощайте и не взыщите за высказанную вам в лицо правду…
Шико направился к выходу.
– Говорите мне все, что вам заблагорассудится, господин Шико, но не смотрите на меня так!
– Поздно вы спохватились!
– Это никогда не поздно! И, уж во всяком случае, нельзя уходить, не позавтракав, черт возьми! Это нездорово, вы мне сами так говорили раз двадцать! Давайте поедим.
Шико решил одним махом отвоевать все позиции.
– Нет, не хочу! – сказал он. – Здесь уж очень плохо кормят.
Все прочие нападки Горанфло сносил мужественно. Но это его доконало.
– У меня плохо кормят? – пробормотал он в полной растерянности.
– На мой вкус, во всяком случае, – сказал Шико.
– В последний раз, когда вы завтракали, была плохая еда?
– У меня и сейчас противный вкус во рту. Фу!
– Вы сказали “фу”? – вскричал Горанфло, воздевая руки к небу.
– Да, – решительно сказал Брике, – я сказал “фу”!
– Но почему? Скажите же.
– Свиные котлеты гнуснейшим образом подгорели.
– О!
– Фаршированные свиные ушки не хрустели на зубах.
– О!
– Каплун с рисом совершенно не имел аромата.
– Боже праведный!
– Раковый суп был чересчур жирный!
– Милостивое Небо!
– На поверхности плавал жир, он до сих пор стоит у меня в горле.
– Шико, Шико! – вздохнув, сказал дон Модест таким же тоном, каким умирающий Цезарь взывал к своему убийце: “И ты, Брут!”
– Да к тому же у вас нет для меня времени.
– У меня?
– Вы мне сами сказали, что заняты. Говорили вы это, да или нет? Не хватало еще, чтобы вы стали лгуном.
– Это дело можно отложить. Ко мне должна прийти одна просительница.
– Ну, так и принимайте ее.
– Нет, нет, дорогой господин Шико. Хотя она прислала мне сто бутылок сицилийского вина…
– Сто бутылок сицилийского вина?
– Я не приму ее, хотя это, видимо, очень важная дама. Я не приму ее. Я буду принимать только вас, дорогой господин Шико. Она хотела у меня исповедаться, эта знатная особа, которая дарит сицилийское сотнями бутылок. Так вот, если вы потребуете, я откажу ей в моем духовном руководстве. Я велю передать ей, чтобы она искала себе другого духовника.
– Вы это сделаете?
– Только чтобы вы со мной позавтракали, господин Шико, только чтобы я мог загладить свою вину перед вами.
– Вина ваша проистекает из вашей чудовищной гордыни, дон Модест…
– Я смиряюсь душой, друг мой.
– …и вашей беспечной лени.
– Шико, Шико, с завтрашнего же дня я начну умерщвлять свою плоть, заставляя монахов ежедневно производить военные упражнения.
– Монахов? Упражнения? – спросил Шико, вытаращив глаза. – Какие же? С помощью вилки?
– Нет, с настоящим оружием!
– С боевым оружием?
– Да, хотя командовать очень утомительно.
– Вы будете обучать своих монахов военному делу?
– Я, во всяком случае, отдал соответствующие распоряжения.
– С завтрашнего дня?
– Если вы потребуете, то даже с сегодняшнего.
– А кому в голову пришла мысль обучать монахов военному делу?
– Кажется, мне самому, – сказал Горанфло.
– Вам? Это невозможно.
– Это так, я отдал такое распоряжение брату Борроме.
– А что это за брат Борроме?
– Ах, да вы даже его не знаете.
– Кто он такой?
– Казначей.
– Как же у тебя появился казначей, которого я не знаю, ничтожество ты этакое.
– Он попал сюда после вашего последнего посещения.
– А откуда он у тебя взялся, этот казначей?
– Его рекомендовал мне его высокопреосвященство кардинал де Гиз.
– Лично?
– В письме, дорогой Шико, в письме.
– Это не тот похожий на коршуна монах, которого я видел внизу?
– Он самый.
– Который доложил о моем приходе?
– Да.