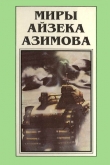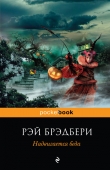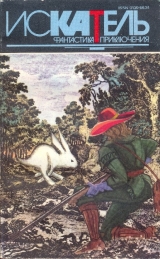
Текст книги "Искатель. 1994. Выпуск №3"
Автор книги: Александр Дюма
Соавторы: Дэн Кордэйл,Вячеслав Дегтев
Жанры:
Боевая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
– Черт возьми! – взревел полковник.
– Что это значит? – спросил я.
– Что мы проведем хорошенькую ночку, – сказал Этцель. – К тому же здесь вовсе не жарко. Вот что, Шервиль, ты как самый молодой и симпатичный пойдешь позовешь трактирщика.
– Зачем?
– Чтобы он дал нам дров. Нельзя все время есть и пить, по греться можно до бесконечности.
Я встал, подошел к двери и позвал хозяина.
По дороге заметил картину, на которую, должен сказать, не обращал до сих пор внимания. Да и сейчас бы не обратил, если бы не обстоятельства. Но когда человек тонет или умирает от скуки, он цепляется за любую соломинку.
Я поднес к ней… – ну что я за фат, чуть было не сказал «восковую свечу»!.. – свеча была, конечно, сальная.
Это был рисунок гуашью на спанском дереве. Рисунок был когда–то заключен в позолоченную рамку. Теперь это претенциозное покрытие приобрело черноватый оттенок, которым рама была обязана оседавшим на пей в течение долгих лет копоти и пыли.
На картине был изображен Святой Юбер, парящий в поднебесье. Его можно было узнать по охотничьему рогу, одной из его самых частых эмблем, и, самое главное, по склонившемуся перед ним оленю с сияющим крестом.
Святой занимал верхний угол картины, олень – левый нижний.
На заднем плане – пейзаж, на фоне которого мужчина в зеленой куртке и вельветовых панталонах, обутый в большие охотничьи гетры, спасался бегством от преследовавшего его животного. Оно в равной мере могло изображать маленького ослика или огромного зайца.
– Боже мой, господа, – сказал я, снимая картину со стены и кладя ее на стол, – разгадывать ребусы не очень веселое занятие, но все же, когда нечего делать, лучше разгадывать ребусы, чем злословить о своем ближнем.
– Не думаю, – сказал Этцель.
– Ладно! Сплетничай и старайся при этом говорить правду, а мы с полковником будем разгадывать ребус.
– Должен сказать, что я по собираюсь ничего разгадывать – разгадывайте сами.
– Приступаю: заяц или ослик, бегущий за охотником, и дата – пятое ноября тысяча семьсот восемьдесят…
– А, – сказал трактирщик, входя, – у вас в руках изображение моего деда.
– Как, – спросил Этцель, – вы внук Святого Юбера?
– Нет, я внук Жерома Палана.
– Что за Жером Палан?
– Жером Палан – это охотник, которого вы видите на пейзаже. Вот он бежит со всех ног, а за ним гонится заяц.
– До сих пор, добрый человек, мы видели зайцев, которых преследовали охотники, а теперь видим охотника, которого преследует заяц. Лучшего объяснения и желать нельзя.
– Вам, может, и нельзя. Вы – человек сговорчивый. Мне же нужно, чтобы у каждой вещи были свои резоны.
– Разумеется! Если на картине изображен дедушка нашего хозяина, то он должен знать историю своего предка.
– Тогда пусть он нам ее расскажет.
– Слышишь, приятель? Огня и историю Жерома Палана!
– Сначала я схожу за дровами.
– Очень разумно.
– Тем более что дедушкина история длинная.
– И… забавная?
– Жуткая, сударь.
– Милейший, – сказал Этцель, – это как раз то, что нам надо: дрова и история! Историю!
– Через минуту все будет готово, – сказал трактирщик.
В самом деле: он вышел, но лишь для того, чтобы тут же вернуться с охапкой дров.
– Итак, – сказал хозяин, – вы непременно хотите, чтобы я рассказал вам историю, на которую намекает наша фамильная картина?
– А вы могли бы предложить нам что–нибудь более занимательное?
Трактирщик, видимо, покопался некоторое время в своих воспоминаниях.
– Нет, – сказал он. – Ей–Богу, нет!
– Тогда рассказывайте, друг мой.
– Если когда–нибудь вы, в свою очередь, запишете или станете рассказывать эту историю, ее можно назвать
«Заяц моего дедушки».
– Уж не премину, – ответил я этому достойному человеку. – В наше время, когда мы часто больше озабочены названием, чем самим романом, этот заголовок ничуть не хуже любого другого.
Мы притихли, подобно тем, кто три тысячи лет назад дивился рассказам Энея.
– Мой дед не был богат, но занимался прибыльным ремеслом, – начал трактирщик. – По крайней мере, если верить одной пословице, оно слывет прибыльным. Он был, как это сейчас говорят, фармацевтом или, как говорили раньше, аптекарем. Раньше – это, если вам угодно знать, в тысяча семьсот восемьдесят восьмом году. Он жил в небольшом городке Тэсе, в шести милях от Льежа.
– Три тысячи жителей. – вмешался Этцель. – Знакомо до боли, будто мы сами его строили. Давайте дальше.
Рассказчик продолжал:
– У его отца была та же профессия, и дедушка, единственный сын в семье, получил в наследство бойко торгующую лавочку и несколько тысяч франков, скопленных моим прадедом покупкой трав за медные гроши и их перепродажей за серебряные монеты, ибо – мне совестно, я ввел вас в заблуждение – он был не совсем аптекарем, а торговцем лекарственными травами.
Безусловно, дед мог сколотить из этих денег кругленькую сумму, которая росла бы, как снежный ком, но у него было два отвратительных порока: страсть к охоте и ученым занятиям.
– Эй, хозяин! – вскричал я. – Поосторожнее со словами. Никто из нас не претендует на то, чтобы зваться ученым, Боже упаси! Но все мы считаем себя охотниками.
– Вы все сейчас поймете, сударь, – продолжал трактирщик. – Если бы вы мне дали закончить фразу или, скорее, дополнить ее несколькими словами, то увидели бы, что я считаю любовь к охоте добродетелью для человека, которому нечего делать, потому что, не зная, чем заняться, он мог бы причинять зло себе подобным, а не животным. Но это великий грех, самый отвратительный смертный грех для человека, который должен питаться от трудов рук своих. Два греха вдвойне повлияли на деда. Наука убила его тело, а охота погубила душу.
– Постойте! – сказал я. – Чтобы выдвигать подобные теории, недостаточно на минуту стать сочинителем. Выдвигать – так объяснять.
– Это я и собирался сделать, но вы, сударь, перебили меня.
– Да замолчишь ли ты наконец! – сказал Этцель. – Мы почти погрузились в сладкий сон, а ты разбудил нас сменой интонации. Продолжайте, почтеннейший, продолжайте.
– Может быть, господа предпочитают вздремнуть? – обиделся трактирщик, сильнее задетый замечанием Этцеля, чем моим.
– Что вы, что вы! – поторопился я возразить. – Но обращайте внимания на слова моего приятеля. Он принадлежит к особому классу наших соотечественников, которых естествоиспытатели выделяют в самостоятельную категорию, genus gomo, species blageur [3]3
Род человеческий, разновидность насмешников.
[Закрыть]. Продолжайте, мы вас слушаем. Вы остановились на смерти плоти и погибели души вашего деда.
Рассказчику не на шутку хотелось на этом и закончить.
Не устояв, однако, перед моими настойчивыми просьбами, он продолжал:
– Итак, речь шла о том, что из–за чтения мой дед стал сомневаться во всем, даже в святых и Боге, а из–за охоты подорвал семейное состояние, с таким трудом собранное, или, вернее, сохраненное моей бабушкой, – как я уже сказал, большая часть денег досталась им от моего прадеда.
По мере того, как со своей ученостью дед погружался в безбожие, болезненное состояние его души стало выдавать себя во внешних признаках. Сначала он запретил бабушке ходить к мессе в иные дни, кроме воскресенья. Ей было разрешено посещать только неторжественные богослужения.
Он сказал, что она может просить в своих молитвах о ком угодно, только не о нем, ибо небесные владыки, как и владыки земные, вспоминают о нас, только чтобы причинить зло. Так пусть они забудут о его существовании. Затем он запретил ей и детям молиться по вечерам возле его постели, как это было с незапамятных времен принято в патриархальных обычаях семьи. Наконец, при звуках колокольчика, возвещавшего о соборовании, никто не мог выйти и присоединиться к шествию, чтобы проводить святое причастие до дома умирающего, родственники признавали смерть во Христе. Правда, некоторое время дед еще разрешал жене и детям, то есть моим отцу и тетке, выходить при святом звоне на порог и стоять там на коленях, пока мимо проносили причастие. Но вскоре даже это последнее проявление религиозности было запрещено.
Конечно, деда так часто не было дома – он уходил рано и возвращался поздно, особенно по воскресеньям, – что бабушка могла в эти дни слушать не только малую службу, но и.торжественную мессу, вечерню и отпевание, а в обычные дни идти за святым причастием куда угодно.
Как вы сами понимаете, она не упускала случая это делать, надеялась на Господнее прощение ради ее благих намерений. Однако бабушка очень боялась мужа, так что, совершая религиозные обряды, всегда просила соседок: «Не говорите моему мужу, что я ходила к мессе!»
Вот и выходило, что эти просьбы, делавшиеся в интересах семейного спокойствия, а за него бабушка отдала бы вес на свете, показывали в Тэсе степень религиозных или, вернее, антирелигиозных чувств моего деда.
– Неплохо, неплохо! – пробормотал Этцель. – Немного растянуто, но если мы возьмемся это издать, будет нетрудно сделать нужные купюры.
– Знаешь, в чем твоя беда? – сказал я ему. – Ты прочитал и издал кучу книг и теперь не доверяешь тому, что просто и незатейливо. Что до меня, история мне кажется очаровательной. А вам, полковник?
– Мне тоже, – ответил он. – И все же я бы хотел, чтобы рассказчик приступил наконец к сюжету.
– Ах, полковник! Вы же воин, устраиваете осады и берете города. Вам ли не знать, как редко крепости берутся штурмом, единым натиском? Прежде чем прокладывать траншею, надо проложить параллели, прорыть ходы сообщения. Наш хозяин тоже копает ходы сообщения, проводит свои параллели! Припомните, осада Трои длилась девять лет, а Антверпена – три месяца. Продолжайте, мэтр.
Трактирщик покачал головой. Видимо, хотел ясно показать, сколь мало он ценит моих товарищей как слушателей.
– Да, сударь, – сказал он мне, – я продолжу. Но вы вполне можете похвастаться тем, что мой рассказ – для вас, и только для вас одного.
На последнем слове он сделал ударение, словно для того, чтобы у моих приятелей не осталось на этот счет никакого сомнения, после чего действительно продолжил:
– Я сказал, что отлучки деда, которые мало–помалу распространились с воскресений на другие дни недели, давали бабушке полную возможность оставаться, несмотря на наказы мужа, доброй христианкой. Однако, никак не затрагивая будущее загробное существование их душ, они наносили неслыханный урон их материальной жизни в настоящем. Вскоре дедушка забыл не только о своих обязанностях по отношению к Богу, по и о долге перед женою и детьми.
Дни его протекали в лесу, в поле на болоте. Он не боялся ни дождя, ни бури, ни снегопада, который в наших краях страшнее грозы. По вечерам, вместо того, чтобы вернуться домой, погреться у камелька, посидеть за семейным столом, он шел в кабак, где проводил время, закладывая с приятелями и рассказывая первому встречному о своих подвигах.
Он говорил и о минувшем дне, и о том, что было накануне, и даже о том, что ему хотелось сделать назавтра.
Вечера, спрыснутые сначала пивом, потом местным вином, а затем и рейнским, так растягивались, что дедушка частенько и вовсе не возвращался домой, неделями не подавал бабушке и детям весточки. На следующий день он покидал трактир с восходом солнца, а иногда и раньше.
Беда не приходит одна, а страсти таят в себе не только черна зла, но и его всходы. Вот что произошло. Пока дедушка уходил только по воскресеньям и охотился на землях, на которых имел право охотиться, возразить было нечего. Однако потом он стал уходить каждый день все дальше и дальше.
– Черт побери! – пробормотал Этцель. – Что же случилось? Преинтереснейшая история! Как ты думаешь, полковник?
– Да замолчи же, проклятый болтун, – сказал полковник. – Занимательность ослабевает только из–за твоих вечных реплик. Этого не выдержал бы сам Телемах. Продолжайте, почтеннейший, продолжайте.
– Дед много охотился, и дичь стала реже попадаться на землях и в лесу общины, на которые он имел разрешение.
Вот и случалось ему понемногу совершать прогулки в близлежащие владения местных сеньоров.
Сначала это были скромные вторжения, засады, приграничные вылазки и тому подобные пустяки. Однако во времена моего деда такие штучки были более чем рискованными. Правосудие не шутило с нарушителями охотничьего закона. Сеньоры были еще всемогущи, суды вершились по их воле, и они глазом не моргнув отправляли попавшегося горемыку на галеры за какого–нибудь зайца. Но дедушка был из тех людей, которых называют бонвиванами. В его подвале рядом с бочкой ламбика или фаро всегда стоял бочонок рейнского. Он был счастлив угостить приятеля и радовался, когда к нему у высокой печной трубы подсаживался кто–нибудь из соседских лесников, чтобы звякнуть стаканами за беседой об охоте. Так что егеря не были с ним ни жестки, ни строги. Все зависело от них, и они закрывали глаза на его проступки. Заслышав выстрел дедовского ружья и лай его собак в одной стороне, они шли в другую.
Однако не бывает правил без исключений. Один из лесников сеньора епископа терпеть не мог деда. Его звали Томас Пише. Откуда взялась такая ненависть? Это была одна из тех инстинктивных антипатий, которые, как и некоторые симпатии, невозможно объяснить.
Томас и Жером не переносили друг друга с детства. Они дрались, как бойцовские петухи, грызлись, как две собаки. Обладая разным телосложением, они оба были крепкими малыми, и их бои длились до тех пор, пока противникам доставало силы. Впрочем, может быть, эта неприязнь больше основывалась на физическом различии, чем на несходстве характеров. Томас был низенький, рыжий, коренастый. Жером – высокий, стройный брюнет. Томас слегка косил, и никто не назвал бы его красивым. У Жерома был прямой взгляд, и он был скорее красив, чем некрасив. Томас был влюблен в мою бабушку, но ее пленил ясный открытый взгляд Жерома, за которого она и вышла замуж.
Все эти и множество других обстоятельств породили между Томасом и Жеромом настоящую вражду. То ли хорошее образование, то ли просто случайность дали деду преимущество над соперником. Устав наконец от давившего превосходства врага, Томас уехал из тех мест. Он стал лесником в Люксембурге, как раз в наших краях. Но злой рок рассудил иначе. Сеньор, у которого он служил в этом качестве, умер. На беду, один из товарищей написал ему, что у епископа освободилась должность, похожая на ту, что он потерял. Попросив себе это место, он получил его и вернулся к Франшимон, который, может, вы знаете, а может, и нет, находится недалеко от Тэса. Таким образом, Жером и Томас оказались соседями.
Вы узнаете позже, угасла ли ненависть в сердце моего деда. Однако, думается, что уже сейчас, не опасаясь повредить занимательности истории, я могу сказать, что она укоренилась сильнее прежнего в сердце Томаса Пише. Поэтому, узнав из разговоров, что дедушка стал таким же знатным охотником, как покойный Немрод, и что, захваченный необузданной страстью к охоте, он почти всегда смотрит сквозь пальцы на рвы и межевые столбы, обозначающие конец общинных владений и начало земель сеньоров, Томас Пише пообещал себе, что при первой же возможности, предоставленной ему дедом, он докажет, что, если гора с горою по сходятся, то человек с человеком сойдутся.
Дедушка об этом не знал. Возвращение Томаса Пише сильно его раздосадовало, однако, в конечном счете, он был добрым малым. Как–то, сидя за бутылкой славного вина, он увидел проходившего мимо Томаса. Дедушка встал из–за стола и, сделав несколько шагов к двери, позвал:
– Эй, Томас!
Томас обернулся и стал смертельно–бледен.
– Что? – спросил он.
Жером вернулся к столу, налил два стакана и с вином в руках подошел к двери.
– Душа не просит, Томас? – спросил он.
Но Томас отрицательно покачал головой:
– Не с тобой, Жером.
И вышел.
Дедушка вернулся на место, выпил один за другим оба стакана и промолвил:
– Это плохо кончится, Томас. Ото плохо кончится!
Бедный дедушка! Он и не подозревал, как близок был к истине.
Понятно, что при таком умонастроении двух человек, один из которых охотник, а другой – егерь, катастрофа неминуема. Таково было всеобщее мнение.
И катастрофа не заставила себя ждать.
Мы говорили, что благодаря симпатиям лесничих льежского епископа и местных сеньоров все мелкие провинности сходили дедушке с рук.
Однако от этой безнаказанности он так осмелел, что уже не ограничивался вторжением в окраинные поместья и княжеские угодья, когда туда бежали его собаки. Бывало и так, что, не поймав ничего в общинном лесу, он дерзко гнал дичь по владениям епископа, находя какое–то злорадное удовольствие в том, чтобы бросить вызов и светской, и духовной власти высочайшего прелата. Сами понимаете, это но могло так продолжаться.
Однажды епископ охотился с молодыми сеньорами и красивыми дамами в местах, которые называют Франшимонские барьеры, – надо сказать, льежские епископы всегда отличались любовью к светским развлечениям. Несмотря на прекрасную компанию, а может быть, из–за прекрасной компании, в которой он оказался, Его Светлость был в отвратительном настроении.
Обстоятельства, как мы увидим дальше, были по лучше настроения. Трижды за утро его собаки сбились со следа. Первый раз со следа одного оленя на след другого. Второй раз – на след лани. И наконец – бывают же несчастливые дни – они дали лани ускользнуть.
Несолоно хлебавши, протрубили отступление, и епископ, обещавший друзьям настоящую охоту с улюлюканьем, был вне себя. Но не успели натянуть поводья, как дорожку, по которой ехали, повесив носы, разочарованные охотники, перескочил красавец олень.
– Монсеньор! – крикнула одна из дам, успокаивая голосом и рукой лошадь, вставшую от неожиданности на дыбы. – Посмотрите, можно подумать, за оленем кто–то гонится.
– Клянусь Святым Юбером, мадам, – ответил епископ, – вы не только прекрасная наездница – любая другая на вашем месте была бы выбита из седла таким скачком, – вы еще и ловкий охотник. Шампанец, взгляни, не наш ли это олень.
Доезжачий, которого окликнул епископ, соединял попарно собак. Он позвал одного из своих товарищей, передал ему поводки и склонился над свежим следом зверя.
– Да, сударь, – сказал он. – Ей–Богу, это тот самый.
– Ты уверен?
– Абсолютно. Я уже обращал внимание Вашего Преосвященства, что у него сбито копытце. Посмотрите сами.
Епископ направил лошадь к указанному месту и наклонился, чтобы рассмотреть олений след. Все верно.
Вдруг он поднял голову и прислушался.
– Шампанец, оленя кто–то травит!
В самом деле, с ветром до охотничьего отряда донесся отдаленный лай собак.
– Это наши собаки брешут, – сказал какой–то новичок.
– Нет, – отозвался епископ. – Так лают собаки, когда гонят зверя. Это ясно, черт побери!
Доезжачие прислушались л многозначительно переглянулись.
– Что? – спросил епископ.
– Правда, это не пустая собачья брехня. Они заливаются вовсю.
– Чьи это собаки? – вскричал епископ, побледнев от гнева.
Все притихли.
– Черт побери! – взорвался он, видя, что ему не отвечают. – Интересно знать, кто себе позволяет охотиться в моих уделах? Впрочем, сейчас увидим. Туда, где прошел олень, прибегут собаки.
Затем он заметил движение среди егерей: один из друзей моего деда хотел было улизнуть в лес.
– Всем стоять! – приказал епископ, нахмурив брови.
Все замерли и стали ждать.
– Вы уже догадались, господа, – сказал трактирщик, прерывая рассказ, – что оленя, след которого потеряли собаки епископа, гнали теперь собаки моего деда?
– Да, уж на это нам ума хватило, – ответил Этцель. – Продолжайте, милейший.
– Скажем несколько слов о дедушкиных собаках – им предстоит сыграть большую роль в истории, которую я имею честь вам рассказать.
Это были великолепные, славные собаки, каждая – на вес золота. Черные как смоль, с огненно–рыжими грудью и животом, поджарые, тонконогие, с жесткой волчьей шерстью. Они могли гнать зверя – зайца, лань, оленя – восемь, десять часов подряд. В хорошую погоду они не ошибались никогда. Если след был свежим, они были так собранны, что вчетвером могли бы поместиться на этом столе. В общем, чудо, а не собаки. Таких, если они еще встречаются, и вам желаю, господа. Вскоре они появились и, ничуть не тушуясь епископа, его своры и всей компании, выскочили из лесной поросли на дорогу, обнюхали олений след и, лая еще яростнее, бросились в лесосеку напротив.
– Чьи это псы? – раздался крик Его Светлости.
Егеря смолкли, словно не знали ни собак, ни хозяина.
К несчастью, там был Томас Пише. Ему предоставилась прекрасная возможность утолить злобу и угодить герцогу.
– Жерома Палана, монсеньор. Аптекаря из Тэса, – ответил он.
– Убить собак и связать хозяина! – распорядился епископ.
Приказ был точен и ясен, истолковать двояко его невозможно.
– Ладно, – сказал Пише товарищам, – займитесь хозяином, а я возьму на себя собак.
Славным лесникам не хотелось арестовывать Жерома Палана, и все же они ни за что не поменялись бы поручениями с Томасом Пише. Кто не знал, что зло, которое затаит дед на убийцу своих собак, не сравнимо ни с чем, даже если деда арестуют или будут стрелять, в него самого!
Егеря поспешно повернули направо, а Томас Пише, углубившись в заросли слева, помчался со всех ног в направлении, в котором убежали собаки его недруга.
Оказавшись вне поля зрения епископа, лесники немного посовещались. Их было пятеро. Трое из них – холостяки. Двое – женаты. Парни считали, что дедушку надо предупредить. Он скроется, а они скажут, что никого не видели и что, наверное, собаки сбежали с псарни и гнали оленя одни. Однако женатые покачали головами.
– Если епископ об этом узнает, то, в лучшем случае, мы потеряем работу.
– Лучше рискнуть работой и даже свободой, чем предать такого хорошего товарища, как Жером Палан.
– У нас еще есть дети и жены, – возразили отцы семейств.
На это нечего было ответить. Благополучие жены и детей всегда стоит на первом месте. Здравый смысл женатых мужчин взял верх над добрыми намерениями холостяков.
Дело оставалось за малым: поймать дедушку. Это было нетрудно, ибо он всегда следовал за собаками, предпочитая, как он говорил, стрелять наверняка, чем забегать вперед.
Не сделали егеря и трехсот шагов, как столкнулись с ним нос к носу. Пришлось им против собственной воли схватить ею, обезоружить, повязать и потащить в сторону Льежа.
В это время Томас мчался, как человек, которому дьявол нашептал дурного на ухо. В отличие от Жерома Палана, он решил забежать вперед. Ориентируясь по собачьему лаю, расположился на небольшом пригорке. Наверху стояла мельница. На земле был заметен свежий след оленя. Никаких сомнений, собаки побегут этой же дорогой. Он притаился в лесосеке.
По приближавшемуся лаю Томас понял, что ему пора. Собаки начали теснить слабевшего оленя, и, вероятно, по прошло бы и часа, как затравили бы его.
Лай все приближался. Никогда при засаде на зверя сердце Томаса Пише не билось так, как в ту минуту.
Показались собаки. Томас прицелился в вожака и выстрелил. Первой пулей он сразил Фламбо, второй – Раметту. Раметта была самкой, Фламбо – лучшим дедушкиным псом. Двух других псов звали Рамоно и Спирон.
Томас в злости предпочел убить суку, чтобы дедушка уже никогда не смог завести собак той же породы.
Совершив сей великий подвиг, Томас оставил Фламбо и Раметту распростертыми на земле и пошел домой, предоставив Рамоно и Спирону возможность продолжать охоту.
Остальные егеря, как мы сказали, арестовали моего деда и воли его в Льеж, где находились господские темницы. По дороге они болтали – не как арестант с жандармами, а как добрые друзья, возвращающиеся в город после лесной прогулки. К тому же дедушка, казалось, совершенно забыл о своей личной участи, и всю дорогу твердил о собаках да об олене, которого они загнали.
– Ей–Богу, красивый зверь! – говорил он шедшему слева от него Джонасу Дезе. – Благородная посадка головы, а как сложен! – перед таким не устоял бы ни один охотник.
– Ох, господин Палан! – ответил Джонас. – Надо же вам было встретить его именно сегодня! Кой черт дернул вас соваться в волчью пасть? Вы что, не слышали лая наших собак?
– Разве это охотничьи собаки! Я принял их повизгивание за тявканье собак пастухов. Прислушайтесь! Вот что значит гнать зверя.
И мой дед стал с восторгом слушать, как собаки травят оленя. Лучшей музыки для него не существовало.
– Послушай, как же тебя угораздило? – спросил деда охранник справа по имени Люк Тевелен.
– Дело было так: псы гнались за зайцем, а я поджидал его, притаившись в канавке. Вдруг вижу вашего оленя. В ста шагах от меня он скрылся в лесных зарослях. Через десять минут вновь появляется, но уже гонит впереди себя бедную лань, заставляя ее подставить себя вашим собакам. Представляете, каков старый хитрец! Пока лань вместо него спасалась бегством от собак, он пошел но ее следу на лежку. Признаться, мне показалось забавным не дать этому пройдохе воспользоваться плодами своего коварства. Я поднял собак и пустил по его следу. Ага! Мои не сбились, как ваши. Еще бы – первым бежал Фламбо. Представляешь, Тевелен, они его травят уже три часа. Да вот, слышишь? Ты слышишь их? Какие глотки!
– Известное дело! – сказал Джонас. – Это лучшие псы в округе. Но как бы вам их не погубить, господин Палан. Тут пахнет жареным!
Но дед не слышал Джонаса Дезе, он наслаждался заливистым лаем своих гончих.
– О, они его не оставят в покое, пока он не выбьется из сил. Люк, Джопас, вы только послушайте! Они около Руэмона. Браво, Фламбо, браво, Раметта! Браво, Рамоно! Браво, Спирон! Ату его! Ату!
Забыв о том, что он пленник, дедушка довольно потирал руки, негромко насвистывая свой самый радостный парад–алле.
В это время раздалось два выстрела.
– Ну вот, – сказал дед, – у ваших охотников нет сил ждать улюлюканья, и они уже начиняют оленя свинцом.
Лая собак не прекращался, и он добавил:
– Что за мазила стрелял? Как можно не попасть в такого зверя? Мой ему совет стрелять на первых порах в слонов.
Лесники с беспокойством переглянулись. Они догадались, что это были за ружейные выстрелы. Выражение лица моего деда вдруг изменилось и стало встревоженным.
– Люк! Джонас! – воскликнул он, обращаясь к своим спутникам. – Сколько вы слышите собак?
– Не знаю, – ответили они хором.
– Ну–ка, послушайте! – сказал он, останавливая их. – Я теперь слышу только двух, Рамоно и Спирона. Где же Фламбо с Раметтой? О–о–о!..
– Мэтр Жором, вы перепутали тех и других, – сказали охранники.
– Я? Вот еще! Я знаю голоса моих псов, как любовник – голоса своих любовниц. Черт побери! При олене лишь Рамоно и Спирон. Не произошло ли что–нибудь с двумя другими?
– Полно, мэтр Жором! – принялся за свое Джонас. – Да что с ними станется, с вашими собаками? Вы, как взрослый ребенок. Фламбо и Раметта сошли со следа или метнулись за каким–нибудь зайцем, который и увлек их за собой.
– Мои собаки оставляют след, только когда я их отзову, слышишь, Джонас? – сказал дедушка. – Их не возьмешь на зайца, если они гонят оленя, бросься он им в глаза или даже прыгни на нос. Наверное, с ними что–нибудь случилось и, подумать только, именно с Раметтой и Фламбо!
Мой бедный дедушка, минуту назад такой радостный, был готов заплакать. Каждые десять шагов он останавливался и прислушивался. Затем, все более безутешный, восклицал:
– Что бы вы ни говорили, остались только Спирон и Рамоно! Что стало с другими? Что с ними стало, я вас спрашиваю?!
Друзья–лесники как могли успокаивали его, пытаясь убедить, что обе собаки, не чувствуя больше поддержки хозяина, вернулись домой. Дед даже не потрудился ответить. Он лишь качал головой да тяжко вздыхал:
– Говорю вам, с ними приключилась беда. Помяните мое слово.
Так прошел путь от Франшимона до Льежа, где егери монсеньора передали своего пленника в руки конной жандармерии.
Бедного дедушку бросили в камеру – восемь квадратных футов в той части дворца, что служила тюрьмой.
Дверь за ним с грохотом захлопнулась, взвизгнула задвижка, но как ни отвратительна была эта пора, она оставила Деда безразличным – уж очень он волновался за судьбу Фламбо и Рамотты.
На следующий день, проснувшись с мыслью о своих любимых собаках, Жером Палан все же не замедлил ощутит г. тяжесть своего собственного положения, а так как у него не было веры, которая дает смирение, он вскоре сдал. Привыкший к активной жизни, свежему горному воздуху, ежедневной ходьбе и веселой жизни среди друзей, он не смог снести тюремного одиночества.
Напрасно он забирался на табуретку и цеплялся за оконную решетку, чтобы украдкой вдохнуть глоток воздуха, прилетавшего к нему вместе с арденнским ветром; тщетно вглядывался в горизонт, в туман над далеким Маасом, обвившимся вокруг города нескончаемым серебряным шлейфом, и искал дорогие его сердцу тэсские леса; напрасно переносился туда в воображении, воскрешая в памяти их свежие запахи, каскадики света, пробивавшиеся сквозь листву, невнятный шорох тронутых ветром веток и их шепот в ночи. Мрачная реальность развеивала его волшебные мечты, как ветер – осенние листья, и мой дедушка вдруг оказывался в холодной комнате с сырыми серыми стенами.
От так отчаялся и горевал, что заболел. К нему допустили врача. Из чувства солидарности, наверное, врач заинтересовался аптекарем. Он преувеличил степень болезни и велел выделить ему не такую убогую камеру и лучше кормить. Дедушка скучал, и он пообещал пронести ему книги.
В то же время он стал хлопотать перед епископом, чтобы дедушка смог выкупить себе свободу.
По ходатайству бабушки бургомистр и тэсские старшины представили монсеньору такую же просьбу, так что месяц спустя после ареста дедушка узнал от своего друга врача, что его немедленно освободят за сумму в две тысячи флоринов.
Он живо написал бабушке письмо, в котором сообщал радостное известие и велел принесли требуемые деньги, то есть почти все сбережения.
В постскриптуме добавил: чем быстрее бабушка придем тем скорее се мужа освободят.
Она ответила с нарочным, что на следующий день, в два часа, будет в епископском дворце.
Добрая весть так обрадовала дедушку, что он всю ночь не мог сомкнуть глаз. Он снова увидит дом, усядется в большое кресло у очага, коснется ружья у печной трубы, вспомнит, как, бывало, славно охотился. Услышит радостное тявканье собаки. Он рассчитывал встретить их всех четырех, надеясь, что Люк и Джонас были правы, может быть, собаки сбились со следа. Чтобы утешиться из–за их ошибки, он говорил, как председатель тулузского суда королю Людовику XV: «И на старуху бывает проруха». Наконец, он думал – и с не меньшей радостью – о том, как обнимет жену и детей. Но какими радужными ни были бы его мысли, время тянулось невыносимо медленно. Чтобы его как–то скоротать, деду в голову пришла роковая мысль достать из тайника книгу, одолженную ему врачом. Засветив лампу, он и ал читать.
На беду, хоть книга и была занятна, дед заснул над ней, да так глубоко, что привратник, увидев свет в камере заключенного, смог войти и тихонько, так, что он не проснулся, взять ее у него из рук. Привратник не умел читать и отнес книгу казначею, распоряжавшемуся дворцовыми делами. Казначей рассудил, что случай серьезный, и передал ее епископу. Тот, лишь увидев название, бросил книгу в огонь и тут же решил, что аптекарь из Тэса уплатит двойной штраф, то есть один – за самовольную охоту, а другой – за чтение безбожных книг.