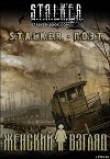Текст книги "Мертвая голова (сборник)"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Расстояние от церкви Успения до Королевской улицы было невелико. Но как Гофман ни искал, поначалу небрежно, потом со вниманием и, наконец, с желанием найти, он не увидел ни одного дома, хотя бы сколько-нибудь похожего на ту гостиницу, в которую он вошел накануне, где провел ночь и откуда недавно выбежал. Подобно тем волшебным декорациям, которые исчезают в театре по мановению руки машиниста, после того как они выполнили свое назначение, гостиница с улицы Сент-Оноре исчезла, как только адская сцена, которую мы попытались описать, была сыграна.
Все это не удовлетворило зевак, сопровождавших Гофмана и требовавших непременно какого бы то ни было результата для своего успокоения; а результат мог быть единственный – это обнаружение трупа Арсены или арест Гофмана как человека подозрительного.
За отсутствием тела Арсены решение арестовать Гофмана было почти единодушным, но вдруг этот последний заметил черного человека и стал звать его на помощь, уговаривая подтвердить правдивость своего рассказа.
Слова доктора всегда имеют большую власть над толпой. Этот последний объявил свое звание, и ему очистили дорогу, чтобы он смог подойти к Гофману.
– Ах, бедный молодой человек! – сказал он, взяв того за руку, будто проверяя у него пульс, а в действительности – чтобы дать ему знать особым пожатием руки, чтобы юноша не опровергал его слов. – Бедный молодой человек! Стало быть, он бежал.
– Бежал? Откуда? – раздались крики двадцати человек.
– Да, откуда бежал? – поинтересовался Гофман, не желавший принимать унизительного спасения, предлагаемого ему доктором.
– Черт возьми! – воскликнул доктор. – Из больницы, разумеется!
– Из больницы! – подхватили те же голоса. – Из какой больницы?
– Из больницы для умалишенных.
– Ах! Доктор, доктор, – возмутился Гофман, – что это за шутки!
– Бедный молодой человек, – продолжал доктор, будто не слыша возражений художника, – бедный молодой человек потерял, видимо, на эшафоте любимую женщину.
– О, да, да, – горячо заговорил юноша, – я ее очень любил, однако не так сильно, как Антонию.
– Бедняга! – воскликнули многие женщины, тоже находившиеся в толпе и уже начинавшие испытывать жалость к Гофману.
– Да, и с тех пор, – продолжал доктор, – он стал жертвой ужасного видения: он думает, что если станет играть и выигрывать – это позволит ему обладать той, которую любит. Потом с золотом в карманах он скитается по улицам и находит женщину у подножия гильотины; он отправляется с ней в роскошную гостиницу, где проводит ночь в веселье, страсти, опьянении, после чего находит ее мертвой. Не это ли рассказал он вам?
– Да-да! – закричали в толпе. – Слово в слово!
– Что же! – воскликнул Гофман с горящим взором. – Неужели вы, доктор, скажете, что это ложь? Вы же сами расстегнули бриллиантовую пряжку, скреплявшую концы бархотки на ее шее? О! Я должен был догадаться, что в этом есть что-то странное, когда я видел, как капли шампанского сочились из-под ее бархотки, когда горящая головня коснулась ее обнаженной ноги и ее нога, нога мертвеца, не обожженная огнем, погасила пламя!
– Вы видите, видите, – сказал доктор растроганным голосом, жалостливо глядя на несчастного, – его сумасшествие возвращается.
– Как – мое сумасшествие! – возмутился Гофман. – Вы осмеливаетесь говорить, что это неправда? Вы смеете опровергать, что я провел ночь с Арсеной, вчера казненной? Вы оспариваете, что ее голову на плечах придерживала только бархотка? Вы смеете уверять, что, когда вы расстегнули пряжку, мертвая голова не скатилась на ковер? Полно вам, доктор! Полно, по крайней мере вы-то знаете, что я говорю правду.
– Друзья мои, – воскликнул доктор, – теперь вы убедились, не правда ли?
– Да, да! – закричали в толпе, а те из присутствующих, кто хранил молчание, печально покачивали головами в знак согласия.
– Теперь, – сказал доктор, – найдите фиакр, чтобы я мог его отвезти.
– Куда это? – возмутился Гофман. – Куда вы собираетесь меня везти?
– Как куда? – переспросил доктор. – В дом умалишенных, откуда вы бежали, мои добрый друг. – Потом тихо добавил: – Дайте мне свободу действий! Или я не отвечаю за вас. Эти люди полагают, что вы их одурачили. Они разорвут вас на куски.
Гофман глубоко вздохнул и опустил руки.
– Вот, видите, – заметил доктор, – теперь, когда кризис миновал, он стал кроток, как ягненок. Ну, дружок, ну…
И рука доктора, казалось, укротила Гофмана, подобно тому как укрощают разгорячившуюся лошадь или разъяренную собаку.
Между тем отыскали фиакр.
– Садитесь скорее, – велел доктор Гофману.
Юноша повиновался, все его силы истощились в этой борьбе.
– В Бисетр! – сказал громко доктор, садясь возле Гофмана. Потом тихо спросил у молодого человека: – Где вы хотите, чтобы вас высадили?
– У Пале-Эгалите, – с трудом выговорил Гофман.
– Пошел! – крикнул доктор и раскланялся с публикой.
– Да здравствует доктор! – кричали в толпе.
Когда народ находится под влиянием страсти, он не может удержать крика. И не важно, что это будет: «Да здравствует кто-нибудь!» или «Казни!» У Пале-Эгалите доктор остановил фиакр.
– Прощайте, молодой человек, – сказал он Гофману, – и послушайте моего совета: возвращайтесь в Германию. Во Франции людям с воображением, подобным вашему, будет нелегко.
И он вытолкнул Гофмана из фиакра. Тот, еще не придя в себя от всего случившегося, чуть было не угодил прямо под экипаж, ехавший навстречу, если бы проходивший мимо молодой человек не бросился к нему и не удержал его, в то время как извозчик пытался остановить лошадей.
Фиакр продолжил свой путь. Два молодых человека, один едва не упавший, другой поддержавший его, вскрикнули одновременно от удивления.
– Гофман!
– Вернер!
Потом, видя изнеможение своего друга, Вернер увлек его в парк Пале-Рояля.
Там воспоминания обо всем случившемся еще живее предстали в воображении Гофмана, и он вспомнил про заложенный у менялы-немца медальон Антонии. Бедняга вскрикнул в страхе, потому что все золото из своих карманов он высыпал на мраморный стол в гостинице. Но тут же он вспомнил про отложенные им три червонца в боковом кармане жилета.
Золотые по-прежнему лежали в своем убежище – они не были истрачены. Гофман вырвался из рук Вернера с криком: «Подожди меня» и бросился к лавке менялы. С каждым новым шагом он, казалось, ощущал все больший прилив сил, похоже, он начал освобождаться от окутывавшего его дурмана и дышал воздухом все более и более чистым, а взгляд его становился все более ясным.

У двери в лавку менялы юноша остановился, чтобы перевести дух; прежние видения, призраки ночи, почти совсем исчезли. Он передохнул с минуту и вошел внутрь.
Меняла спокойно сидел на своем месте все в тех же очках на носу и в окружении золота, разложенного перед ним. Он поднял голову на шум открывшейся двери.
– А! – воскликнул старый немец. – Это вы, мой молодой соотечественник? Признаюсь, я уж и не ожидал вас увидеть.
– Вы, надеюсь, говорите так не потому, что продали медальон? – вскрикнул Гофман.
– Нет, я обещал вам сберечь его, и даже если бы мне предложили двадцать пять червонцев вместо тех трех, которые вы мне за него должны, медальон все-таки не покинул бы мою лавку.
– Вот три червонца, – робко произнес юноша, – но признаюсь, что мне нечем заплатить вам проценты.
– Проценты за одну ночь? – удивился меняла. – Полно, вы шутите! Проценты с трех червонцев за одну ночь, да еще и с соотечественника! Никогда! – И он отдал медальон владельцу.
– Благодарю вас, сударь, – с чувством сказал Гофман. – Теперь, – продолжил он со вздохом, – я пойду искать деньги, чтобы возвратиться в Мангейм.
– В Мангейм! – удивленно воскликнул меняла. – Так вы из Мангейма?
– Нет, сударь, я родом не из Мангейма, но живу там: в Мангейме у меня невеста, и я возвращаюсь, чтобы жениться на ней.
– А! – откликнулся меняла.
Потом, когда молодой человек был уже у двери, он продолжил:
– Не знаете ли вы, юноша, в Мангейме одного старого музыканта? Это один из моих старинных приятелей.
– Готлиб Мурр? – вскрикнул Гофман.
– Именно. Так вы его знаете?
– Знаю ли? Конечно, потому что его дочь – моя невеста!
– Антония? – воскликнул в свою очередь меняла.
– Да, Антония, – подтвердил Гофман.
– Как, молодой человек, вы возвращаетесь в Мангейм для того, чтобы жениться на Антонии?
– Конечно.
– Если так, то оставайтесь лучше в Париже, потому что вы напрасно туда поедете.
– Почему это?
– Потому что вот письмо от ее отца, уведомляющее меня о том, что неделю назад, в три часа пополудни, Антония скоропостижно скончалась, играя на арфе.
Это был именно тот день, когда Гофман отправился к Арсене писать ее портрет, тот час, когда он прижался устами к ее обнаженному плечу.
Гофман, бледный, трепещущий, открыл медальон, желая припасть губами к любимому образу, но кость была девственно чиста, будто никогда кисть художника не нарушала ее белизны. Гофману, дважды клятвопреступнику, ничего не осталось на память об Антонии, даже образа той, кому он дал обет вечной любви.
Спустя два часа после этого Гофман в сопровождении Вернера и старого немца-менялы садился в дилижанс, отправлявшийся в Мангейм, куда и прибыл вовремя, чтобы проводить на кладбище тело Готлиба Мурра, который приказал, умирая, положить себя рядом со своей милой Антонией.
Паскаль Бруно

Я премного благодарен генералу Т. за его рукопись, что он любезно предоставил мне еще до моего путешествия в Италию. Его воспоминания представляли для меня особую ценность, так как вскоре я сам собирался посетить те места, где и происходят основные события некоторых моих рассказов. Таким образом, в описании моего путешествия по Италии можно найти множество подробностей, которые были подмечены мной благодаря любезной услуге генерала.
Мой добрый чичероне покинул меня на оконечности Калабрии и наотрез отказался пересекать пролив. Два года он прожил отшельником в Липари, недалеко от Сицилии, но сам никогда не был на острове. В разговорах со мной об этой стране он проявлял себя как истинный неаполитанец и всегда опасался ненависти, которая могла легко в нем вспыхнуть, когда речь заходила о сицилийцах.
В силу того что эти два соседствующих народа питали взаимную неприязнь друг к другу, я сам принялся разыскивать одного сицилийца по фамилии Пальмьери. Я уже встречался с ним раньше, но потерял его адрес. Пальмьери как раз только выпустил превосходный двухтомник воспоминаний, а мне очень хотелось добыть интересные сведения о его столь поэтическом и вместе с тем малоизвестном острове, а также некоторые советы, по которым заранее определяются этапы путешествия. Но однажды вечером в нашу квартиру, что располагалась на Монмартре, в доме № 4, посетил генерал Т. и привел с собой Беллини, о котором я и не подумал. Он мог много рассказать о моем предстоящем маршруте. Не приходится говорить о том, как был принят автор «Сомнамбулы» и «Нормы» в нашем чисто артистическом кружке. Беллини был уроженцем Катании. Уже младенцем он видел волны, которые, омыв стены Афин, медленно докатывались до берегов второй Греции, и древнюю Этну, на склонах которой живы еще, несмотря на прошедшие восемнадцать веков, мифология Овидия и рассказы Вергилия. Беллини был такой поэтической натурой, каких теперь мало. Его талант следовало воспринимать скорее посредством чувств, нежели разумом. Это вечная песня, нежная и меланхоличная, как воспоминание; эхо, подобное тому, что спит в лесах и горах и едва слышно, пока его не разбудит крик страстей или печали. Как раз такой человек мне и был нужен. Он покинул Сицилию, будучи еще совсем молодым, и в его памяти сохранились все самые поэтичные образы родины.
Благодаря проникновенным рассказам Беллини я смог представить себе Сиракузы, Агридженто и Палермо во всей красе. Перед моими глазами прошла чудная панорама, тогда мне еще незнакомая и освещенная отблесками воображения Беллини. Наконец, переходя к нравам страны, о которых я не переставал его расспрашивать, он сказал мне:
– Когда вы отправитесь из Палермо в Мессину, не забудьте сделать одну вещь. Остановитесь в маленькой деревне Баузо, на оконечности мыса Блан. Напротив гостиницы вы увидите идущую в гору улочку. В конце нее стоит маленький замок в виде цитадели. На стенах этого замка висят две клетки: одна пустая, а вот в другой уже двадцать лет белеет человеческий череп. Попросите первого попавшегося прохожего поведать вам историю человека, которому принадлежал этот череп. Тогда вы услышите один из тех рассказов, которые не оставляют равнодушным никого, будь то крестьянин или вельможа.
– А разве, – спросил я Беллини, – вы сами не можете рассказать нам эту историю? Судя по тому, как вы о ней говорите, у вас, по-видимому, осталось от нее очень сильное впечатление.
– Я ничего не имею против, – ответил он мне, – так как Паскаль Бруно, герой этой истории, умер как раз в год моего рождения и меня в младенчестве убаюкивали этим народным преданием, которое живо и до сих пор, я в этом уверен. Но как быть с моим скверным французским?
– Если дело только за этим, – сказал я, – то мы все понимаем по-итальянски. Говорите на языке Данте, он стоит всякого другого.
– Хорошо, – согласился Беллини, протягивая мне руку, – но у меня есть одно условие.
– Какое же?
– Когда вы вернетесь, повидав те места, окунувшись в среду этого дикого народа и этой живописной природы, то напишете мне либретто к опере «Паскаль Бруно».
– Даю вам слово, считайте, что это дело решенное! – воскликнул я, в свою очередь протягивая ему руку.
И Беллини рассказал историю, которую читатель прочтет ниже.
Через полгода после этого я уехал в Италию. Посетив Калабрию, я, наконец, высадился в Сицилии. Все это время из моей головы не выходило народное предание, рассказанное поэтом-музыкантом, словно оно и было целью моего путешествия. В Баузо все было так, как и описывал Беллини: гостиница, улица, что вела в гору, и две железные клетки – одна пустая, в другой же покоился череп.
Через год я вернулся в Париж и, следуя принятому условию и данному обещанию, стал искать Беллини. Но нашел могилу.
I
Города – то же, что и люди. Случай руководит их основанием или рождением, а топографическое положение, которое занимают одни, и социальные условия, в которых появляются другие, влияют, хорошо или дурно, на все их существование. Я встречал горделивые поселения, возжелавшие господствовать надо всем окружающим. Только несколько домиков осмелились пристроиться к ним на вершине горы. Такие поселения надменны и бедны, вечно окутаны облаками и беспрестанно летом претерпевают грозы, а зимой – бури. Они напоминают королеву в изгнании, за которой последовали лишь немногие ее приверженцы и которая слишком горда, чтобы унизиться до просьбы дать ей народ и королевство на равнине. Я видел городки настолько скромные, что они прятались на самом дне глубокой лощины. Они понастроили на берегу реки свои фермы, мельницы и хижины, закрылись холмами, защищающими их и от холода, и от жары; их жизнь протекает безмятежно и спокойно, подобно жизни честных и лишенных тщеславия людей, которых пугает всякий шум, ослепляет всякий блеск и для которых счастье возможно только в тени и безмолвии.
Есть и другие города, которые начали с того, что были ничтожной деревушкой на берегу моря. Но мало-помалу лодки сменились барками, а барки – кораблями, хижины превратились в дома, а дома – во дворцы. Так что теперь золото Америки и алмазы Индии обширными потоками стекаются в их порты. Они звенят дукатами и выставляют напоказ свои драгоценности совершенно так же, как лакеи всяких выскочек и баловней судьбы третируют прохожих и обдают их грязью из-под колес экипажа своего господина.
Наконец, есть и такие селения, которые с самого начала пышно раскинулись среди веселых полей, в окружении цветов. К ним вели извилистые и живописные тропинки, и, казалось бы, все прочило им долгое и счастливое существование. Но вдруг всему этому благополучию начинает угрожать соседний город, вступает в соперничество с основавшимся на большой дороге, притягивает к себе торговцев и путешественников и, наконец, заставляет своего уединенного соседа умирать, подобно молодой девушке, жизненные силы которой подтачивает не встретившая взаимности любовь. Вот почему всегда проникаешься симпатией или отвращением, любовью или ненавистью к тому или иному городу – точно так же, как и к человеку. Неудивительно, что груде холодных и безжизненных камней дают эпитеты, которые обычно присваивают живым существам: благородная Мессина, верные Сиракузы, великолепный Джирдженти, непобедимый Трапани, счастливый Палермо.
И действительно, если и есть благословенный город на земле, то это Палермо: безоблачное небо, плодородная почва, живописнейшие окрестности, порт, что смотрит на море с лазурными волнами. С севера город защищен холмом Святой Розалии, с востока – мысом Наферано, со всех сторон обширную долину, на которой он стоит, окружают горы. Никогда ни византийская одалиска, ни египетская султанша не смотрелись так томно, лениво и сладострастно в воды Киренаики или Босфора, как он, древнее дитя Халдеи. Напрасно сменялись его правители: они исчезали, а он остался. От различных властителей, покорявшихся всегда его неге и красоте, царственный раб сохранил лишь обручи от цепей. Не только природа, но и люди стремились сделать Палермо великолепным: греки оставили ему свои храмы, римляне – водопроводы, сарацины – укрепления и замки, норманны – базилики, а испанцы – церкви. Благоприятный климат одинаково хорош для всех растений, поэтому в роскошных садах города можно встретить лаконийские олеандры, египетские пальмы, индийские фиговые деревья, африканские алоэ, итальянские сосны, палестинские кипарисы и французские дубы. И если есть что-то прекраснее, чем дни Палермо, так это его ночи. Ночи Востока – прозрачные и душистые; создается впечатление, что плеск моря, дуновение ветра, шум города составляют один общий концерт любви, словно все сущее – от волны до растения и от растения до человека – испускает затаенный вздох. Поднимитесь на площадку Циза или на террасу Палаццо Реале, когда Палермо спит, и вам покажется, что вы сидите у изголовья молодой девушки, которой снится сладостный сон.
В эти часы пираты Алжира и корсары Туниса выходят из своих убежищ, ставят по ветру треугольные паруса на своих варварских фелюках и кружат вокруг острова, точно гиены Сахары или атласские львы вокруг скотного двора. Беда тогда неосторожным местечкам, которые рискнут заснуть без сигнальных огней и без стражи на берегу моря. Жители их проснутся при свете пожара под крики своих жен и дочерей, и, прежде чем подоспеет помощь, африканские коршуны улетят со своей добычей. После, когда рассветет, будет видно, как белые крылья их судов побледнеют на горизонте и исчезнут за островами Порри, Фавиньяна или Лампедуза.
Порой случается, что море принимает матовый оттенок, ветер спадает, и город замирает: кровавые тучи быстро пробегают по небу с юга к северу. Эти тучи – предвестники сирокко, этого «хамсина» – жаркого пара, рождающегося в песках Ливии, которого так боятся арабы. Тотчас же все съеживается, все страдает и плачет; весь остров стонет так, как если бы ему угрожала Этна. Животные и люди беспомощно ищут укрытия и, найдя его, едва дыша, тотчас ложатся, потому что этот ветер отнимает всякое мужество, лишает сил и парализует волю… Палермо тогда хрипит, точно человек при смерти, и так до тех пор, пока свежая струя ветра из Калабрии не вдохнет новых сил в умирающего. Тогда он вздрагивает от животворного ветра, воскресает к жизни и дышит так же радостно, как если бы очнулся от обморока, и на следующий же день беспечно продолжает свою жизнь, полную радостей и удовольствий.
Дело было в 1803 году. Стоял сентябрьский вечер. Весь день дул сирокко, но к вечеру небо прояснилось, море снова стало лазурным, и только со стороны Липарских островов слегка тянуло ветерком. Перемена погоды оказывала свое благотворное влияние на природу, и все живое неспешно выходило из оцепенения; создавалось впечатление, что присутствуешь при сотворении мира, тем более что Палермо очень напоминает собой Эдем.
Любовь – главная забота всех дочерей Евы, населяющих это райское место. Одному из этих прекрасных созданий будет отведена немалая роль в нашем повествовании, поэтому рассмотрим поближе нашу героиню и ее жилище. Для этого выйдем из Палермо через ворота Сан-Джорджио, оставим справа Кастелло-а-маре, отправимся прямо к молу и затем, пройдя немного вдоль берега, остановимся у прелестной виллы. Она стоит у самого моря, ее украшает дивный сад, раскинувшийся вплоть до подножия горы Пеллегрино. Это имение князя де Карини, которого король Фердинанд IV назначил наместником Сицилии, пока сам поехал вступать во владение Неаполем.
В этой элегантной вилле, в одной из комнат первого этажа, обтянутой небесно-голубым атласом, с жемчужными нитками, заменявшими шнуры для поднимания штор, и с потолком, расписанным фресками, на софе лежала женщина в простом пеньюаре. Волосы ее были распущены, голова откинута назад, руки свесились вниз; ее можно было принять за мраморное изваяние, если бы не едва заметная легкая дрожь, иногда пробегавшая по всему ее телу. Наконец щеки ее порозовели, глаза открылись. Чудесная статуя очнулась ото сна, вздохнула, протянула руку к маленькому серебряному звоночку, стоявшему на столике из селинунтского мрамора, лениво позвонила и, словно утомившись от сделанного усилия, снова откинулась на софу. На серебристый голосок звонка открылась дверь, и на пороге появилась юная и вовсе не дурная собой камеристка. В одежде ее присутствовала некоторая небрежность, виной чему, очевидно, был африканский ветер, от которого так страдала ее госпожа.
– Это ты, Тереза? – раздался измученный голос хозяйки. – О боже мой, это невыносимо! Долго еще будет дуть этот сирокко?
– Нет, сеньора, ветер уже совсем стих, стало легче дышать.
– Так принеси мне фруктов и мороженого и впусти воздуху.
Тереза, преодолевая собственное недомогание, поспешила исполнить оба приказания как можно быстрее. Она поставила на столик мороженое и фрукты и открыла окно, выходившее на море.
– Посмотрите, графиня, – сказала она, – завтра будет чудный день. Воздух так чист, что ясно виден остров Аликуди, хотя день уже клонится к вечеру.
– Да, да, свежий воздух хорошо на меня действует. Помоги мне подняться, Тереза, я попробую подойти к окну.
Графиня поставила обратно на столик вазочку с мороженым, к которому едва притронулась, и, опершись на плечо своей камеристки, медленно дошла до балкона.
– О, этот ветерок и впрямь освежает, – произнесла она, вдыхая вечерний воздух, – пододвинь-ка сюда кресло и открой еще окно в сад. Вот так, хорошо… А что, князь не вернулся из Монреаля?
– Нет еще.
– Тем лучше: я не хочу, чтобы он видел меня такой… Я, наверное, сейчас ужасно выгляжу?
– Напротив, графиня, я никогда еще не видела вас такой красивой, как сейчас. Я уверена, что во всем городе не сыскать женщины, которая бы вам не позавидовала.
– Даже маркиза де Рудини?.. А графиня де Бутера?
– Даже они.
– Знаешь что, Тереза, князь, наверное, платит тебе, чтобы ты мне льстила.
– Клянусь, госпожа, я говорю чистую правду.
– А все-таки замечательно жить в Палермо, – заметила графиня, глубоко вздохнув.
– Еще бы, вам двадцать два года, вы богаты и красивы, – продолжала, улыбаясь, Тереза.
– Ты точно читаешь мои мысли. Но я хотела бы, чтобы и вокруг меня все были счастливы… Скоро твоя свадьба?
Тереза ничего не ответила.
– Ее ведь, кажется, назначили на следующее воскресенье? – продолжала спрашивать графиня.
– Да, синьора, – ответила камеристка с тяжким вздохом.
– В чем же дело? Ты, может быть, раздумала?
– Нет.
– Тебе не нравится Гаэтано?
– Нет, нет, что вы! Я уверена, он хороший человек, и я с ним буду счастлива. К тому же, выходя за него, я все равно остаюсь при вас, а мне ничего, кроме этого, и не надо.
– Почему же тогда ты так вздыхаешь?
– Простите, синьора, я вспоминаю нашу родину.
– Нашу родину?
– Да, графиня. Вы, будучи уже в Палермо, вспомнили, что в деревне, которой владеет ваш отец, осталась я, ваша молочная сестра… Тогда вы написали мне, чтобы я приехала к вам, а я уже была невестой одного молодого человека из Баузо.
– Почему же ты раньше не сказала мне об этом? Князь по моей рекомендации взял бы его к себе в дом.
– Он бы не захотел быть слугой, он слишком горд.
– Неужели?
– Он уже отказался от места в имении князя де Гото.
– Что ж, он благородного происхождения, этот молодой человек?
– О, нет, он горец.
– Как его имя?
– Я не думаю, чтобы графиня его знала, – поспешно сказала Тереза.
– Так ты грустишь о нем?
– Право, не знаю… Я знаю только то, что если выйду замуж не за Гаэтано, а за него, то мне придется очень много работать, а это для меня будет нелегко, особенно после службы у вашего сиятельства. Мне так хорошо у вас.
– Меня нередко упрекают в излишней гордости и вспыльчивости. Разве это не правда, Тереза?
– Вы всегда были очень добры ко мне. Больше я ничего не могу сказать.
– О, на меня клевещет палермская знать… А все потому, что графы де Костель-Нуово получили дворянство при Карле V, тогда как графы де Вентимилле и де Партанна происходят, как они сами утверждают, от Танкреда и Рожера. Впрочем, женщины-то настроены против меня совсем по иным причинам. Они завидуют тому, что Родольфо меня любит, и стараются всеми силами увести его у меня. Но это им не удается, потому что я красивее их, Карини говорит мне это каждый день. Да и ты тоже, лгунья.
– В этой комнате, графиня, есть более веское доказательство вашей красоты, чем мои слова.
– Что же это такое?
– Зеркало вашего сиятельства.
– Полно тебе говорить глупости… Зажги свечи у ночного столика.
Камеристка повиновалась.
– Теперь закрой это окно и оставь меня одну, окна, выходящего в сад, вполне достаточно…
Тереза исполнила приказание и удалилась. Едва за ней закрылась дверь, как графиня устроилась у ночного столика и стала смотреться в зеркало. Она была явно довольна своим отражением.
Прелестную графиню звали Эмма, или, точнее, Джемма, как ее все привыкли называть, когда она была еще ребенком. Ее родители нарочно прибавили к имени дочери лишнюю букву, так как «Gemma» по-итальянски означает «драгоценный камень».
Графиня ошибочно приписывала свое благородное происхождение росчерку пера Карла V. Тонкая и гибкая талия обличала в ней гречанку, черные, бархатистые глаза достались ей, несомненно, от арабских предков, и, наконец, белый, матовый цвет кожи указывал на галльскую кровь. Графиня могла бы смело и с равным успехом похвастать своим происхождением от какого-нибудь афинского архонта, сарацинского эмира или нормандского вождя. Красота, подобная той, которой она обладала, встречалась лишь в Сицилии, более того, в одном только городе на всем земном шаре – в Арле, где такое смешение крови и рас, соединяющее эти три столь различных типа, не является большой редкостью.
Сначала Джемма хотела принарядиться, но, посмотревшись в зеркало, нашла, что ей очень идет эта небрежность туалета, и некоторое время в наивном восхищении любовалась собой. Так смотрится в зеркало воды цветок, наклонившись над ручьем. Ее восхищение не было горделивым, наоборот, оно было преисполнено благодарности к Творцу, которому угодно было создать такую красоту. Итак, она решила не переодеваться и осталась в чем была. И в самом деле, какая прическа была бы ей больше к лицу, чем ее роскошные распущенные волосы? Какая кисть смогла бы улучшить правильный изгиб ее бархатных бровей? Какая помада осмелилась бы соперничать с коралловым цветом ее губ, сочных, как гранат?
Графиня смотрела на себя и упивалась собственной красотой без всякой другой мысли, но мало-помалу она впала в легкую задумчивость. В зеркале, стоявшем как раз напротив открытого окна, отражалось не только ее ангельское личико, но и ночное небо. Джемма совершенно бесцельно, шутя, стала считать в зеркале зажигавшиеся на небосклоне звезды. И вдруг ей показалось, что позади нее, на фоне звездного неба, мелькнула какая-то тень. Она быстро обернулась: в окне стоял человек. Джемма вскочила и хотела закричать, но неизвестный спрыгнул в комнату и, протянув к ней руки, умоляющим голосом произнес:
– Ради бога, сударыня, не кричите… Клянусь честью, вам нечего бояться, я не сделаю вам ничего дурного.
II
Джемма медленно опустилась в кресло. После появления неизвестного и произнесенных им слов в комнате воцарилось молчание, продлившееся несколько мгновений. За это время графиня успела быстрым и боязливым взглядом осмотреть человека, попавшего в ее комнату столь необычным образом.
Это был молодой человек лет двадцати пяти – двадцати шести, судя по внешности – простолюдин. На нем была калабрийская шляпа с широкой лентой, спадавшей ему на плечи, бархатная куртка с серебряными пуговицами и бархатные же шаровары, также с серебряными украшениями; он был опоясан шелковым красным кушаком с вышивкой и зеленой бахромой. Такие кушаки делают по образцу восточных, в Мессине. Наконец, кожаные гетры и сапоги дополняли этот не лишенный элегантности костюм горца, подобранный будто с намерением подчеркнуть все достоинства рослой фигуры его обладателя. Лицо незнакомца носило отпечаток чего-то дикого, но было вместе с тем необыкновенно красиво: ярко выраженные черты южанина, смелый и гордый взгляд, черные волосы и такая же борода, орлиный нос и белоснежные зубы.
Все это совершенно не успокоило Джемму, и неизвестный, видя, что она протягивает руку к столику, догадался, что графиня намеревается позвонить.
– Разве вы меня не поняли, сударыня? – произнес он на мягком сицилийском наречии, придавая голосу оттенок бесконечной кротости. – Я вовсе не желаю вам зла, напротив, если вы исполните просьбу, с которой я к вам пришел, то я буду боготворить вас. Вы хороши, как Мадонна, будьте же и добры, как она.
– Чего же вы хотите? – спросила Джемма дрожащим голосом. – И почему вы пришли ко мне таким странным образом и в столь поздний час?
– Если бы я искал встречи с вами обычным путем – с вами, дамой знатной, богатой и любимой человеком, обладающим почти королевской властью, – то весьма вероятно, что вы бы не приняли меня, человека бедного и простого. Не правда ли, сударыня? Но допустим даже, что вы бы меня выслушали, – все равно ответ вы дали бы мне нескоро, а мне некогда ждать.
– Что же я могу для вас сделать? – спросила Джемма, почти успокоившись.
– Все, сударыня, так как в ваших руках находится мое счастье или мои страдания, моя жизнь или моя смерть.
– Я вас не понимаю, объяснитесь.
– У вас служит молодая девушка из Баузо.
– Тереза?
– Да, Тереза, – продолжал неизвестный дрожащим голосом. – Эта девушка должна вскоре выйти замуж за лакея князя Карини, а между тем она моя невеста.