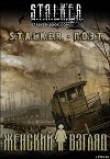Текст книги "Мертвая голова (сборник)"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
– Стойте!
Это слово произвело магическое действие: казалось, все замерли и устремили к Бруно тысячи любопытных взглядов.
– Чего тебе? – спросил палач.
– Хочу исповедаться, – ответил Бруно.
– Священника здесь нет, ты сам сказал ему уйти.
– У меня есть свой духовник. Вон он, тот монах, слева в толпе. Я буду исповедоваться только ему.
Палач отрицательно покачал головой, но люди, слышавшие слова Бруно, стали кричать: «Исповедника! Исповедника!» Дабы не злить толпу, палач вынужден был уступить. Все расступились перед монахом: это был невысокий молодой человек, почти мальчик, с темным цветом кожи, совсем худой. Он подошел к телеге и взобрался на нее. Бруно упал перед ним на колени. Это послужило знаком для всех: на мостовой, на улицах, на балконах, на крышах – всюду люди тотчас же опустились на колени. Один только палач остался сидеть верхом на лошади, да его помощники продолжали стоять, точно этих проклятых людей происходившее не касалось. Монахи запели соборную молитву, чтобы заглушить своими голосами исповедь.
– Я тебя долго искал, – сказал духовнику Бруно.
– А я ждал тебя здесь, – ответил Али.
– Я боялся, что они не сдержат данного мне слова, – продолжал Паскаль.
– Они выполнили свое обещание, я на свободе, – произнес юноша.
– Но теперь слушай меня внимательно.
– Да, да, говори.
– Справа от меня… – Бруно повернулся в сторону всем телом, так как его руки были связаны и иначе он никак не мог указать направление. – На том балконе, обтянутом золотыми тканями…
– Да, я вижу.
– Там женщина, молодая, красивая, с цветами в волосах…
– Вижу ее. Она стоит на коленях и молится, как и все остальные.
– Эта женщина – графиня Джемма де Кастельнуово.
– Кажется, под ее окном я ждал тебя, когда ты был ранен в плечо, – вспомнил Али.
– Да, эта женщина – причина всех моих несчастий. Она толкнула меня на мое первое преступление. Из-за нее я здесь.
– Я понял, отец.
– Мне не умереть спокойно, если она останется жить, счастливая и всеми почитаемая.
– Не тревожься об этом, – сказал мальчик.
– Спасибо, Али.
– Дай мне поцеловать тебя, отец.
– Прощай.
– Прощай.
Молодой монах поцеловал осужденного так, как это обыкновенно делает священник, давая грешнику отпущение грехов, затем спрыгнул с телеги и смешался с толпой.
– Вперед! – сказал Бруно.
И вся процессия повиновалась ему, будто он имел право командовать.
Все поднялись. Джемма, с улыбкой на устах, снова заняла свой трон. Шествие все приближалось к концу своего пути.
Подъехав к виселице, палач слез с лошади, поднялся на эшафот, взобрался по лестнице на перекладину и укрепил там свое знамя цвета крови. Удостоверившись, что веревка привязана хорошо, он сбросил верхнее платье, чтобы ничто не сковывало его движений. Тотчас же Паскаль соскочил с телеги, отстранил людей, желавших ему помочь, стремительно поднялся на эшафот и встал у лестницы. Монах поставил свой крест перед Бруно, чтобы приговоренный мог видеть его во время агонии. Конвой образовал вокруг эшафота круг, внутри которого остались только белые и черные монахи, палач, его помощники и сам осужденный.
Паскаль спокойно поднялся по лестнице, по-прежнему никому не позволяя помогать себе. Балкон Джеммы находился прямо напротив него. Некоторые даже заметили, что он посмотрел в сторону графини с улыбкой. В следующий момент палач накинул осужденному веревку на шею и сбросил с лестницы, а затем сам соскользнул по веревке с перекладины и всей своей тяжестью навалился на плечи жертвы. В это же время помощники палача, хватаясь за ноги Бруно, тянули его вниз. Но веревка не выдержала такой тяжести, и все висевшие на ней – приговоренный, палач и его помощники – покатились на эшафот. Первым поднялся Паскаль Бруно. Руки его во время казни развязались. Он поднялся в полной тишине. Из груди Паскаля с правой стороны торчал кинжал, который палач успел вонзить в него по самую рукоять.
– Негодяй! – воскликнул Бруно, обращаясь к палачу. – Негодяй! Ты не достоин быть ни палачом, ни бандитом! Ты не умеешь ни вешать, ни убивать!
С этими словами он вырвал кинжал из груди и вонзил его себе в самое сердце.
В толпе раздались страшные крики, началась давка: одни бросились прочь с площади, другие, наоборот, устремились к эшафоту. Тело Паскаля Бруно унесли монахи, а палача растерзал народ.
Вечером после казни князь де Карини обедал у монреальского епископа. Джемма, которая не могла быть принята у прелата, оставалась на вилле. Вечер был великолепен. В одно из окон комнаты, обтянутой голубым сатином, ясно можно было видеть остров Аликуди, а если приглядеться получше, то и острова Филикуди и Салина. Из другого окна открывался вид на парк, где росли апельсиновые, гранатовые деревья и пинии. Справа была видна гора Пеллегрино, от самого основания до вершины, а слева можно было разглядеть вдалеке Монреаль. У этого-то окна, где произошла сцена, открывающая наше повествование, и сидела графиня Джемма де Кастельнуово, внимательно разглядывая древнюю резиденцию нормандских королей. Она пыталась угадать в каждом спускавшемся к Палермо экипаже карету вице-короля. Но вот настала ночь, предметы потемнели, и их уже совершенно невозможно было различать. Графиня вернулась в свою комнату, вызвала камеристку и, уставшая от пережитых за этот день волнений, легла в постель. Она приказала закрыть окно, выходившее на море, опасаясь, как бы во время сна ее не продуло ветром с моря, другое же окно, наоборот, велела оставить приоткрытым, чтобы в ее комнату свободно проникал воздух парка, насыщенный запахом апельсинов, жасминов и сосен.
Князь довольно поздно возвращался от гостеприимного хозяина: часы на башне собора, построенного Вильгельмом Добрым, пробили одиннадцать, когда он сел в карету, запряженную его лучшими лошадьми. Получаса ему было вполне достаточно, чтобы доехать до Палермо, расстояние же от города до виллы он преодолел за пять минут. Князь спросил камеристку, где графиня, и получил ответ, что та очень устала и легла около десяти часов.
Князь быстро поднялся в комнату своей возлюбленной и хотел открыть дверь, но та оказалась заперта изнутри. Тогда он подошел к другой, потайной двери, что вела прямо в альков Джеммы и располагалась позади ее постели. Князь бесшумно открыл дверь и тихо вошел, боясь потревожить сон прекрасной графини. Очарованный ею, он на мгновение остановился. Алебастровая лампа, подвешенная к потолку на трех жемчужных нитях, мягко освещала комнату и совсем не мешала спящей. Князь склонился над Джеммой. Одеяло почти совсем не закрывало ее, а вокруг шеи было намотано боа, темный цвет которого выгодно оттенял белизну ее кожи. Князь, замерев, любовался этой неземной красотой. Но вскоре его поразила неподвижность Джеммы: он наклонился к ней еще больше и заметил странную бледность ее лица. Тогда князь приложил ухо к ее груди – Джемма не дышала. Он взял ее за руку, но она была холодна как лед. Князь крепко обнял любимую, чтобы согреть на своей груди, но в ту же секунду отстранился, испустив крик ужаса: голова Джеммы скатилась на пол.
На следующее утро под окном нашли ятаган Али.
Елена

Из всех парижских театров Большая Опера [18]– это именно тот театр, в который реже всего ездят смотреть на сцену. Хотя эти слова очень нелестны для сочинителей опер и балетов, однако же надо признаться, что это правда, даже если бы Сильфиде пришлось потерять крылышки, а дочери Дуная утонуть в недрах собственного отца. Такое признание тяжело, но необходимо. Увы! Приезжают смотреть балет, чтобы увидеть нечто другое; приезжают слушать певцов, чтобы услышать нечто иное.
В самом деле, «театра» больше в зрительной зале, чем на сцене, «театр» везде: в прелестных личиках – веселых и надушенных, свежих и розовых, которые грациозно выглядывают из лож; в светлых или черных кудрях, вьющихся по белым плечам, которые по очертаниям и формам красивее и изящнее статуй Кановы. Театр в улыбке, во взглядах, которые ищешь, смущенный и беспокойный. Уверенные и обольстительные, они идут к тебе сквозь молчаливую толпу, как надежда входит в сердце. Да, театр во всем этом, и еще более в задушевных разговорах, которые ведутся вполголоса и из которых ни одно слово не теряется.
Отнимите у Оперы эти создания, которые могут жить только при свете ее свечей, при блеске ее солнца; отнимите у нее все эти цветы, которые падают из одних рук в другие, – и Оперы не станет, Опера умрет.
Однажды после представления «Роберта» один из посетителей Оперы, у которого спросили его мнение о спектакле, ответил:
– Разумеется, это бесподобная музыка, вдохновенная, утонченная, но она не будет иметь успеха в Опере – в ней слишком много грохота, ничего не слышишь, когда разговариваешь.
Но все это – домашние тайны, и я очень неосторожен, что рассказываю их. Болтовня была бы превосходным занятием, если бы не заставляла нас проговариваться. И поскольку из всех пороков болтливость – самый несносный и самый непростительный, то я пускаюсь в рассказы про все эти маленькие тайны cepдца и мыслей, которые часто скрываются под бриллиантами и цветами, под улыбками и слезами.
Месяц тому назад я встретился в Опере с другом детства, я не видел его лет пять. В наши года это очень много: и сердце, и лицо меняются, особенно лицо, если оно подверглось испытанию самых разных климатов. Именно это и случилось с моим другом. Он путешествовал по морю, два года прожил в Мексике; горячее солнце порядочно закоптило его. Неудивительно, что я никак не мог его узнать.
Он подошел ко мне и подал руку. Я пожал ее, подумав: «Я его не знаю», но так как подобные случаи происходят нередко и человек, вращающийся в свете, вовсе не обращает внимания на такие мелочи, то и я с улыбкой поглядел на незнакомца и приветливо произнес:
– Добрый вечер, мы очень давно не виделись.
Прошу заметить, как ловко построена эта фраза: я не сказал ему ни «вы», ни «ты».
– Да-да, – ответил мне незнакомец, – прошло уже несколько лет, и я очень рад, что ты узнал меня.
Положение мое становилось затруднительным. Он прибавил:
– Ты льстишь мне, как и должен друг детства. Когда ты вернешься из дальнего путешествия, я отблагодарю тебя тем же.
Как теперь признаться ему, что я вовсе не знаю его и лишь из слепой вежливости принимаю его в число своих друзей? Прямая дорога – самая короткая и самая удобная, не раз говаривали мне, поэтому я взял его за обе руки, сжал их по-дружески и сказал с улыбкой:
– Нет, мой милый друг, я не принимаю твоих похвал, потому что вовсе их не стою. Я уверен, что знаю тебя очень близко, но в эту минуту совершенно не узнаю тебя.
– Прекрасно, ты откровенен, но, признаюсь, я очень огорчен: видимо, мексиканское солнце не на шутку обезобразило меня. Здесь, в Париже, все встречают меня с недоумением. Решительно никому не советую путешествовать по Мексике: когда оттуда приезжаешь, друзья тебя не узнают… Не хочу мучить тебя дольше…
И он назвал свое имя.
– Ах! Милый мой Гастон! – закричал я. – Прошу у тебя прощения, но сердце мое не виновато. Не хочу льстить тебе… но в самом деле ты немного переменился… Надеюсь, ты надолго останешься в столице?
– Это зависит от нашего министра иностранных дел, он держит мою судьбу и мои поездки в своих руках.
– Он, кажется, во зло употребляет свою власть.
– А ты?.. Ты расставался с Парижем? Путешествовал в Версаль и Сен-Клу?
– Я ездил и подальше.
– Не важно, – произнес Гастон, взяв меня под руку, – ты, верно, знаешь всю Оперу?
– Наизусть.
– Так познакомь меня с ней!
– Изволь, но за это я не попрошу тебя познакомить меня с Мексикой: я вовсе не завидую физиономии, которую ты оттуда привез.
– Позже ты сделаешь мне комплименты, а теперь я задам тебе только один вопрос.
Он насильно вывел меня в коридор.
– Видишь ли ты, – сказал он мне, – эту молодую даму в третьей ложе?
– Вижу.
– Знаешь ее?
– Разумеется.
– Заметил ли ты, как она бледна?
– И уже не первый день…
– Она, мне кажется, тоскует и страдает…
– Страдает, да…
– Кто она?
– Графиня де Сен-Жеран.
– Когда я вошел в залу, ее бледное лицо поразило меня – оно неподвижно, словно из мрамора. Графиня не двигается и выглядит, будто сидячая статуя. А теперь, когда начался третий акт, слезы навернулись на ее глаза. А всего страннее мне показалось то, что она, по-видимому, вовсе не замечает, что плачет: слезы медленно текут по ее лицу, а она и не думает отирать их. Лицо сохраняет прежнюю неподвижность – неподвижность чрезвычайно горькую и печальную, уверяю тебя. За этой бледностью явно скрывается душевное страдание.

– Ты прав, за ее бледностью и слезами скрывается самая плачевная история. Давно уже я слежу взглядом и мыслью за этой женщиной, которую я знал в прежнее время… не полумертвой и убитой, как теперь, а молодой, беспечной и веселой, как ребенок… Она улыбалась при каждом слове и радостно пела, как поет полевая птичка на восходе солнца.
– Ах, друг мой, – сказал мне Гастон, – не любопытство, a участие, самое чистое, самое искреннее участие заставляет меня просить, чтобы ты рассказал мне эту историю.
– Хорошо, пойдем и сядем в фойе. Я расскажу тебе, как я увидел ее в первый раз и что узнал или разгадал о ее жизни, в которой так много страдания.
В фойе было немного народа, однако мы выбрали самый уединенный угол.
– В моем рассказе, – сказал я Гастону, – не будет последовательности. Я расскажу тебе в произвольном порядке о том, что видел сам, о том, что пересказали мне другие. То, что я сам видел, произошло в течение двух визитов, которые я нанес генералу Сен-Жерану, причем между визитами моими прошло более года. Меня представили ему, когда он был еще полковником; он жил тогда, кажется, в Перпиньяне, я в продолжение шести месяцев вместе с офицерами его полка бывал у него каждый вечер.
Много времени спустя, проезжая случайно через Мец, я узнал, что полк Сен-Жерана стоит тут. Я решил, что обязан нанести ему визит. Тогда ему было лет пятьдесят: черты его были грубыми, выражение лица – мрачным, голос – жестким, глаза – проницательными. В полку его очень боялись, поскольку был он с подчиненными строг до нелепости, упрям в поведении; его не стали бы терпеть, если бы он не был удивительно храбр, честен и благороден.
Он казался настоящим воином старых времен. Только случая не доставало ему, чтобы сравниться с известнейшими полководцами. Все воспевали его видимые недостатки из уважения к достоинствам, которые он мог продемонстрировать; и этот человек был замечателен уже тем, что заставлял уважать себя и считаться с собой.
Мне говорили, что полковник женился. Я предполагал, что он, подобно многим другим, женился по расчету. Думая о летах и о наружности графа, я представлял себе его жену уже не молодой, но еще и не старой. Я мысленно видел ее печальной и молчаливой, очень послушной, с глазами, еще блестящими от слез, недавно отертых. Я искренно жалел ее.
Я поехал к полковнику, он принял меня в маленькой гостиной на первом этаже. Стеклянные двери были открыты и выходили в красивый ухоженный сад, полный цветов. Я наслаждался их нежным благоуханием; ветви сиреневых кустов, качаясь от ветерка, заглядывали в комнату, птички пели на деревьях, все вокруг нас дышало радостью. Мы толковали обо всем на свете, о службе, военной дисциплине, стратегии и многом другом.
Мы говорили больше часа, как вдруг раздался голос из соседней комнаты – голос молодой женщины, свежий и чистый. Она весело напевала какую-то песню.
– Замолчи, Елена! – закричал полковник, отворяя дверь. – Я занят, перестань шуметь.
– Кто там? – спросил я, будучи сильно удивлен звуками этого веселого и беспечного голоса и реакцией полковника. Я и не подумал, что вопрос мой звучит неприлично.
– Моя жена и ее сестра работают в кабинете, – ответил он.
Я решил, что поет ее сестра, молоденькая и незамужняя.
Мы продолжили прежний разговор; полковник рассказывал мне про свои военные походы, я слушал его рассеянно. Никогда еще не казался он мне таким холодно-строгим, никогда еще я не чувствовал, какую ледяную атмосферу распространяет вокруг себя этот человек.
Вдруг я увидел вдалеке, в саду, двух женщин; кусты временами скрывали их от моего взора. Без сомнения, это были жена полковника и ее сестра; они вышли из рабочего кабинета в сад. Я внимательно рассматривал их. Одной, казалось, было лет тридцать, она была высока, смугла, немного бледна. В ней я заметил что-то болезненное, что-то похожее на страдание. На ее руку опиралась девушка… Я всегда буду помнить ее очаровательное личико, хотя теперь мне кажется, что я видел ее во сне, а наяву она никогда не существовала прежде.
Представь себе девушку лет семнадцати, стройную, тоненькую, грациозную, с кожей белой, как мрамор, но с нежно-розовым оттенком, словно у распускающейся розы. Светло-русые локоны обрамляли ее прелестное личико…
На девушке было белое платье с поясом. Она улыбалась и срывала цветы, то нагибаясь к траве, то протягивая руки к высоким кустам.
Я смотрел на нее с восторгом, в то время как полковник продолжал рассказывать о военных маневрах, которые вовсе не занимали меня и о которых я, разумеется, не слушал.
Наконец он замолчал и, проследив за моим взглядом, произнес:
– Надо познакомить вас с женой. – И крикнул громким голосом, тем самым, от которого часто дрожали его подчиненные: – Елена!
Я не сводил глаз с двух женщин, желая увидеть, какая из них вздрогнет при этом имени, как колодник вздрагивает при звуке своих цепей, но ни та, ни другая не откликнулись.
– Елена! Елена! – повторил полковник.
К нам побежала, с цветами в руках, очаровательная девушка, которой я так долго любовался. Это была жена полковника.
Увидев меня, она остановилась, покраснела, бросила цветы и приняла вид столь важный и солидный, что я не смог сдержать улыбки… Так она казалась еще милее.
Полковник пригласил меня позавтракать. Елена угощала нас с невыразимой грацией. Я наблюдал за ней с живейшим участием: старался угадать, о чем думает эта прелестная женщина, по ее голосу и взгляду… Елена была счастлива. Она не знала еще жизнь, она ждала ее с надеждой и сохраняла беспечность юности, вовсе не боясь этого человека, столь строгого и холодного. Чего она могла бояться, с ее простым и чистым сердцем? Песни и смех – вот и вся ее жизнь: люди не могли запретить ей этого счастья, этой радости, которая светилась на ее лице, как солнце в небе.
Я глядел на нее, и меня покинула невольная грусть, охватившая меня часом прежде. Я сказал себе, что, вероятно, некоторые души созданы для счастья мирного, простого, спокойного. Они спускаются с чистых небес и проходят через радости и горести жизни так, что даже не замечают или не понимают их. Я сказал себе, что юная Елена по крайней мере будет счастлива вдали от высшего света, от дыхания которого сгорают самые чистые крылья и горькими слезами обливаются невинные глаза, поднятые к Богу или опущенные долу.
После завтрака полковник собрался ехать верхом. К крыльцу подвели лошадь. Елена подошла к ней, погладила, потрепала ее гриву, поговорила с ней своим ласковым детским голосом. Когда муж хотел пришпорить лошадь, Елена приподнялась на цыпочки, подставила супругу лоб для поцелуя, хлестнула животное веткой сирени и громко засмеялась, когда лошадь пустилась в галоп.
Через час я отправился в дорогу, невольно думая об этой прелестной женщине, свежей, как цветы, которые она срывала. Почему ее очаровательное личико и веселое пение внушали мне печальные мысли? Ах! В этом счастье не было будущности. Все оно покоилось на легком занавесе, скрывавшем от этой женщины и свет, расстилавшийся перед ней, и сердце, бившееся в ней самой.
Два года я провел в Италии и лишь прошлой зимой вернулся во Францию.
Полковника Сен-Жерана произвели в генералы. Я узнал, что он причислен к штабу парижского коменданта. Тут я и вспомнил о юной Елене, веселой и беспечной, мысли о которой невольно печалили меня и которая два года тому назад предстала передо мной с цветами в руках и с радостью в сердце. Мне казалось, что я вновь вижу ее в этом очаровательном цветистом садике, где склоненные деревья защищали ее от палящих лучей солнца: я слышал голос полковника, звавшего Елену… а она, нежная, юная, счастливая, подставляла ему свою головку для поцелуя, как дочь отцу…
«Слава богу, – думал я, – если ей до сих пор удавалось сохранять спокойствие, если душа ее живет в сладком незнании. О, если бы за эти два года она не встретила ни ран, ни горя, если бы осталась такой, какой была прежде, доверчивой ко всему, не познанной ни собою, ни другими, лелеемой мужем и неприступной для всех».
Не могу высказать тебе, друг мой, как я волновался, как беспокоился, вспоминая о ней. Я едва знал ее, а думал о ней столько же, сколько о сестре или жене. Мне хотелось угадать, что с ней сталось… Я радовался и в то же время боялся, что увижу ее, а между тем, уверяю тебя, в душе я ничего не чувствовал к ней, кроме живейшего участия. Я видел ее при муже, такой чистой, невинной, простодушной, доверчивой, что любить ее иначе как сестру или друга казалось мне делом бесчестным.
На другой день после возвращения в Париж я узнал, где сейчас живет генерал. На этот раз его дом находился в модном квартале города. Прежде чем войти в дом, надо было миновать четырехугольный каменный двор. Не знаю почему, но я жалел об утопающем в сирени и розах садике в Меце, притом в этот день небо было серым, дождик капал с самого утра; в последний же раз, когда я видел Елену, солнце светило так ярко, что, казалось, весь мир был озарен сиянием.

Я вошел в комнаты, они были просторны, украшены роскошно, но в строгом вкусе. Плотные занавески из толстой зеленой материи мешали уличному свету проникнуть в гостиную. Вещи были расставлены строго систематически, мебель стояла словно для показа, а не для домашнего удобства. Ковры смягчали звук шагов. В красивых горшках склоняли головы яркие цветы, их полуувядшие ветки, казалось, грустили о земле и солнце. В доме было холодно и мрачно.
О, я был уверен, что тут не скажут Елене, как ребенку, чтобы она не пела так громко. Юная красавица стала теперь знатной дамой – прошло два года. Наконец, меня ввели в дальнюю гостиную, где сидела хозяйка дома. Обо мне не доложили; она была занята или невнимательна и не заметила, как я вошел.
Елена в длинном шелковом платье сидела в широком кресле спиной к двери. Прекрасный ребенок, которому было не больше года, лежал на ковре у ее ног и играл золотыми браслетами, которые мать сняла со своих рук и отдала ему. Елена не смотрела на сына, а вглядывалась в окно, через которое можно было видеть маленький кусочек неба.
Было что-то грустное в позе этой женщины, я находил в ней отпечаток тайного страдания. Сердце мое неожиданно сжалось. Я не смел двинуться с места и смотрел на нее, грустную, на нее, которую я видел беспечно распевавшей веселые песенки… Теперь Елена уже не пела – она думала… Однако я решился подойти; она медленно обернулась и встала.
Я думал, что вижу сон… Нет, это не она!.. Глаза мои не могли узнать ее… Сначала я подумал, что это ее сестра, похожая на нее по летам, по грации, по общим чертам лица. Но нет, это была Елена!
Графиня очень похудела. Ее очаровательное личико, прелестное по-прежнему, было страшно бледно; на щеках не было румянца; в прекрасных голубых глазах вместо прежней живости появилась задумчивая тоска; губы ее, прежде всегда улыбавшиеся, были плотно сжаты, а опущенные уголки рта придавали лицу выражение печали, близкой к слезам.
Друг мой, если бы ты видел ее лицо, молодое и уже такое печальное, если бы ты видел страдание, которое искажало ее лицо… ты, как и я, почувствовал бы, что тебе хочется плакать.
Она взглянула на меня и не узнала: воспоминание двухлетней давности было так далеко от нее!.. Через несколько мгновений она улыбнулась и приветливо произнесла:
– Да, да… помню… В Меце… в садике… в прекрасный весенний день… два года тому назад…
– Точно так, графиня. Я только что воротился из продолжительного путешествия по Италии и пoспешил узнать о вашем здоровье и о вашем супруге… Я искренне рад, что его произвели в генералы.
Елена ответила кивком головы; мы сели беседовать. Графиня отдавала долг учтивости, но и это было ей в тягость; сам я почти не слушал, а только смотрел на нее, пытаясь угадать причину этой странной перемены, происшедшей за такое короткое время. Но все мои предположения ни к чему не привели.
Я спросил у нее: не больна ли она? Она ответила, что нет, потом тотчас поправилась, пробормотала, что чувствует себя не очень хорошо, и в ту же минуту переменила разговор. Я посмотрел на ребенка – он, казалось, был полон сил и жизни, стало быть, никак не мог беспокоить мать. Не перестал ли генерал сдерживать свой крутой и грубый характер, не его ли железная рука гнетет эту юную голову, которая, как цветок, клонится к земле?.. Я остановился на этой последней мысли. Явился генерал.
Он дружески подал мне руку, потом подошел к жене и поцеловал ее в лоб с нежностью, которая удивила меня. Он ласково побранил ее за то, что она не выезжает гулять, что ведет слишком затворническую жизнь. Сказал, что злится на свои служебные дела, которые беспрестанно отвлекают его от нее. Если бы Елена когда-нибудь любила мужа, то это проявление заботы было бы ей приятно. Живя с ней, старый солдат несколько смягчился: он стал нежным и ласковым… Наконец, мне стало казаться, что все изменилось в этом доме. Елена – не та женщина, которую я видел, генерал – не тот человек, которого я знал: его грубая природа уступила этому ребенку, тщедушному и слабому. Я был тронут развернувшейся на моих глазах сценой. За эти два года волосы генерала совершенно поседели, он мог любить Елену только как отец, она могла отвечать ему любовью дочери.
Вскоре завязался задушевный разговор. Граф с гордостью показывал мне сына, он уже видел в нем будущего генерала и играл с ним, прикрепляя свои кресты на грудь ребенка. Он рассказывал мне о Париже, о зимних удовольствиях, о балах, на которых восхищались его Еленой, говорил о ее успехах с жаром, словно юноша. Елена улыбалась той печальной улыбкой, от которой мне становилось не по себе.
Через несколько минут я поднялся и собрался уезжать. Когда я отворял дверь, лакей доложил о графе Осмонде де Сериньи. Вошел адъютант генерала, красивый и высокий молодой человек, черноволосый, несколько бледный. Я еще кланялся графине Елене и смотрел на нее, когда произнесли имя адъютанта.
Я вздрогнул, заметив как на бледном лице Елены мелькнул румянец, едва заметная дрожь пробежала по ее расслабленному телу. Никто не заметил бы этого, но я… я предчувствовал… я угадал.
«Бедная Елена!» – думал я, быстро спускаясь по лестнице.
Увы, я узнал тайну страдания и бледности этой молодой женщины… Hесчастная! Она любила графа де Сериньи, а может быть, боялась, что полюбит его. Как это случилось? Об этом я узнал позже, вместе с прочими подробностями этой истории. Но видишь ли, друг мой, эта женщина была спокойна и счастлива всем тем, чего не знала в жизни, счастлива благодаря своей неземной невинности и чистоте, жила сладкими воспоминаниями о своей юности, ребенком, который играл у ее ног и учился уже называть ее матерью.
Два года назад она не знала других чувств, других радостей, другого счастья, но зато она не знала и горьких слез, проливаемых в безмолвии и уединении. Тогда она находилась между небом и землей, между счастьем блаженных и счастьем познавших жизнь людей; она улыбалась и пела, рвала цветы; она была игрива, как дитя, нежна, как мать. Старик, изменивший ради нее свой суровый нрав, был ее покровителем, ее другом; она отдавала ему и сыну все мысли и все радости своей юной жизни…
Но вот генерал переехал в Париж, и молодой адъютант его стал часто бывать с ней; служба и рок прислали его в тот самый дом, где жила эта молодая женщина, защищенная от бурь жизни… Оба они еще были детьми… Они поняли, или, лучше сказать, угадали друг друга, ибо задрожали и побледнели при этой внезапной мысли, которая ворвалась к ним в сердца. Так они жили несколько месяцев, боясь друг друга; души их беспокоились и волновались, но ни он, ни она не смели заглянуть в себя, потому что обоих терзало предчувствие, предвестник беды или тяжкого проступка. Осмонд стал печален и мрачен, Елена – задумчива и бледна, но ни одним словом, ни взглядом, ни единым знаком не нарушали молчание эти двое, скрывавшие свои чувства.
Юноша опирался на свою силу, девушка держалась благодаря покорности судьбе, но песни замерли на ее устах, радость умерла в ее сердце, улыбка исчезла с лица. Когда она гуляла, благоухающие цветы тянулись к ней, но она и не думала рвать их. Ее руки с трепетом поднимались к небу, она просила покровительства или убежища… О, друг мой, как жалка стала Елена, когда внезапно и полностью подверглась всем возможным опасностям и горестям.
Сериньи был человеком благородным и честным, он любил Елену. Но любовь не зависит ни от нас, ни от нашей воли, и мы не имеем над ней никакой власти. Он любил Елену без расчета, сам не зная, к чему приведет его любовь… А любовь привела его к безмолвному страданию: он понял Елену и любил ее честно и чисто. Подло было бы вынудить такую женщину, с такой душой и с таким сердцем, забыть о супружеском долге. Он еще помнил своего седовласого отца, и это священное воспоминание заставляло его уважать генерала.
Однако же они виделись нередко, сиживали в гостиной одни, и силы бедной Елены истощались в борьбе и страдании. Однажды вечером, когда генерала не было, приехал Сериньи. Узнав, что Елена одна, он не решался войти и остановился на пороге, но лакей доложил о нем, стало быть, и адъютант не смел уйти. Он поклонился Елене и сел с другой стороны камина. Он хотел заговорить о погоде, но слова невольно замирали на его губах: юноша не мог отвести глаз от прелестного лица Елены. Бледная, но спокойная, она держала сына на руках и пристально смотрела на дитя; кажется, она думала только о нем… Это было тяжкое испытание, на лице юноши выступил горячий пот.
Что происходило в сердце молодой Елены? Какая мысль, посланная ей небом или совестью, помогала ей в эту решающую минуту? Где она взяла такую силу и такое мужество? Какую молитву, похожую на мольбу умирающего, произносила она? Это тайна, может быть, и для нее самой, и для всех нас!..
Графиня медленно повернулась к юноше, лицо ее светилось чистейшим целомудрием: на нем отражались спокойствие и покорность судьбе.
– Граф де Сериньи!.. – произнесла она.
При звуках ее голоса юноша вздрогнул, как будто очнулся ото сна; он только поднял голову, увидев перед собой чистое личико возлюбленной, сложил руки, нe смея опуститься на колени, и замер.