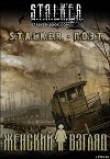Текст книги "Мертвая голова (сборник)"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Теодор обернулся и вскрикнул от радости. Это был его друг Захария Вернер. Молодые люди бросились друг другу в объятия.
– Куда ты идешь? – поинтересовался Гофман.
– Что ты тут делаешь? – в тот же миг спросил его Захария.
– Я приехал вчера, – ответил Теодор, – видел казнь госпожи Дюбарри и, чтобы развеяться, пошел в Оперу.
– Я живу здесь уже более шести месяцев, каждый день вижу, как казнят по двадцать – двадцать пять человек, и, чтобы развеяться, хожу играть. Не пойдешь ли ты со мной?
– Нет, благодарю.
– Напрасно ты так, мне здесь везет. С твоей удачливостью ты мог бы обогатиться. Тебе, наверное, было ужасно скучно в Опере, ты ведь знаток музыки. Пойдем со мной, и ты услышишь музыку другого рода.
– Музыку?
– Да, звон золотых монет. Кроме того, в том месте, куда я направлюсь, есть всевозможные удовольствия: прелестные женщины, прекрасный ужин и азартная игра.
– Благодарю, мой друг, но это невозможно, я обещал, я поклялся…
– Кому?
– Антонии.
– Стало быть, ты ее видел?
– Я ее люблю, мой друг, обожаю.
– А, понимаю, видимо, именно это тебя и задержало. И в чем же ты поклялся?
– Я поклялся ей не играть и… – Гофман колебался.
– И в чем еще?
– И быть ей верным, – прошептал он.
– Тогда тебе не стоит ходить в сто тринадцатый.
– Что это еще за сто тринадцатый?
– Это номер дома, о котором я тебе говорил. Я ни в чем не клялся, поэтому и иду туда. Прощай, Теодор.
– Прощай, Захария.
И Вернер ушел, между тем как Гофман остался стоять на месте. Когда Вернер скрылся, Гофман понял, что забыл спросить у Захарии его адрес. Единственным местом, где он мог теперь отыскать своего друга, был игорный дом. Но этот адрес запечатлелся в памяти Гофмана так, будто он был вырезан на двери рокового дома огненными буквами.
Однако все это немного успокоило совесть юноши. Природа человека так устроена, что он полон снисхождения к самому себе, потому что снисходительность и есть эгоизм. Теодор пожертвовал игрой ради Антонии и думал, что сдержал клятву, совершенно позабыв о том, что он стоит тут, на углу бульвара и улицы Сен-Мартен, именно потому, что готов нарушить другую данную им клятву.
Но, как мы уже сказали, твердость, проявленная в беседе с Вернером, давала ему право, как он считал, на проявление слабости по отношению к Арсене. Молодой человек из двух крайностей выбрал нечто среднее: вместо того чтобы вновь вернуться в Оперу, куда его так настойчиво увлекал демон-искуситель, он решился ждать танцовщицу у служебного выхода.
Гофман слишком хорошо знал, как устроены театры, чтобы не отыскать этот подъезд в короткое время. Он увидел на улице Бонди длинный и узкий проход, едва освещенный, грязный и сырой, в котором мелькали, подобно теням, люди в нищенских одеждах, и понял, что через эту дверь входят и выходят простые смертные, которых румяна, белила, газ, шелк и блеск преображали в богов и богинь.
Время шло, снег падал густыми хлопьями, но Гофман был так взволнован этим чудным явлением, таившим в себе что-то сверхъестественное, что даже не чувствовал холода, который, казалось, преследовал прохожих. Напрасно юноша сдерживал почти осязаемые пары своего дыхания: руки его оставались пламенными, лоб – влажным. Он стоял неподвижно, прислонившись к стене и устремив взгляд на узкий проход. А снег тем временем медленно, как саваном, покрывал молодого человека, и студент в своей фуражке и немецком сюртуке мало-помалу превращался в мраморную статую.
Наконец, из этого чистилища стали выходить первые освободившиеся участники спектакля: вечерняя стража, потом машинисты, затем вся эта безликая толпа, живущая при театрах, потом артисты мужского пола, переодевающиеся проворнее женщин, потом сами женщины, и, наконец, прелестная танцовщица. Гофман узнал ее не только по хорошенькому личику и походке, отличавшей ее от других, но еще и по черной бархотке на шее, на которой поблескивало странное украшение, вошедшее в моду в эпоху террора.
Едва Арсена показалась в дверях, к подъезду подкатилась карета. Подножка опустилась, и, прежде чем Гофман успел пошевелиться, танцовщица легко запрыгнула в карету. За стеклом мелькнула тень, в которой Теодор силился узнать мужчину с авансцены, и приняла в свои объятия прелестную нимфу. Потом, хотя никто не сказал кучеру, куда ехать, он стегнул лошадей, и они помчались галопом.
То, что мы сейчас описали, произошло с молниеносной быстротой. Гофман испустил отчаянный крик при виде удалявшейся кареты, отделился от стены, подобно выходящей из своего углубления статуи, и, стряхнув снег, покрывавший его, кинулся в погоню за экипажем. Но экипаж мчали вперед две сильные лошади, и молодой человек, как бы ни был стремителен его безрассудный бег, не мог догнать их. Пока он мчался по бульварам, дело его было еще не так безнадежно, даже на улице Бурбон-Вильнёв, переименованную в улицу Нового Равенства, все шло не плохо. Но, достигнув площади Побед, ставшей площадью Национальной Победы, экипаж свернул вправо и исчез.
Тогда, потеряв из виду карету и не слыша более стука колес, молодой человек замедлил бег, а вскоре и вовсе остановился. На углу улицы Нёв-Эсташ он прислонился к стене, переводя дух. Оглядевшись вокруг и не заметив следов экипажа, юноша, поразмыслив немного, решил, что пришло время вернуться домой.
Гофману нелегко было выбраться из этого лабиринта улиц от церкви святого Евстафия до Железной набережной. Наконец, благодаря многочисленным дозорам, разъезжавшим по улицам, благодаря тому, что документы юноши были в полном порядке, благодаря отметке в подорожной, поставленной на заставе и указывающей на то, что он приехал в Париж только накануне вечером, Теодор получил от народной стражи такие верные указания, что быстро добрался до своей гостиницы. Очутившись в ней, молодой человек уединился в своей спальне, но на самом деле его незримо сопровождало жаркое воспоминание.
С этой минуты Гофман постоянно был во власти двух видений. Когда одно из них исчезало, другое занимало его место. Первое видение являло собой бледное истерзанное лицо Дюбарри, которую то усаживали в повозку, то тащили на эшафот. Это видение сменялось другим – притягательным и прелестным образом танцовщицы, стремившейся из глубины сцены к передним подмосткам, порхающей с одной стороны зала к другой.
Гофман предпринимал всевозможные усилия, чтобы избавиться от преследующего его призрака. Он достал из своего сундука кисти и начал рисовать; вынул скрипку из футляра и принялся играть; попросил бумаги, перо и чернил и писал стихи.
Но написанные им стихи были посвящены Арсене, наигрываемая им ария была той, при звуках которой она появилась на сцене, и взмывающие ввысь ноты будто возносили ее на своих крыльях. Наконец набросанные им картины оказались ее портретом с бархоткой, закрепленной на шее этим странным украшением.
В продолжение всей следующей ночи, дня, другой ночи и другого дня Гофман видел только одно: фантастическую танцовщицу и не менее фантастического доктора. Между этими двумя существовала такая связь, что Гофман не мог разделить их даже в мыслях. В продолжение этого видения – летавшей над сценой Арсены – юноша слышал не звуки оркестра, но тихий голос доктора и стук его пальцев по табакерке из черного дерева. Время от времени молодого человека ослепляли тысячи искр – это было сияние табакерки доктора и пряжки танцовщицы. Какая-то невидимая нить, казалось, связывала бриллиантовую гильотину с бриллиантовой мертвой головой. Теодора поражала неподвижность взгляда доктора, который, похоже, по собственному произволу то приближал, то заставлял удаляться прелестную танцовщицу. Его глаза напоминали глаза змеи, гипнотизирующие маленькую птичку.
Мысль отправиться в Оперу посещала Гофмана сто тысяч раз. Но пока не наступил роковой час, Гофман дал себе слово не поддаваться искушению. Он пытался противостоять ему всеми способами: во-первых, прибегая к своему медальону, во-вторых, пробуя писать Антонии. Но, когда он открывал медальон, лицо Антонии, казалось, принимало такое унылое выражение, что Гофман спешил поскорее закрыть его. Первые строки его письма были так запутанны, что он разорвал десять писем, прежде чем дошел до третьей доли первой страницы.
Наконец, прошел и второй день. Миг открытия театра приближался. Пробило семь часов, и при этом последнем призыве Гофман сбежал с лестницы и полетел в направлении улицы Сен-Мартен.
На этот раз менее чем за четверть часа, не спрашивая ни у кого дороги, как будто невидимый проводник указывал ему путь, юноша очутился у подъезда Оперы. Но странное дело: у этого входа не толпились, как два дня тому назад, зрители. Однако юноша не придал этому особого значения. Гофман бросил шесть франков кассирше, взял билет и поспешно вошел в зал.
С ним произошла страшная перемена: его убранство изменилось, да и заполнен он был лишь наполовину. Вместо прелестных дам и щеголеватых господ, которых Гофман надеялся опять встретить, он видел только женщин в кафтанах и мужчин в республиканских куртках. Больше не было ни драгоценностей, ни цветов, ни обнаженных плеч, дышавших аристократической негой. Красные шапки и круглые чепцы, украшенные огромными национальными бантами, темные платья и грустные лица – вот что предстало взору юноши. В противоположных углах зала стояли два безобразных бюста, два перекошенных гримасой лица, одно – улыбающееся, другое – печальное: бюсты Вольтера и Марата.
Авансцена едва освещалась и казалась мрачной и пустой. Декорация пещеры оставалась, но льва не было. Два соседних кресла пустовали. Гофман занял одно из них – это было то самое место, которое он занимал прежде. Место, где сидел доктор, осталось пустым.
Весь первый акт Гофман не обращал внимания ни на оркестр, ни на актеров. Эта музыка была уже знакома ему, и он успел оценить ее при первом исполнении. До актеров ему и вовсе не было дела: он пришел не затем, чтобы смотреть на них, – он пришел ради Арсены.
Занавес поднялся во втором акте, и начался балет. Вся душа, все сердце, самое существо молодого человека изнывали в ожидании. Он предвкушал появление танцовщицы. Вдруг Гофман испустил крик: в роли Флоры, что должна была исполнять Арсена, предстала не она.
Появившаяся на сцене женщина была ему незнакома и ничем не отличалась от всех прочих. Тело Гофмана обмякло, он весь осунулся и, тяжело вздохнув, посмотрел вокруг себя. Доктор сидел на своем прежнем месте, только на нем не было его бриллиантовых пряжек, перстней и табакерки с мертвой головой. Пряжки его были медными, перстни – позолоченными, а табакерка – из гладкого серебра. Доктор ничего не напевал и не отбивал такт.
Как он здесь очутился? Гофман не мог этого сказать. Молодой человек не заметил, откуда он появился.
– О, сударь! – воскликнул Гофман.
– Лучше говорите «гражданин», мой юный друг, и даже обращайтесь ко мне… если можете, на «ты», – произнес в ответ доктор, – или моя голова слетит с плеч, впрочем, и ваша тоже.
– Но где же Арсена? – спросил Теодор.
– Арсена? Похоже, ее лев, не спускающий с нее глаз, заметил, как позавчера она переглядывалась с каким-то молодым человеком, сидевшим в креслах. Кажется, этот юноша даже осмелился преследовать их карету. Одним словом, вчера он разорвал контракт Арсены, и она не числится больше в театре.
– Но как директор мог это допустить?..
– Мой милый друг, директор больше всего дорожит своей головой, хотя стоит признать, что голова это прескверная. Но он привык к этой и считает, что другая худо у него приживется.
– Ах, боже мой! Так вот почему этот зал так мрачен сегодня! – вскрикнул Гофман. – Вот почему нет больше цветов, бриллиантов и драгоценностей. Вот почему вы сняли ваши бриллиантовые пряжки, перстни, вот почему при вас нет табакерки. Вот почему по обеим сторонам сцены вместо бюстов Аполлона и Терпсихоры стоят эти скверные пародии! Тьфу!
– Что вы такое говорите! – воскликнул доктор. – Где вы видели такой зал, что вы описываете? Когда вы видели на мне бриллиантовые пряжки и перстни? О какой табакерке вы толкуете? Где вы, наконец, встречали бюсты Аполлона и Терпсихоры? Вот уже два года прошло с тех пор, как цветы не цветут, как бриллианты превратились в ассигнации, а все драгоценные вещи расплавлены на жертвеннике отчизны. Что касается меня, то я, слава богу, никогда не носил других пряжек, кроме этих медных. У меня никогда не было другого кольца и другой табакерки. А если возвращаться к вопросу о бюстах Аполлона и Терпсихоры, то они, конечно же, были здесь прежде. Но друзья человечества разбили бюст Аполлона и заменили его своим наставником, Вольтером. Друзья народа разрушили бюст Терпсихоры, чтобы поставить на его месте свое божество – Марата.
– О! – воскликнул Гофман. – Это невозможно! Я говорю вам, что позавчера этот зал благоухал, пестрел цветами, ослепительными нарядами и утопал в блеске бриллиантов. Вместо этих площадных торговок в кафтанах и бродяг в простых куртках здесь сидели благородные дамы и господа. Я говорю вам, что на ваших ботинках были бриллиантовые пряжки, на пальцах – бриллиантовые перстни, а табакерку вашу украшала мертвая бриллиантовая голова. Говорю вам…
– А я, в свою очередь, хочу вам заметить, молодой человек, – произнес доктор, – что позавчера она была здесь, и ее присутствие преображало все вокруг. От одного ее дыхания вырастали розы, поблескивали бриллианты и драгоценности. Вы ее любите, юноша, вы смотрели на зал сквозь призму любви. Арсены тут больше нет, и ваше сердце мертво, в вашем взоре сквозит разочарование, и вы замечаете миткаль, ситец, толстое сукно, красные шапки, грязные руки и сальные волосы. Одним словом, вы видите свет таким, каков он есть.
– О боже мой! – вскрикнул Гофман, обхватив голову руками. – Неужели все так и есть и я настолько близок к сумасшествию?!
Кофейня
Гофман вышел из этого летаргического сна только тогда, когда почувствовал, что чья-то рука опустилась ему на плечо. Он поднял голову: вокруг было темно и тихо. Театр без огня казался остовом театра, полного жизни, который он видел прежде. Один сторож прохаживался по его рядам. Больше не было ни света люстр, ни оркестра, ни шума. Только чей-то голос шептал ему на ухо:
– Гражданин, гражданин, что вы здесь делаете? В Опере, конечно, иногда спят, но это не место для ночлега.
Гофман посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос, и увидел маленькую старушку, дергавшую его за воротник сюртука.
Это была билетерша, которая, не зная намерений молодого человека, не хотела покидать зал, не выпроводив его.
Впрочем, пробудившись ото сна, Гофман не пытался сопротивляться. Он встал, тяжело вздохнув, и прошептал: «Арсена».
– Ах, да! Арсена, – повторила старушка. – Вы тоже влюблены в нее, как и все, молодой человек. Это большая потеря для Оперы, а особенно для нас, билетерш.
– Для вас? – переспросил Гофман, обрадовавшись в душе тому, что встретил хоть кого-то, с кем можно было поговорить о танцовщице. – Но почему? Что изменилось для вас с уходом Арсены?
– О, я вам объясню, это легко понять. На всех представлениях с ее участием зал был переполнен. Тогда начинали просить скамейки, стулья и табуреты, а в Опере за все платят деньги. Дополнительные сидячие места приносили нам маленький доход. Я говорю маленький, – прибавила старуха с хитрой улыбкой, – потому что, как вы сами понимаете, был и большой.
– Большой доход?
– Да. – И старушка подмигнула Гофману.
– А откуда же он брался?
– Его приносили те, кто пытался что-нибудь разузнать о ней, кто желал заполучить ее адрес или передать записку. Вы понимаете, что все это стоило денег: за рассказ о ней была одна цена, за ее адрес – другая, за письмецо – третья. Да, хорошие были времена! – И старушка вздохнула так же тяжело, как и Гофман в начале пересказанного нами разговора.
– Прежде вы брали на себя труд, – воскликнул юноша, – рассказывать любопытным разные подробности о ее жизни, называли ее адрес и передавали ей записки! Не сделаете ли вы то же самое и для меня?
– Увы, молодой человек, подробности, которые я могу сообщить вам теперь, будут для вас бесполезны. Никто не знает, где живет Арсена, и записка, которую вы для нее передадите, пропадет. Если вам угодно будет написать другой актрисе – госпоже Вестрис, мадемуазель Биготтини, мадемуазель…
– Благодарю вас, благодарю, я хотел знать только об одной мадемуазель Арсене.
Потом юноша вынул монету из кармана и дал ее старухе.
– Вот, – сказал он, – это за то, что ты потрудилась меня разбудить.
И, простившись с билетершей, он медленно побрел по бульвару, намереваясь идти той же дорогой, по которой шел позавчера, ведь его недавнее воодушевление, указавшее ему дорогу к Опере, иссякло. Душу его переполняли теперь совсем другие чувства, не те, что прежде, и это отражалось даже в его походке. В тот, другой, вечер он шел как человек, перед которым мелькнула надежда. И он погнался за ней, не задумываясь о том, что Бог даровал ей сильные и длинные крылья, для того чтобы смертные никогда не смогли ее настигнуть. Он бежал тогда с раскрытым ртом, из которого вырывалось жаркое дыхание, и распростертыми объятиями. На этот раз, напротив, походка его была медлительна, как у человека, напрасно кого-то преследовавшего и потерявшего его из виду, губы его были сжаты, лицо мрачно, руки безвольно повисли. В тот вечер он за пять минут добрался от площади Сен-Мартен до Монмартра, теперь же он преодолевал это расстояние более часа. Еще час юноша потратил на то, чтобы от Монмартра добраться до своей гостиницы. Он с головой ушел в свою печаль, и ему было все равно, вернется он домой рано или поздно, да и вернется ли вообще.
Говорят, что особое божество покровительствует пьяницам и влюбленным. Вероятно, оно благоволило и Гофману: ему на пути не встретился дозор, и он без всяких затруднений отыскал свою гостиницу. Молодой человек, к величайшему неудовольствию его хозяйки, вошел в комнату в половине второго ночи.
Однако посреди всего этого мрака в воображении Гофмана светилось маленькое золотистое пятнышко, подобно блуждающему огоньку в ночи. Доктор говорил ему, если, конечно, только этот доктор вообще существовал, а не являлся плодом его фантазии, что контракт Арсены с театром разорвал ее любовник. Он приревновал ее к молодому человеку, сидевшему в зале, на которого танцовщица бросала слишком нежные взгляды. Этот доктор прибавил еще, что ревность тирана достигла апогея, когда тот самый молодой человек, притаившись у дверей, ждал выхода актеров, когда он побежал, как сумасшедший, за ее каретой. А ведь этим молодым человеком, на которого Арсена так нежно смотрела, был сам Гофман. И за каретой бежал тоже он. Из всего этого выходило, что Арсена жестоко расплачивалась за его удовольствие, страдала из-за того, что заметила его. Да, он занял место в жизни прекрасной актрисы, конечно, он получил его через немалые огорчения, но все-таки получил – это главное. Теперь ему оставалось суметь удержать его за собой. Но каким образом? Какая ниточка свяжет его с Арсеной, как он даст ей знать о себе, как расскажет о своей любви к ней? Даже для коренного парижанина отыскать прелестную танцовщицу в этом необъятном городе стало бы непростой задачей. Для Гофмана это было почти невозможно: он прибыл в Париж только три дня назад и еще с трудом находил дорогу домой.
Теодор даже не пытался ее искать. Он понял, что один только случай мог помочь ему. Юноша не переставал следить за афишей Оперы и видел, что «Суд Париса» продолжался, несмотря на отсутствие той, которая куда больше Венеры заслуживала яблоко первенства. С той минуты он решился не ходить больше в Оперу.
Внезапно юношу посетила мысль отправиться в Национальное собрание или к Кордельерам, чтобы найти там Дантона. Молодой человек собирался следить за ним днем и ночью и выяснить, где же он прячет прелестную танцовщицу. Теодор действительно отправился в Национальное собрание, пошел и к Кордельерам, но Дантона там не было. Он там не появлялся уже целую неделю. Утомленный борьбой, не прекращавшейся на протяжении двух лет, побежденный скорее скукой, нежели превосходством, Дантон, по всей видимости, оставил политическое поприще. Говорили, что он живет на загородной вилле, но где именно она находилась, не знал никто. Одни говорили, что в Рюэе, другие – что в Отее.
Дантон был так же неуловим, как и Арсена. Может быть, читатель подумал, что это к лучшему и что отсутствие этой танцовщицы заставило Гофмана вернуться мыслями к Антонии. Но, как ни странно, этого не произошло. Напрасно юноша предпринимал бесконечные усилия, пытаясь думать о бедной дочери дирижера из Мангейма. Всего на минуту сила воли позволяла Теодору сосредоточиться на его давнем воспоминании – кабинете маэстро Готлиба Мурра. Но спустя короткое время партитуры, лежащие на фортепиано и столах, старик, нетерпеливо стучащий ногой, Антония на своем диване – все это бесследно исчезало, уступая место другой сцене, на которой сначала двигались только тени, потом эти тени превращались в тела, а затем эти тела принимали мифологические образы. Все эти герои, нимфы, боги, полубоги потом вдруг пропадали, чтобы дать место богине садов, прелестной Флоре, Арсене, женщине с бархоткой на шее и бриллиантовой пряжкой. В такие минуты Гофман впадал не в задумчивость, а в состояние полного восторга, из которого его могла вывести только действительность: толчки прохожих на улице или громкие крики детворы.
Когда эти мечты, которым Теодор принес себя в жертву, становились невыносимыми, он выходил на улицу и шел вдоль набережной, переходил реку через Новый мост и останавливался только на углу Монетной улицы. Там Гофман нашел кофейню, место сбора самых заядлых курильщиков столицы. Здесь юноша воображал себя посреди какой-нибудь английской харчевни, на голландском вокзале или в шумном зале немецкого трактира. Кроме отъявленных курильщиков, в этом месте никто не мог находиться из-за нестерпимо едкого дыма.
В кофейне Гофман садился за маленький столик, стоявший в самом дальнем углу, просил бутылку пива из пивоварни господина Сантера, отказавшегося в то время от полномочий генерала национальной гвардии Парижа в пользу господина Анрио, и набивал до самого верха несоразмерно большую трубку, уже знакомую нам. За несколько минут юноша окружал себя облаком дыма таким же густым, как и то, которым прекрасная Венера укрывала своего сына Энея всякий раз, когда считала нужным оградить его от злобы врагов.
Уже неделя, а может, и все десять дней прошли, с тех пор как с Гофманом случилось это происшествие в Опере, и, значит, столько же времени прошло со дня исчезновения прелестной танцовщицы. Был час дня. Теодор с полчаса как находился в кофейне, стараясь изо всех сил напрячь свои легкие и окутать себя облаком дыма, которое бы сделало его невидимым для посторонних глаз. Но тут вдруг ему показалось, что сквозь эту пелену он увидел знакомый образ. Потом к шуму, царившему в кофейне, добавилось чье-то едва слышное пение и отстукивание такта. Это живо напомнило молодому человеку о незнакомце из Оперы. Временами юноше чудилось, будто в этом мареве он видит какую-то светлую переливающуюся точку. Гофман открыл глаза, наполовину сомкнувшиеся под влиянием сладкой дремоты, и заметил напротив себя, на табурете, своего соседа из Оперы. У юноши не было никаких сомнений в том, что это он, потому что на этот раз фантастический доктор не позабыл о бриллиантовых пряжках на ботинках, перстнях на пальцах и табакерке с мертвой бриллиантовой головой.
– Чудно! – сказал Гофман. – Я опять схожу с ума…
И он быстро закрыл глаза. Но чем плотнее он смыкал их, тем лучше он слышал тихое пение и стук пальцев незнакомца. Все это было так явственно, что юноша поверил в реальность происходящего. Он открыл сначала один глаз, потом другой. Загадочный доктор оставался сидеть на прежнем месте.
– Здравствуйте, молодой человек, – обратился он к Гофману, – вы, кажется, спите? Так понюхайте табаку, это освежит вашу голову.
И, открыв табакерку, он предложил ее юноше. Теодор протянул руку, взял щепотку и понюхал ее. В ту же минуту ему показалось, что темная пелена спала с его глаз.
– Ах! – воскликнул Гофман. – Это вы, добрый доктор? Как я рад вас видеть!
– Если вы так рады меня видеть, – ответил доктор, – почему же вы не стали меня разыскивать?
– Разве я знал ваш адрес?
– Вот новость! Вам дали бы его на первом кладбище.
– Разве я знал ваше имя?
– Доктор с мертвой головой, все меня знают под этим именем. К тому же есть одно место, где вы всегда можете меня встретить.
– Где же это?
– А в Опере. Я там работаю доктором. Вам это известно, потому что вы видели меня там дважды.
– Ах! Опера! – проговорил Гофман, покачивая головой и тяжело вздыхая.
– Да, вы не ходите туда больше.
– Не хожу.
– С тех пор как Арсена не исполняет роли Флоры?
– Вы угадали. И до тех пор, пока ее там не будет, я не пойду туда.
– Вы ее любите, молодой человек, вы ее любите!
– Не знаю, можно ли назвать мой недуг любовью. Но я чувствую, что если я не увижу ее больше, то или умру от этой разлуки, или сойду с ума.
– Тьфу, пропасть! Не надо сходить с ума! Не надо умирать! Безумным очень сложно помочь, умершим же совершенно невозможно.
– Что же тогда делать?
– Хм! Вам надо ее увидеть.
– Увидеть ее?
– Конечно!
– Но знаете ли вы способ?
– Быть может.
– Какой же?
– Погодите.
И доктор задумался, усиленно моргая и постукивая пальцами по табакерке. Потом, спустя минуту, он остановил пальцы на черном дереве:
– Вы, кажется, живописец?
– Да, живописец, музыкант и поэт.
– Нас интересует теперь только живопись.
– Ну?
– Что, ну? Арсена поручила мне разыскать для нее живописца.
– Зачем же?
– Зачем нужны живописцы, черт возьми! Чтобы написать ее портрет, конечно.
– Портрет Арсены! – вскрикнул Гофман, приподнимаясь. – О! Я готов! Я готов!
– Тсс! Не забывайте о том, что я человек степенный.
– Вы мой спаситель! – закричал Гофман, бросаясь на шею таинственному доктору.
– Молодость, молодость, – прошептал тот в ответ и сопроводил свои слова смехом, подобным тому, каким, вероятно, должна была бы смеяться его мертвая голова, если бы она вдруг обрела свою естественную величину.
– Пойдемте, пойдемте, – заторопил его Гофман.
– Но вам нужны краски, полотно и кисти.
– Все это у меня есть, пойдемте же.
– Пойдемте, – согласился доктор.
И оба вышли из кофейни.
Портрет
Гофман, выходя из кофейни, сделал движение, чтобы подозвать фиакр, но доктор хлопнул в ладоши, и тут же откуда ни возьмись подкатила карета, вся обитая черным, запряженная двумя черными лошадьми, управляемыми кучером, одетым в черное. Где она стояла? Откуда появилась?
Маленький чернокожий грум, тоже в черном, опустил подножку. Гофман и доктор поднялись в карету, сели один возле другого, и в ту же минуту экипаж бесшумно покатился по направлению к гостинице Гофмана.
Юноша колебался, идти ли ему в комнату. Он боялся, что едва повернется спиной, как карета с лошадьми, доктор, грум и кучер исчезнут так же, как и появились. Но к чему же тогда было везти его от кофейни на Монетной улице до Цветочной набережной? Это показалось Гофману полной бессмыслицей, и юноша, успокоенный таким простым логическим доводом, выбрался из кареты, вошел в здание, проворно взбежал по лестнице и ворвался в свою комнату. Там он схватил палитру, кисти, краски и холст самого большого размера и спустился так же быстро, как и поднялся. Экипаж все еще стоял у подъезда.
Кисти, палитра, этюдник с красками были помещены в карету, груму же приказали держать холст. Когда все устроились, карета тронулась с места так же легко и неслышно и покатилась с той же быстротой, что и до этого. Через десять минут экипаж остановился напротив прелестного маленького домика под номером пятнадцать на Ганноверской улице. Гофман запомнил адрес, чтобы в случае необходимости суметь отыскать дорогу и без помощи доктора.
Дверь отворилась; конечно, доктор был в этом доме не чужой, потому что привратник не спросил даже, куда тот идет, и Гофман последовал за доктором со своим этюдником и холстом и тоже вошел в переднюю. У юноши возникло ощущение, что он попал в переднюю дома какого-то патриция в Помпее. Стоит вспомнить, что в то время была мода на все греческое: прихожая была расписана фресками, украшена канделябрами и бронзовыми статуями.
Из передней доктор и Гофман прошли в гостиную. Она была также отделана в греческом стиле и обита седанским сукном стоимостью в семьдесят франков за полметра. Ковер один стоил шесть тысяч ливров; доктор обратил внимание спутника на этот ковер – на нем была изображена битва при Арбелах, копия знаменитой фрески из Помпеи. Гофман, ослепленный этой невероятной роскошью, не понимал, как можно было ступать по подобному произведению искусства.
Из гостиной они вошли в уборную, обитую кашемиром. В алькове стояла низенькая софа, подобная той, на которой господин Герин изобразил Дидону, внимавшую рассказу о приключениях Энея. Там Арсена приказала дожидаться ее.
– Теперь, молодой человек, – произнес доктор, – когда вас ввели в дом, соблюдайте все приличия. Вы понимаете, что, если официальный любовник застанет вас тут, вы погибли.
– О! – воскликнул Гофман. – Только бы мне ее увидеть, и…
Слова замерли на устах юноши, он застыл с пылающим взором, воздетыми к небу руками, вздымающейся грудью. Дверь, скрытая в стене, отворилась, и из-за повернувшегося зеркала появилась Арсена, как истинное божество храма, в котором она удостаивала чести принять своего обожателя. На ней был наряд Аспазии {1}, поражавший своей роскошью: пурпурный плащ, расшитый золотом, под ним – длинное белое платье с жемчужным поясом. Роскошные волосы девушки были украшены жемчугом, на ногах и руках позвякивали многочисленные браслеты, и среди всего этого великолепия выделялось странное украшение, с которым она не расставалась: та самая бархотка на шее шириной не более трети дюйма, застегнутая на бриллиантовую пряжку.
– Ах! Это вы, гражданин, беретесь написать мой портрет?! – воскликнула Арсена.
– Да, – прошептал Гофман, – да, сударыня, и господин доктор был так добр, что взял на себя труд рекомендовать меня.
Гофман оглянулся вокруг, надеясь услышать от своего спутника подтверждение этих слов, но доктор исчез.
– Где же он? – изумился смущенный Гофман. – Где же?..
– Кого вы ищете, о ком спрашиваете, гражданин?
– Но, сударыня, я ищу, я спрашиваю… я спрашиваю о докторе, который привел меня сюда.
– Зачем он вам, – спросила Арсена, – если вы уже здесь?
– Но, однако, доктор… – в смятении шептал юноша.
– Полно! – нетерпеливо прервала его Арсена. – Не станете же вы терять время на поиски доктора! Он занят своими делами, позаботимся же о наших.