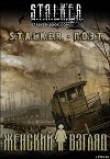Текст книги "Мертвая голова (сборник)"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– Нет, маэстро Готлиб, нет, я пока еще могу говорить, слава богу. Только то, что мне нужно вам сказать…
– Ну?
– Крайне трудно произнести.
– Да неужели так трудно сказать: «Маэстро Готлиб, я люблю вашу дочь?»
– Вам об этом известно?
– Да что же в этом удивительного! Надо быть сумасшедшим или дураком, чтобы этого не заметить.
– Вы все знали и позволяли мне любить ее?
– Что ж в этом дурного, если она тоже тебя любит?
– Но, маэстро Готлиб, у меня нет состояния…
– Ха! У птиц небесных – есть ли у них состояние? Они поют, выбирают друг друга, вьют гнездышко, и Бог их питает. Мы, артисты, те же птицы: мы поем, и Бог помогает нам в жизни. Когда пения будет мало, ты станешь художником; когда недостаточно будет живописи, станешь музыкантом. Я был не богаче тебя, когда женился на моей бедной Терезе, однако у нас всегда были и пища, и кров. Мне всегда были нужны деньги, но я никогда не испытывал в них недостатка. Богат ли ты любовью? Вот все, о чем я тебя спрашиваю. Заслуживаешь ли ты сокровища, которого добиваешься? Вот все, что я хочу знать. Любишь ли ты Антонию больше жизни? Если это так, тогда я спокоен: Антония ни в чем не будет нуждаться. Если ты ее не любишь, то это другое дело… Имей ты хоть сто тысяч годового дохода, она будет несчастной.
Философия маэстро до глубины души поразила Гофмана. Он склонил голову перед маэстро и припал к его руке, а тот привлек его к себе и прижал к груди.
– Ну, – сказал старик, – это дело решенное. Отправляйся теперь в свое путешествие, если тебе так хочется слышать эту убийственную музыку господина Меюля и господина Далейрака. Это недуг молодости, который скоро излечится. Я за тебя спокоен. Съезди, мой друг, и возвращайся. Здесь ты найдешь Моцарта, Бетховена, Чимарозу, Перголезе, Паизиелло, Порпору и, помимо этого, маэстро Готлиба и его дочь, то есть отца и жену. Поезжай, сын мой, поезжай.
И маэстро Готлиб поцеловал Гофмана, который уже спешил проститься, так как близилась ночь, а ему еще предстояло собираться в дорогу.
На другое утро Теодор, как и было условлено, занял место у своего окна. По мере того как приближался час отъезда, разлука с Антонией казалась ему все более немыслимой. Эти семь месяцев счастья, пролетевшие как один день, представлялись ему то широким горизонтом, который он охватывал одним взглядом, то чередой ясных и радостных дней, увенчанных цветами. Сладостное пение Антонии, наполнявшее все вокруг нежными звуками, сочетало в себе такое могущество и прелесть, что он вынужден был вступить в борьбу с этой волшебной силой, которая притягивала его к себе, как привлекала сердца самые твердые, души самые холодные.
В десять часов Антония показалась на углу улицы, где в тот же час, семь месяцев тому назад, Гофман увидел ее впервые. Добрая Лизбет, как обычно, сопровождала ее. Обе они уже поднимались по лестнице, ведущей в церковь. Достигнув последней ступени, Антония обернулась и, увидев Гофмана, махнула ему рукой и скрылась за дверью. Гофман бросился из дома за ней. Антония уже стояла на коленях и молилась.
Гофман был протестантом, и это пение на чужом языке всегда казалось ему смешным. Но когда он услышал эти чудесные псалмы из уст Антонии, он пожалел, что не знает слов и что не может слиться в этом дивном пении вместе со своей возлюбленной, показавшейся ему в тот миг еще прелестнее из-за искренней грусти, которой она предавалась.
Потом, когда колокольчик мальчика из хора возвестил об освящении святых даров, все верующие преклонили чело перед Господом, и только одна Антония выпрямилась.
– Клянитесь, – сказала она.
– Клянусь, – произнес Гофман дрожащим голосом, – клянусь отказаться от игры.
– Разве только эту клятву вы хотели принести мне, мой друг?
– О нет, постойте! Я клянусь остаться вам верным душой и телом, сердцем и умом.
– Чем вы клянетесь мне в этом?
– О, – вскрикнул Гофман, – тем, что мне всего дороже, что всего священней: вашей жизнью!
– Благодарю вас, – воскликнула Антония. – Но помните, что, если вы не сдержите клятвы, я умру.
Гофман вздрогнул, и неприятный холодок пробежал по всему его телу: он не только раскаялся, он ужаснулся своим словам.
Священник понес святое причастие в ризницу. В ту минуту, когда тело нашего божественного спасителя предстало перед глазами прихожан, Антония схватила руку Гофмана и проговорила:
– Ты выслушал его клятву, Господи!
Гофман хотел еще что-то сказать, но девушка остановила его.
– Ни слова более, ни слова. Я хочу, чтобы ваша клятва стала последними словами, которые я услышала от вас на прощание. Пусть она звучит для меня вечно. До свидания, мой друг, до свидания. – И, ускользнув подобно тени, девушка оставила в руке своего любовника медальон.
Гофман провожал ее таким взглядом, каким Орфей, должно быть, смотрел на удалявшуюся Эвридику. Потом, когда Антония исчезла, юноша открыл медальон. В нем был портрет Антонии, сиявшей красотой и молодостью. Спустя два часа после этого Гофман садился в тот же самый дилижанс, в котором некогда отправился в Париж Захария Вернер. Теодор оставлял Мангейм с такими словами:
– Не беспокойся, Антония, я не буду играть! И я останусь верным тебе!
Парижская застава в 1793 году
Путешествие молодого человека по Франции, которую он так жаждал видеть, оказалось довольно скучным. Нельзя сказать, что, приближаясь к Парижу, юноша встречал больше затруднений на своем пути, чем на границе, – нет. Французская республика принимала прибывавших гостей, в отличие от тех, кто желал покинуть страну, достаточно радушно.
Однако путешественнику предстояло пройти через целый ряд довольно строгих процедур, прежде чем он мог спокойно жить и наслаждаться этой прекрасной формой правления.
То были времена, когда французы писали плохо, но тем не менее занимались этим беспрестанно. Так что все чиновники нового пошива сочли необходимым забросить свои домашние занятия, чтобы подписывать паспорта, обозначать приметы, числиться свидетелями, давать рекомендации – одним словом, делать все, что подобает настоящему патриоту.
Бумажная волокита никогда еще не достигала таких масштабов, как в то время. Эта эпидемия французского правления в сочетании с террором произвела на свет лучшие образцы каллиграфии.
Подорожная Гофмана была чрезвычайно мала. В то время все сокращали до восьмой доли листа: журналы, книги и прочие публикации. Итак, как мы уже сказали, подорожная путешественника, начиная с Эльзаса, был испещрена подписями чиновников, очень похожими на загогулины пьяницы, шатающегося по улице и бьющегося то в одну стену, то в другую. Хотел того Гофман или нет, но ему пришлось добавить к своему паспорту еще один лист, потом другой. В Лотарингии каллиграфия обрела колоссальный размах. Там, где патриотизм был наиболее пылким, писатели были самыми простосердечными. Один городской управляющий исписал Гофману две страницы, чтобы обозначить следующее: «Хофман, молотой немец, друк свободы, отправляется в Париш пешком. Подписано Голье».
Снабженный этим неоспоримым документом, в котором содержались сведения о его родине, возрасте, образе мыслей, целях путешествия, Гофман собирался уже было сшить между собой все эти гражданские лоскутки. На подходе к Парижу бесчисленные листки уже можно было сложить в целый том, который, как говорил юноша, он отдаст в жестяной переплет, если решится когда-нибудь на повторное путешествие. Бумаги эти в простом картоне подвергались слишком большому риску, а их всегда нужно было иметь под рукой.
Ему повсюду повторяли одно и то же: «Добрый путешественник, в провинции еще сносно, но в Париже очень неспокойно. Берегитесь, в столице полиция очень подозрительна, и то, что вы немец, может навлечь на вас немало бед, каких вы смогли бы запросто избежать, будь вы французом».
На все эти предостережения Гофман отвечал лишь гордой улыбкой, подобной той, с которой древние спартанцы внимали рассказам шпионов о могуществе Ксеркса, царя Персидского.
Юноша добрался до Парижа вечером, все заставы были закрыты. Гофман неплохо изъяснялся по-французски, тем не менее в нем легко можно было узнать немца. Даже после долгих упражнений произношение немца едва будет похоже на то, как говорят в одной из французских провинций.
В нескольких словах стоит описать, что за люди дежурили на заставах. Семь или восемь приставов представляли собой людей праздных и проницательных, истинных Лафатеров, бродивших взводами, куривших трубки и окружавших иногда двух или трех поверенных городской полиции.
Эти добрые люди, которые входили в разные депутации, втерлись, наконец, во все клубы, во все уездные конторы, во все места, куда влилась политика – активно или пассивно. Эти люди знали в лицо всех членов Национального собрания, всех депутатов, в ложах им были известны аристократы мужского и женского пола, на гуляньях прославленных щеголей и в театрах – все знаменитости, в военных ведомствах – все служащие, в судах – все преступники или обвиняемые в преступлениях, в тюрьмах – все освобожденные от казни священники.
Эти достойные патриоты знали Париж так хорошо, что замечали всякое незнакомое лицо и, отдадим им справедливость, делали это безошибочно.
В то время скрыться было нелегко. Роскошная одежда возбуждала любопытство, простая одежда – подозрение. Так как неопрятность всегда считалась первым признаком патриотизма, всякий угольщик, водовоз, поваренок мог оказаться переодетым аристократом. Хотя как можно было скрыть изнеженную руку с прекрасными ногтями? Как для двадцати пар яростных глаз, следящих за вами, подобно гончим собакам, сделать незаметной благородную походку, все реже встречающуюся теперь, когда самые низшие носят каблуки самые высокие?
Неудивительно, что при таких обстоятельствах каждого путешественника, прибывшего в Париж, тщательно обыскивали, допрашивали и обнажали в нравственном смысле с вошедшей в моду бесцеремонностью и свободой, даруемой… свободой.
Гофман предстал перед этим судилищем седьмого декабря около шести часов вечера. День стоял пасмурный, даже воздух, казалось, пропитался туманом, но медвежьи и бобровые шапки, венчавшие головы патриотов, давали достаточно тепла их ушам и головам, чтобы те не теряли своих уникальных способностей.
Чья-то рука легким толчком в грудь остановила Гофмана. На молодом путешественнике был фрак серого цвета, сверху – теплый сюртук. Немецкие сапоги сверкали на его изящных ногах, ведь он не запачкался в грязи, несмотря на то что от последней станции Гофману пришлось пройти шесть лье пешком по дороге, слегка припорошенной снегом, потому как на бричке ехать по изморози не представлялось возможным.
– Куда это ты идешь в таких славных сапогах? – обратился к молодому человеку один из приставов.
– В Париж.
– Не дурно, юный пруссак, – ответил пристав.
Услышав это замечание, человек десять столпились вокруг путешественника. В то время прусаки были для французов врагами, не меньше тех, что филистимляне, соотечественники Самсона, были для израильтян.
– Да, я пруссак, – ответил Гофман, – и что с того?
– Раз ты пруссак, ты можешь оказаться шпионом Питта и Кобурга.
– Вот моя подорожная, – проговорил Гофман, предъявляя внушительный том одному из приставов.
– Следуй за мной, – приказал тот и направился в караульню.
Гофман последовал за проводником с невозмутимым спокойствием. Когда при свете тусклых свечей патриоты рассмотрели этого невысокого, хорошо сложенного молодого человека со смелым взглядом и дурно причесанными волосами, самоуверенно коверкающего французский язык, один из них вскричал:
– Ему не отпереться от того, что он аристократ! Посмотрите на его руки и ноги!
– Вы очень глупы, – заметил в свою очередь Гофман, – я такой же патриот, как и вы, и больше того, я – артист.
Сказав это, он вытащил из кармана одну из тех громадных трубок, которые может курить только немец. Эта трубка произвела глубокое впечатление на приставов, которые потягивали табак из маленьких глиняных трубочек. Они с любопытством смотрели на юношу, набивавшего свою трубку с необычайным проворством – плодом немалого опыта – недельной порцией табака.
Потом Гофман сел и принялся спокойно раскуривать трубку, пока табак не разгорелся, затем юноша начал равномерно втягивать в себя дым, выходивший голубыми струйками из его ноздрей и рта.
– Он славно курит, – сказал один из приставов.
– И кажется большим умельцем, – произнес другой, – посмотрите его свидетельства.
– Зачем ты прибыл в Париж? – спросил третий.
– Изучать науку свободы, – ответил Гофман.
– А еще что? – продолжал спрашивать француз, мало тронутый пафосом этой фразы, вероятно, из-за ее слишком частого употребления.
– И живопись, – добавил Гофман.
– А! Ты живописец, вроде Давида?
– Именно.
– Ты рисуешь нагими римских патриотов, как он?
– Нет, я рисую их в одежде, – ответил Гофман.
– Это не так хорошо.
– Уж как получается, – невозмутимо произнес юноша.
– Напиши-ка мой портрет, – попросил один из приставов с благоговением.
– Охотно.
Гофман взял головню из камина, потушил ее пылающий конец и на стене, выбеленной известкой, нарисовал одну из самых безобразных рож, которые когда-либо бесчестили столицу просвещенного мира. Меховая шапка с лисьим хвостом, разинутая пасть, густые бакенбарды, коротенькая трубка и выдающийся подбородок с таким редким успехом были выражены в подлиннике, что вся рота потребовала от молодого человека удостоить их такой же чести и запечатлеть их портрет.
Гофман согласился и изобразил на стене ряд физиономий патриотов, также неплохо удавшихся, но не таких благородных, как горожане «Ночного дозора» Рембрандта.
Патриоты пришли в хорошее расположение духа и отбросили в сторону свои подозрения: немец был причислен к парижанам. Юноше предложили скрепить дружбу кружкой пива, но он, как человек здравомыслящий, достал бургундское вино, которое было принято этими господами с большим удовольствием.
Тут один из приставов, должно быть, самый дальновидный, зажав свой толстый крючковатый нос, сказал Гофману, моргая левым глазом:
– Признайся нам в одном, немец!
– В чем, мой друг?
– Назови нам истинную цель своего путешествия.
– Я уже сказал тебе – политика и живопись.
– Нет-нет, должно быть еще что-то.
– Уверяю тебя, это все.
– Ты ведь понимаешь, мы тебя ни в чем не обвиняем. Ты нам нравишься, и мы будем тебе покровительствовать. Есть два поверенных клуба – кордельеров и якобинцев, я принадлежу к «Братьям и друзьям». Выбери один из этих клубов и засвидетельствуй перед ним свое почтение.
– Какое почтение? – удивился Гофман.
– О, не юли, ты должен этим гордиться.
– Ты заставляешь меня краснеть, объяснись же.
– Смотри и суди сам, умею ли я угадывать, – сказал патриот.
И, открыв подорожную Гофмана, он ткнул своим запачканным пальцем в следующие слова: «Гофман, путешественник, прибывший из Мангейма, получил в Страсбурге ящик, помеченный буквами О. Б.».
– Так и есть, – подтвердил Гофман.
– Ну и что же находится в этом ящике?
– Я рассказал об этом местному начальству в Страсбурге.
– Посмотрите, что этот негодный тихоня привез сюда… Вы помните посылку патриотов из Осера?
– Да, – ответил один из приставов, – ящик сала.
– Зачем это?
– Чтобы смазывать гильотину! – воскликнули в один голос присутствующие, довольные собой.
– Но, – произнес Гофман, слегка побледнев, – какое отношение эта посылка патриотов имеет к моему ящику?
– Читай, – сказал парижанин, указывая ему на слова, написанные в его подорожной, – читай, молодой человек: «Путешествует с целью изучения политики и искусства». Так и написано!
– О, республика! – прошептал юноша.
– Признайся же нам, молодой друг свободы, – призвал Гофмана его покровитель.
– Это все равно что хвастаться мыслью, которая пришла в голову не мне, – возразил юноша. – Я не люблю ложной славы. Нет, ящик, что я получил в Страсбурге, который перешлют мне сюда, заключает в себе скрипку, краски и несколько кусков холста.
Эти слова несколько поубавили уважение, которым некоторые собеседники уже прониклись к Гофману. Ему вернули его бумаги, чокнулись с его рюмкой, но перестали смотреть на него как на спасителя угнетенных народов.
Один из патриотов все же заметил:
– Он похож на Сен-Жюста, но последний мне больше нравится.
Гофман, погруженный в свои мечтания, подогретые жаром камина, табаком и бургундским, некоторое время безмолвствовал. Но вдруг он поднял голову и спросил:
– Стало быть, гильотина здесь в ходу?
– Стало быть. После бриссотинцев, правда, казни пошли на спад, но их все еще довольно много.
– Не знаете ли, друзья, где мне найти хорошее жилье?
– Да где угодно!
– Но я хотел бы видеть вас почаще.
– О! Тогда сними комнаты на Цветочной набережной.
– Хорошо.
– Знаешь ли ты, где это?
– Нет, но название «цветочная» мне нравится. Я уже представляю себе, как живу там. Как туда пройти?
– Иди прямо по улице Анфер, и выйдешь как раз к набережной.
– То есть на берег реки, – заметил Гофман.
– Именно.
– A река, должно быть, Сена.
– Так и есть.
– Значит, Цветочная набережная находится на берегу Сены?
– Ты знаешь Париж лучше меня, дорогой немец.
– Благодарю. Прощайте. Теперь я могу отправиться туда?
– Тебе остается исполнить только маленькую формальность.
– Говори какую?
– Ты зайдешь к комиссару полиции и возьмешь у него билет, который даст тебе право свободно проживать в городе.
– Очень хорошо. Прощайте!
– Подожди, с этим билетом ты пойдешь в полицию.
– Ага, понятно.
– Там ты оставишь свой новый адрес.
– Хорошо. На этом все?
– Нет, потом ты должен будешь явиться в Национальное собрание.
– Зачем это?
– Чтобы указать средства, на которые собираешься здесь жить.
– Я все это в точности исполню. Больше от меня ничего не нужно?
– Еще надо будет принести патриотические дары.
– Охотно.
– И произнести клятву ненависти к французским и иностранным тиранам.
– От всего сердца. Благодарю вас за эти бесценные советы.
– Потом не забудь разборчиво написать на бумажке, которую ты прикрепишь к двери, свое имя и фамилию. А теперь иди, уважаемый, ты нам мешаешь.
Все бутылки к тому времени уже были опорожнены.
– Прощайте, благодарю вас за ваше участие.
И Гофман вышел на улицу со своей трубкой, сильно разгоревшейся. Так он вступил в столицу республиканской Франции. Это нежное название, Цветочная набережная, прельстило юношу. Гофман уже мечтал о маленькой комнатке с балконом, открывающим вид на Сену.
Молодой человек совсем позабыл о том, что на дворе стоял декабрь-месяц и дул северный ветер. Он забыл про зиму, смерть для природы. Цветы распускались в его воображении, в пару, вылетающем из его рта, он видел солнце, несмотря на мрак ночи. Гофман вдыхал аромат жасмина и роз, несмотря на зловония предместий.
Ровно в десять вечера юноша прибыл на Цветочную набережную, мрачную и пустынную, как и все северные набережные зимой. Здесь эта пустота и мрак ощущались особенно явственно.
Гофман был голоден, озяб и нигде поблизости не видел гостиницы. Подняв глаза, он заметил на углу набережной и Бочарной улицы большой красный фонарь, сквозь стекла которого виднелся тусклый свет грязного огарка. Этот фонарь висел, покачиваясь, на конце железного прута, что мог сгодиться в эти мятежные дни в качестве виселицы для какого-нибудь политического врага. Гофман смог разобрать несколько слов, написанных зелеными буквами на красном стекле: «Меблированные комнаты и особые номера».
Юноша сильно толкнул дверь, и она отворилась. Путешественник на ощупь вошел внутрь. Послышался суровый голос:
– Затворяйте за собой дверь!
Залаяла огромная собака, казалось, предупреждая его: «Чур, береги ноги!»
Договорившись о цене с хозяйкой и выбрав себе комнаты, Гофман занял спальню с маленькой прихожей, общей площадью в пятнадцать футов длиной и восемь футов шириной. Это счастье досталось ему за тридцать су в день, которые он обязывался выплачивать каждое утро.
Гофман был так доволен, что заплатил за две недели вперед, опасаясь, как бы у него не перехватили эту бесценную квартиру. Покончив с делами, он лег в сырую постель, но путешественнику в восемнадцать лет любая кровать кажется сносной. К тому же разве можно быть взыскательным, когда живешь на Цветочной набережной?
Почему музеи и библиотеки были закрыты, а площадь Революции – нет
В комнате, которая должна была стать для Гофмана земным раем, стояла кровать, нам уже известная, стол и два стула. В ней также был камин, украшенный двумя вазами из синего стекла с искусственными цветами. Сахарный Гений свободы красовался под стеклянным колпаком, в котором отражалось его трехцветное знамя и красная шапка.
Медный подсвечник, угловой шкаф из старого дерева, ковер в духе ХІI столетия вместо штор – вот какой предстала Теодору его комната в первых лучах света. На ковре был изображен Орфей, игравший на скрипке и желавший тем самым выручить Эвридику. Вид музыкального инструмента заставил Гофмана вспомнить о Захарии Вернере.
«Мой милый друг, – подумал наш путешественник, – в Париже, так же как и я. Мы скоро будем вместе, уже сегодня или завтра я встречу его. С чего бы мне начать? Я должен начать что-то делать, дабы не терять понапрасну дни, отпущенные мне Богом, чтобы осмотреть все во Франции. Вот уже несколько дней подряд я только и вижу, что безобразные картины жизни! Настало время посетить залы Лувра, некогда принадлежавшего тирану. Я осмотрю все прекрасные картины, которыми он владел: Рубенса, Пуссена…»
Юноша встал, чтобы для начала взглянуть на панораму той части города, где он жил. Серое тусклое небо, черная грязь у подножия побелевших деревьев, шумные потоки горожан, погрязших в беспорядочной беготне и суете, – вот и все, что предстало перед его взором. Это не особенно его вдохновило. Гофман закрыл окно, позавтракал и отправился искать своего друга Захарию Вернера. Но в ту минуту, когда он должен был решить, по какой дороге ему идти, он вспомнил, что Вернер никогда не давал ему адреса в Париже. А встретиться с другом на улице случайно казалось почти невозможным.
Гофман сначала расстроился, но потом вдруг подумал: «Какой же я болван! То, что я люблю, по душе и Захарии. Я хочу видеть произведения живописи, наверняка и он пожелает того же. Я встречу его в Лувре. Скорей туда!»
Лувр был виден с парапета. Гофман отправился прямо к монументу. Но там юношу ждало великое разочарование: у дверей Лувра ему сообщили, что французы с тех самых пор, как им даровали свободу, решили не развращать нравов зрелищем рабской живописи. Парижская коммуна еще не сожгла все это маранье в печах литейных заводов, изготовляющих оружие для французов, и сохранила эти полотна, хотя могла этого и не делать.
Гофман чувствовал, как пот выступил у него на лбу. Человек, говоривший эти слова, казалось, был достойным господином, и все низко кланялись этому оратору. От одного из присутствующих Теодор узнал, что он имел честь говорить с самим Симоном, воспитателем «детей Франции» и хранителем королевских музеев.
– Я не увижу картин, – вздохнул Гофман. – Как жаль! Но тогда я пойду в библиотеку покойного короля и буду любоваться не произведениями живописи, а гравюрами, медалями, манускриптами. Я увижу гробницу Хильдерика, родителя Хлодвига, небесный и земной глобусы отца Коронелли.
Но у здания библиотеки молодого человека ожидало новое разочарование: там он услышал о том, что французская нация, считая науку и литературу главным источником развращения и холодности к родине, закрыла все библиотеки. Ведь именно там, по их мнению, зарождались злые умыслы лжеученых и псевдолитераторов. Библиотеки закрывались из чувства долга и любви к людям, дабы избавить себя от труда казнить всех этих негодяев. Впрочем, даже во времена правления тирана в библиотеку пускали лишь дважды в неделю.
Теодор был вынужден уйти, так ничего и не увидев. Юноша даже отказался от мысли разузнать что-нибудь о своем друге Захарии. Но так как Гофман был настойчив, то непременно захотел посетить по крайней мере музей Сент-Авуа. Вскоре, однако, ему стало известно, что владельца музея казнили три дня назад.
Молодой человек направился к Люксембургскому дворцу, но его превратили в тюрьму. Истощив последние силы и потеряв терпение, юноша пошел назад, к своей гостинице, чтобы немного отдохнуть, помечтать об Антонии, Захарии и выкурить в уединении трубку, вмещавшую в себя табака часа на два.
Но – о чудо! – Цветочная набережная, обычно такая спокойная и тихая, была теперь черна от толпы – люди бесновались и ревели. Небольшой рост Гофмана не давал ему как следует разглядеть, что же происходит. Тогда он поспешил проложить себе дорогу через толпу локтями и поднялся к себе в комнату. Там юноша высунулся в окно. Все взоры разом обратились на него. Он смутился на минуту, потому что заметил, как мало было открытых окон. Между тем любопытство толпы вскоре обратилось к другому предмету, и молодой человек последовал ее примеру. Юноша увидел крыльцо большого черного здания с остроконечной крышей, за которым возвышалась широкая квадратная башня с колоколом.
Гофман окликнул хозяйку.
– Скажите, – обратился он к ней, – что это за здание?
– Это дворец.
– А что там делают?
– Во дворце правосудия? Судят, конечно.
– Я думал, что у вас больше нет судов.
– Конечно, у нас теперь только Революционный трибунал!
– Ах, точно… А эти люди, что они здесь делают?
– Ожидают прибытия повозок.
– Каких повозок? Я не понял, прошу меня извинить, я иностранец.
– Похоронных. Они поедут в них на смерть.
– О боже мой!
– Да, утром перед Революционным трибуналом предстают заключенные.
– А что потом?
– К четырем часам им всем уже зачитывают приговор, а затем усаживают на повозки, снаряженные по этому случаю Фукье.
– Кто это, Фукье?
– Общественный обвинитель.
– И что дальше?..
– Телеги отправляются на площадь Революции, где орудует бессменная гильотина.
– В самом деле?
– Как! Вы не ходили смотреть гильотину?! Это первая вещь, которую осматривают все приезжие иностранцы. Кажется, только у нас одних, у французов, есть гильотина.
– Позвольте мне поздравить вас с этим, сударыня.
– Лучше уж говорите «гражданка».
– Виноват.
– Вот и повозки поехали…
– Вы уходите?
– Да, мне больше не хочется смотреть на это. – И хозяйка направилась к двери.
Но Гофман остановил ее.
– Извините меня, пожалуйста, но могу я задать вам один вопрос? – обратился он к ней.
– Да, конечно.
– Почему вы сказали: «Мне больше не хочется смотреть на это»? – а не просто: «Мне не хочется смотреть на это». Я бы так выразился.
– Я поясню вам, почему я сказала именно так. Сначала – по крайней мере так казалось – казнили очень злых аристократов. Эти люди так прямо держали голову, у них был такой дерзкий и гордый вид, что жалость к ним не скоро проникала в вашу душу. Поэтому на их казнь смотрели охотно. Предсмертная агония этих отважных врагов отечества была прекрасным зрелищем. Но однажды я увидела в повозке старика, голова которого билась о решетки. Мне стало очень жаль его. На другой день везли монахинь, потом ребенка лет четырнадцати. Наконец, в одной повозке среди приговоренных я увидела молодую девушку, мать которой была помещена в другую повозку. Эти две несчастные слали друг другу поцелуи, не говоря ни слова. Обе выглядели бледными, взгляды их казались мрачными. Страшная улыбка блуждала на их устах, пальцы, пытавшиеся передать поцелуй, дрожали… Мне никогда не забыть этой ужасной картины. Я поклялась себе, что больше не стану на это смотреть.
– A-а! – протянул Гофман, приближаясь к окну. – Теперь я понимаю.
– Но что же вы делаете?
– Закрываю окно.
– Зачем же?
– Чтобы не видеть этих ужасов.
– Но вы же мужчина!
– Я приехал в Париж, чтобы изучить искусства и подышать вольным воздухом. Но если бы я увидел одно из этих зрелищ, о которых вы мне говорите, если бы я увидел молодую девушку или женщину, что ведут на смерть, я вспомнил бы свою невесту, которую я люблю и которая, может быть… Но нет, я не останусь здесь больше. Нет ли у вас другой комнаты, выходящей на двор?
– Тсс! Несчастный! Вы говорите слишком громко. Мои служители могут услышать вас…
– Ваши служители? Кто это такие?
– Это слуги на республиканский манер.
– И что с того, если ваши слуги меня услышат?
– А то, что дня через три или четыре я увижу вас из окна на одной из этих повозок, часа в четыре после полудня.
Проговорив эти таинственные слова, женщина поспешила покинуть дом, и Гофман последовал за ней. Он вышел на улицу, готовый на все, лишь бы только не видеть этой народной забавы.
Когда юноша добрался до угла набережной, в воздухе блеснула шпага жандарма, и толпа качнулась, заревела и побежала вслед за ним.
Гофман со всех ног бросился на улицу Сен-Дени и помчался по ней, как сумасшедший. Он несколько раз сворачивал в глухие переулки и закончил тем, что заблудился в этом лабиринте, который простирается от Железной набережной до предместий города.
Юноша облегченно вздохнул, когда очутился наконец на улице Железного Ряда. Там, со свойственной ему прозорливостью поэта и живописца, он узнал знаменитое место смертоубийства Генриха IV.
Продолжая идти, Теодор достиг улицы Сент-Оноре. Все лавки, которые он встречал на своем пути, поспешно запирались. Гофман удивлялся тишине, царившей в этой части города. Не только лавки, но даже окна некоторых домов закрывались, словно по данному кем-то сигналу.
Вскоре юноша нашел этому объяснение. Он видел, как фиакры разворачивались и уезжали на соседние улицы. Он услышал топот копыт и узнал жандармов. Потом вслед за ними в вечернем сумраке появилась толпа – ужасное смешение лохмотьев, поднятых рук, угрожающих пик и пламенных глаз. И за всем этим следовала телега.
В этом приближающемся к Гофману вихре, от которого он не мог ни спрятаться, ни скрыться, раздавались такие пронзительные и жалобные крики, каких он не слышал никогда прежде. На повозке сидела женщина, одетая во все белое. Эти крики вырывались из уст несчастной.
Гофман почувствовал, как у него подкосились ноги. Он оперся на фонарный столб, прислонившись головой к плохо притворенным ставням лавки, которые прикрыли в спешке.
Телега, окруженная толпой разбойников и неистовых женщин, ее обычных спутников, все приближалась. Но странное дело! Все это пресмыкающееся отребье не бунтовало и не рычало. Одна только жертва отчаянно рвалась из рук двух мужчин и просила помощи у неба и земли, у людей и даже у неживых предметов.
Вдруг до Гофмана через неплотно притворенные ставни донесся печальный голос молодого человека:
– Бедная Дюбарри! Вот до чего тебя довели!
– Госпожа Дюбарри! – вскрикнул Гофман. – Так это она в повозке?
– Да, сударь, – прозвучало в ответ прямо над самым ухом путешественника, да так близко, что сквозь щели ставня можно было почувствовать теплое дыхание таинственного собеседника.