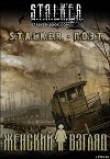Текст книги "Мертвая голова (сборник)"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Несчастная Дюбарри стояла прямо, стараясь удержаться на настиле телеги. Каштановые волосы женщины – ее гордость – были обрезаны на затылке и едва прикрывали виски. Она смотрела на все вокруг блуждающим взглядом и казалась прекрасной даже в этот предсмертный час. Ее аккуратный рот был слишком мал, чтобы исторгать эти ужасные крики, вырывающиеся из ее груди. Бедная женщина временами судорожно трясла головой, чтобы отбросить пряди волос с лица.
Когда ее везли мимо столба, к которому прислонился Гофман, она прокричала:
– Помогите! Спасите меня! Я никогда не делала зла, помогите! – И несчастная едва не опрокинула помощника палача, поддерживавшего ее.
Гробовое молчание толпы нарушалось только криками жертвы. Наблюдателей, этих фурий, привыкших издеваться над мужеством осужденных, тронули невыразимые терзания женщины. Они понимали, что их проклятия не смогут заглушить ее стенаний, и страшились довести это исступление до сумасшествия, до высшей степени страданий.
Гофман, не чувствуя биения сердца в груди, ринулся с толпой вслед за телегой. Он, словно новая тень, присоединился к погребальному шествию привидений, составлявших последнюю свиту королевской любимицы. Госпожа Дюбарри, увидев бежавшего за повозкой юношу, закричала снова:
– Верните мне жизнь!.. Я отдам все свое состояние народу! Сударь!.. Спасите меня!
«О, она обратилась ко мне! – подумал молодой человек. – Ко мне! Женщина, взгляды которой так дорого стоили, слова которой не имели цены, заговорила со мной!»
Он остановился. Повозка приблизилась к площади Революции. Среди мрака, только усиливавшегося от холодного дождя, Гофман смог различить две тени: белую – это была жертва, и красную – то был эшафот.
Юноша видел, как палачи тащили эту белую тень по ступеням. Он видел, как она пыталась противиться им, но вдруг ее страшный крик оборвался, и несчастная, потеряв равновесие, упала на роковую доску.
Гофман слышал, как женщина умоляла:
– Помилуйте, господин палач, еще одну минуту, господин палач…
Но в следующий миг все было кончено – нож упал, отбросив тусклый отблеск. Гофман поскользнулся и скатился в ров, окружавший площадь.
Это была чудовищная картина для артиста, искавшего во Франции новых впечатлений и новых мыслей. Бог сделал его свидетелем страшного наказания.
Недостойная смерть Дюбарри была в его глазах отпущением вины бедной женщины. Стало быть, она никогда не носила греха гордыни на душе, раз не смогла даже умереть достойно. Уметь умереть, увы! В то время это было главной добродетелью для тех, кто был не знаком с пороками.
Гофман в тот день признался самому себе, что если он приехал во Францию, чтобы увидеть вещи необыкновенные, то он достиг своей цели.
Несколько утешившись этой философской мыслью, он подумал: «Остается только театр, не отправиться ли мне туда? Я знаю, после того, что я видел всего минуту назад, актрисы оперные или трагические не произведут на меня большого впечатления, но я буду снисходителен к ним. Нельзя много требовать от женщин, умирающих только шутки ради… О, я постараюсь хорошенько запомнить это место, чтобы никогда ноги моей здесь больше не было!»
Суд Париса
Гофману была свойственна резкая смена настроений. После случившегося на площади Революции, взволнованного народа, толпившегося у эшафота, мрачного неба и крови ему захотелось света люстр, радостных лиц, цветов – одним словом, жизни. Юноша не был вполне уверен, что благодаря этому средству он сможет изгладить из своей памяти чудовищное зрелище, свидетелем которого он стал. Но молодой человек любым способом хотел развеяться и доказать себе, что есть еще на свете люди, способные жить и веселиться.
Гофман решил отправиться в Оперу. И юноша пришел туда, правда, так и не понял, как именно ему это удалось. Его вела сама судьба, и он следовал ей, подобно слепому, не отстающему от своей собаки.
Как и на площади Революции, народ толпился на бульваре, где в то время находился Оперный театр, а теперь располагается театр Порт-Сен-Мартен. Гофман остановился перед этой толпой и посмотрел на афишу. Играли «Суд Париса», пантомимный балет в трех действиях господина Гарделя-младшего, сына учителя танцев Марии-Антуанетты, ставшего со временем постановщиком балетов для самого императора.
– «Суд Париса», – прошептал поэт, пристально посмотрев на афишу, словно силясь запечатлеть в сознании эти два слова.
Но напрасно он повторял по слогам название балета. Оно казалось ему лишенным всякого смысла – так трудно было Гофману освободиться от переполнявших его печальных воспоминаний и всерьез задуматься о творении, сюжет которого был заимствован господином Гарделем-младшим из «Илиады» Гомера.
Не странное ли это было время, когда утром можно было видеть осужденных, в четыре часа дня – казненных, а вечером – танцующих, которые сами рисковали головой.
Гофман понял, что, если кто-нибудь не потрудится объяснить ему, что играют на сцене, он сам никогда не разберется и, может быть, сойдет с ума, стоя перед афишей. Из этих соображений юноша подошел к толстому господину, следовавшему за толпой вместе со своей женой, – с незапамятных времен толстые мужчины любят ходить с женами туда, куда идут все, – и обратился к нему:
– Сударь, позвольте спросить, что играют сегодня вечером?
– Но разве вы не видите, сударь, что написано на афише? – ответил толстый господин. – Играют «Суд Париса».
– «Суд Париса»… – повторил Гофман. – Ах, да! «Суд Париса», знаю.
Толстый господин пристально посмотрел на юношу и пожал плечами с видом глубокого презрения к молодому человеку, который в эти достойные мифологии времена мог, пусть и на мгновение, забыть, что такое суд Париса.
– Не угодно ли вам купить содержание балета? – спросил, подходя к Гофману, продавец программ.
– Да, пожалуй, не откажусь!
Это для нашего героя стало новым и веским доказательством того, что он действительно отправляется в театр, а он в этом очень нуждался.
Юноша открыл книжечку и пробежал ее взглядом. Она была аккуратно напечатана на хорошей белой бумаге и дополнена предисловием автора.
«Чудное создание – человек, – подумал Гофман, рассеянно глядя на строки еще не прочитанного им предисловия. – Он является частью общества, но идет по жизни равнодушным эгоистом, дорогой своих собственных выгод и честолюбивых планов. Взять, к примеру, господина Гарделя-младшего, поставившего этот балет 5 марта 1793 года, то есть шесть недель спустя после кончины короля, после одного из самых значительных событий в целом свете. В день представления этого балета господин Гардель испытал среди обычных ощущений новое для себя чувство: его сердце лихорадочно билось при громе рукоплесканий. Если бы в эту минуту с ним кто-нибудь заговорил о событии, волновавшем еще всю вселенную, и назвал бы ему имя короля Людовика XVI, он вскричал бы: «Людовик XVI? О ком вы?» Потом, будто со дня представления балета публике свет только и был занят этим событием, он издал предисловие, призванное объяснить его пантомиму. Что ж, прочтем его и, утаив от себя количество копий этого издания, посмотрим, найдутся ли там следы событий, под влиянием которых оно было написано».
Гофман облокотился на ограду театра и прочел следующее: «Я всегда замечал, что в балетах хорошая постановка декораций и разнообразные дивертисменты [9]больше всего привлекают зрителя и заслуживают аплодисментов».
«Стоит признать, что этот человек сделал весьма любопытное замечание, – подумал Гофман и не смог удержаться от улыбки при столь простодушном начале. – Не может быть! Он заметил, что балеты привлекают хорошей постановкой декораций и разнообразными дивертисментами. Как это высказывание понравилось бы господам Меюлю, Плейелю и Гайдну, написавшим музыку для «Суда Париса». Что ж, посмотрим, о чем говорится дальше».
«Руководствуясь этим соображением, я искал то, что позволило бы по-настоящему блеснуть знаменитым талантам, входящим в состав парижской оперной труппы, а мне – дать волю собственным фантазиям. История поэзии есть неистощимое сокровище, в котором может черпать вдохновение постановщик балетов; оно не без шипов, но надо уметь их отделить, чтобы сорвать розу».
– Ах! Вот так фраза! Пожалуй, она заслуживает, чтобы ее поставили в золотую раму! – воскликнул Гофман. – Только во Франции пишут подобные вещи!
И он стал перелистывать брошюру, собираясь продолжить любопытное чтение, начинавшее его развлекать. Но мысли вновь невольно вернулись к недавним событиям. Буквы начали расплываться в глазах мечтателя, он опустил руку, державшую «Суд Париса», и, устремив взгляд в землю, прошептал:
– Бедная женщина!
Тень госпожи Дюбарри еще раз мелькнула среди воспоминаний молодого человека. Тогда он встряхнул головой, чтобы усилием воли прогнать эти мрачные мысли, и, положив в карман книжечку господина Гарделя-младшего, взял билет и вошел в театр.
Зал был полон и сиял блеском драгоценных камней, шелка, обнаженных плеч и цветов. Отовсюду раздавался шепот надушенных женщин, везде звучали их легкомысленные речи, подобные жужжанию роя пчел. Они были полны слов, оставляющих в уме лишь пыль, похожую на ту, которая остается на пальцах детей от крыльев пойманных ими бабочек.
Гофман занял свое место и, покоренный царственной атмосферой зала, почти уже убедился, что он здесь с самого утра, а мрачное воспоминание, неотвязно преследовавшее его, есть лишь страшный сон, но никак не действительность.
Юноша воззвал к своему сердцу и воображению, мыслями и чувствами обратился к образу молодой девушки, оставленной им, и медальону, который висел у него на шее и внимал биениям его сердца. Гофман окинул взглядом всех окружавших его женщин с их нежными плечами, белокурыми и черными волосами, гибкими пальцами, играющими кончиком веера или кокетливо поправляющими цветы в своих прическах, и улыбнулся самому себе, произнося имя Антонии. Казалось, одного этого имени было достаточно, чтобы уничтожить всякое сравнение между той, что его носила, и всеми остальными женщинами и чтобы перенести его в край мечтаний в тысячу раз более прелестных, чем эта действительность, как бы хороша она ни была. Потом, будто этого было недостаточно, будто опасаясь того, что портрет, живущий в его воображении, может перестать быть идеалом, юноша запустил руку за жилет, нащупал под ним медальон и схватил его, подобно робкой девчушке, поймавшей птицу в гнезде. Уверившись в том, что за ним никто не наблюдает и ничей нескромный взгляд не осквернит нежного образа, который он сжимал в руке, Гофман медленно поднес портрет девушки к глазам. Полюбовавшись им с минуту, он нежно прижал его к губам, а затем снова спрятал медальон у сердца, не дав никому угадать причину восторга, вдруг наполнившего его душу лишь оттого, что он просто положил руку за жилет.
В следующую минуту подали сигнал, и первые ноты увертюры весело зазвучали в оркестре, будто резвые птички запели в роще. Гофман сел ровно, стараясь уподобиться другим слушателям. Он всеми силами пытался заставить себя внимать этой музыке.
Пять минут спустя Теодор уже не слушал и не хотел слушать: такая музыка не могла привлечь внимания юноши, тем более что она звучала для него сразу с двух сторон. Его сосед, вероятно, обычный посетитель оперы и почитатель Гайдна, Плейеля и Меюля, тихонько подпевал фальцетом различным ариям этих господ. Певец также аккомпанировал себе пальцами, длинные и гладкие ногти на которых с неподражаемым проворством отбивали такт по табакерке, которую он держал в левой руке.
Гофман с любопытством, характерным для всех наблюдателей, стал разглядывать этого господина, подыгрывавшего оркестру. Поистине, человек этот стоил того, чтобы на него обратили особое внимание.
Представьте себе невысокого мужчину в черном фраке, при галстуке, в брюках и в жилете, в белой сорочке, но такой белой, что ее снежный блеск ослеплял. Руки этого господина, наполовину закрытые манжетами, были тонкими и почти прозрачными, как воск, и вырисовывались на черном фоне брюк так, будто светились изнутри. Теперь обратимся к лицу незнакомца, на которое Гофман также взирал с любопытством, смешанным с удивлением: оно было овальной формы, со лбом, гладким, как слоновая кость. На его голове, подобно кустарникам на равнине, редели рыжие волосы. Теперь мысленно уберите брови и под местом, предназначавшимся для них, сделайте две дырочки для холодных, как стекло, глаз. Взгляд их почти всегда оставался неподвижным и оттого казался бездушным. Напрасно вы будете искать в них светлую точку, которую Бог поместил в глаза, как искру жизненного пламени. Глаза этого господина были голубыми, как небо, но они не выражали ни добродушия, ни жестокости. Казалось, они смотрели, но не видели. У него был тонкий длинный нос и маленький полуоткрытый рот с зубами, но не белыми, а того же воскового оттенка, что и кожа. Острый подбородок был тщательно выбрит, скулы сильно выдавались, а на щеках красовались впадины величиной с грецкий орех – вот, пожалуй, и все примечательные черты зрителя, сидевшего по соседству с Гофманом.
Ему могло быть пятьдесят лет, а могло быть и тридцать. Окажись ему восемьдесят или, скажем, двадцать, в этом не было бы ничего удивительного. Складывалось впечатление, что он появился на свет таким, какой он есть сейчас. Конечно, он никогда не был молод, и сложно было представить, чтобы он мог состариться. Казалось, стоит только дотронуться до его кожи, как все тело охватит холодная дрожь, которая пробегает по телу при прикосновении к змее или мертвому телу.
Стоит отметить, однако, что этот господин очень любил музыку. Время от времени под влиянием мелодии рот его раскрывался шире обычного, и тогда по три небольших складки, совершенно симметричных, появлялись с обеих сторон рта, образуя полукружия. Потом они постепенно исчезали, как от брошенного камня исчезают круги на воде: они все расширяются до тех пор, пока не сольются с поверхностью воды.
Гофман никак не мог насмотреться на этого человека. Тот, конечно, чувствовал на себе взгляд, но оставался неподвижным. Эта неподвижность доходила до такой степени, что наш поэт, уже носивший в себе в ту пору зародыш мысли, сотворившей впоследствии «Коппелию», облокотился на балюстраду, что находилась перед ним, и подался вперед, повернув голову вправо. Таким образом юноша пытался заглянуть в лицо человеку, которого до сих пор видел только в профиль.
Необычный господин посмотрел на Гофмана без всякого удивления, улыбнулся ему и, продолжая отстукивать такт, коротко и дружелюбно поприветствовал его. Взгляд его при этом оставался совершенно неподвижным и устремлялся в точку, невидимую для всех, кроме самого незнакомца.
«Странно, – подумал Гофман, устраиваясь на своем месте, – я готов был биться об заклад, что это мертвец».
И, как будто движение головы незнакомца, замеченное молодым человеком, недостаточно убедило его, он бросил еще один продолжительный взгляд на руки своего соседа. Тогда юношу поразила одна вещь: на табакерке, где отбивали такт пальцы этого странного господина, на табакерке из черного дерева блестела мертвая голова, сделанная из бриллиантов.
Все принимало в этот день фантастический оттенок в глазах Гофмана, но на этот раз он твердо решил выяснить, в чем дело. Нагнувшись, он так впился взглядом в эту табакерку, что губы его почти касались рук незнакомца, державшего ее.
Господин, подвергшийся такому пристальному вниманию, заметил, что его табакерка чрезвычайно занимает его соседа, и молча подал ее юноше, чтобы тот смог спокойно рассмотреть ее. Гофман взял табакерку, покрутил ее, повертел, рассмотрел со всех сторон и потом открыл. В ней лежал табак!
Часть вторая
Арсена
Внимательно рассмотрев табакерку, Гофман вернул ее хозяину, склонив голову в знак благодарности. Тот, в свою очередь, также ответил вежливым поклоном, но не проронил при этом ни слова.
«Посмотрим теперь, говорит ли он», – сказал Гофман сам себе и затем обратился к соседу:
– Прошу вас извинить мою нескромность, сударь, но эта маленькая бриллиантовая голова мертвеца, украшающая вашу табакерку, удивила меня, потому что мне нечасто приходилось видеть такого рода украшения на подобных вещах.
– Я думаю, что это единственная табакерка в своем роде, – ответил незнакомец металлическим голосом, походившим на звон серебряных монет. – Я получил ее в благодарность от сыновей одного человека, которого лечил.
– Так вы лекарь?
– Да, сударь.
– И вам удалось вылечить этого человека?
– Напротив, сударь, к несчастью, мы потеряли его.
Лекарь усмехнулся и продолжил напевать как ни в чем не бывало.
– Вы, кажется, любите музыку, сударь? – спросил Гофман.
– Да, а эту в особенности.
«Черт возьми! – подумал Гофман. – Вот человек, который, похоже, ничего не смыслит ни в медицине, ни в музыке».
В эту минуту поднялся занавес. Странный доктор понюхал щепотку табаку и поудобнее устроился в кресле, как человек, который ничего не хочет пропустить в предстоящем зрелище. Однако, как будто от нечего делать, он задал Гофману вопрос:
– Вы немец, сударь?
– Да, вы не ошиблись.
– Я узнал, откуда вы родом, по вашему выговору. Прекрасная страна, но скверное произношение.
Гофман поклонился при этих словах, прозвучавших то ли как комплимент, то ли как критика.
– И зачем же вы приехали во Францию?
– Чтобы увидеть ее.
– И что же вы успели здесь увидеть?
– Гильотину, сударь.
– Вы были сегодня на площади Революции?
– Да, был.
– Значит, вы видели казнь госпожи Дюбарри?
– Да, – ответил Гофман со вздохом.
– Я ее хорошо знал, – продолжал доктор доверительным тоном, который придавал слову «знал» большое значение. – Она была прекрасной женщиной!
– Так вы ее лечили?
– Нет, но я лечил ее негра Замора.
– Мерзавец! Мне говорили, что это он донес на свою госпожу.
В ответ раздался металлический хохот доктора.
– А вы, сударь, не присутствовали при этой казни? – спросил Гофман, чувствуя непреодолимое желание поговорить об этой несчастной женщине, кровавый образ которой не покидал его.
– Нет… Что она, похудела?
– Кто она?
– Графиня.
– Не могу этого сказать, сударь.
– Почему же?
– Потому что сегодня я видел ее впервые.
– Досадно. Я хотел знать это, потому что я помню ее очень полной. Но завтра я пойду посмотреть на ее тело. Ах! Взгляните на это! – И доктор указал на сцену, где господин Вестрис, игравший роль Париса, появлялся на горе Ида, строя с несказанным жеманством гримасы нимфе Эноне.
Гофман, по приглашению соседа, также взглянул на сцену. Юноша убедился в том, что этот мрачный доктор действительно был внимателен к постановке и что все сказанное и услышанное им не оставляло в его голове ни малейшего следа.
«Любопытно было бы увидеть слезы этого человека», – сказал Гофман сам себе.
– Знаете ли вы сюжет пьесы? – вновь спросил доктор после минутного молчания.
– Нет, сударь.
– О! Он очень занимателен. В нем есть очень трогательные места. У одного из моих друзей и у меня даже слезы на глаза наворачивались.
– Одного из его друзей… – прошептал поэт себе под нос. – Кто может быть другом этого господина? Вероятно, могильщик.
– Ах! Браво, браво, Вестрис! – зааплодировал странный господин.
Для выражения своего восторга доктор выбрал ту минуту, когда Парис, как было сказано в книжечке, купленной Гофманом у входа, «хватает свое копье, чтобы лететь на помощь к отчаявшимся пастухам, спасающимся от разъяренного льва».
– Я не любопытен, но все же хотел бы увидеть льва.
На этом закончилось первое действие. Тогда доктор встал, посмотрел по сторонам и, облокотившись на перегородку, располагавшуюся перед его креслом, заменил табакерку маленьким лорнетом. Незнакомец принялся рассматривать женщин, находившихся в зале.
Гофман безотчетно следил за лорнетом своего соседа и с удивлением заметил, что особа, на которой он задерживал свое внимание, вдруг вздрагивала и в ту же минуту оборачивалась к нему, будто принужденная к тому силой. Дама оставалась в таком положении до тех пор, пока доктор не отводил от нее лорнета.
– Где вы приобрели этот лорнет, сударь? – поинтересовался Гофман.
– Он достался мне от господина Вольтера.
– Вы были с ним знакомы?
– Очень хорошо, мы с ним дружили.
– Вы были его доктором?
– Он не верил в докторов. По правде сказать, он ни во что не верил.
– Ха! – воскликнул Гофман несколько презрительно. – Автор «Орлеанской девственницы» должен был ни во что не верить.
– Ах, да, «Орлеанская девственница»! – вскрикнул доктор. – Что за чудное творение! Это дивная вещь, сударь! Я знаю только одну книгу, которая может с ней соперничать.
– Что же это за книга?
– «Жюстина» маркиза де Сада… Вы читали ее?
– Нет, сударь.
– А маркиза де Сада вы знаете?
– Нет, сударь.
– Видите ли, – продолжал доктор восторженно, – Жюстина, пожалуй, единственное безнравственное произведение, которое вы сможете найти в печати! Поверьте мне, это дивно! – И глаза доктора засияли от удовольствия.
Подали сигнал к началу второго акта. Гофман был этому очень доволен, потому что сосед начинал пугать его.
– Ах! – воскликнул доктор, усаживаясь, и на лице его заиграла самодовольная улыбка. – Мы увидим Арсену.
– Кто это, Арсена?
– Вы ее не знаете?
– Нет, сударь.
– Ну, стало быть, вы ничего не знаете, молодой человек. Арсена есть Арсена, и этим все сказано. Впрочем, вы сейчас сами увидите.
И прежде чем оркестр взял первую ноту, доктор начал напевать увертюру второго акта.
Занавес поднялся. Сцена теперь представляла собой зеленую рощу, которую пересекал ручей, вытекающий из подножия утеса. Гофман опустил голову на руку. Все то, что он видел, все то, что он слышал, не могло развеять его печальных мыслей и тягостных воспоминаний, заставивших его прийти в театр.
«Чему бы она помешала? – размышлял юноша, вернувшись ко впечатлениям от дневных событий. – Чему бы на свете она помешала, если бы осталась жива? Какое зло случилось бы, если бы сердце этой несчастной продолжало биться, какое зло? Зачем нужно было так внезапно пресекать ее жизнь! Какое право они имеют останавливать течение этой жизни? Она бы сейчас занимала свое место среди всех этих женщин, но вместо этого ее тело, прежде любимое венценосцем, лежит на грязном кладбище, без цветов, без креста, обезглавленное. И как она кричала… Боже мой! Как она кричала… Потом вдруг…»
Гофман закрыл лицо обеими руками.
«Что я здесь делаю? – спросил он сам себя. – О! Я уеду».
И он действительно готов был уехать, когда вдруг, подняв голову, увидел на сцене танцовщицу, которая не появлялась в первом действии и на которую весь зал смотрел, замерев и не смея перевести дыхание.
– О! Как прелестна эта женщина! – вскрикнул Гофман так громко, что его не могли не услышать соседи и даже сама танцовщица.
Та, что пробудила этот внезапный восторг, посмотрела на молодого человека, у которого вырвалось это восклицание, и на какой-то миг ему показалось, что она поблагодарила его взглядом.
Юноша покраснел и вздрогнул, как будто дотронулся до пламенеющей искры. Арсена, потому что это была именно она, то есть та танцовщица, о которой говорил странный господин, действительно являлась воплощением невиданной прелести и красоты. Она была высокого роста и превосходного сложения. Лицо ее казалось бледным, а временами даже совсем прозрачным, несмотря на слой румян, покрывавших ее щеки. Ножки ее были такими миниатюрными, что, когда она опускалась на подмостки театра, можно было подумать, будто носок ее касается облака, потому что не раздавалось ни малейшего шума. Ее стан был тонким и гибким. Всякий раз, когда она опрокидывалась назад, казалось, что ее тело не выдержит такого напряжения, но она с легкостью поднималась вновь. В ее энергичных и уверенных движениях угадывались сознание собственной красоты и пламенная природа, свойственная древней Мессалине, порой утомленной, но никогда не пресыщенной. Арсена не улыбалась, как все другие танцовщицы. Ее пурпурные губки почти никогда не раскрывались, но не потому, что они скрывали дурные зубы, нет, но потому, что ее улыбка, которой она одарила Гофмана, когда он так простодушно выразил свой восторг, открывала двойной ряд белых жемчужин. Они были такими чистыми, что она, конечно, скрывала их, чтобы они не потускнели от воздуха. В ее черные блестящие волосы с синим отливом были вплетены виноградные листья, а гроздья винограда лежали на ее обнаженных плечах. Что касается глаз, то они были большими и черными и так блестели, что освещали все вокруг. Если бы Арсена танцевала во мраке, то взглядом она освещала бы сцену. Необычность этой женщины усиливало еще и то, что, играя роль нимфы, она без всякой на то причины не снимала с шеи черную бархотку, застегнутую пряжкой или, по крайней мере, чем-то вроде пряжки, сделанной из ослепительно сверкающих бриллиантов.
Доктор впился в эту женщину взглядом, и его душа, если только она у него была, казалось, слилась с прекрасной танцовщицей в ее полете. Все то время, пока Арсена танцевала, незнакомец сидел, затаив дыхание.
Тогда Гофман заметил любопытную вещь: шла она вправо, влево, назад или вперед, глаза Арсены никогда не отрывались от глаз доктора. Больше того, юноша ясно видел, как блеск пряжки на бархотке Арсены и тот, что исходил от черепа на табакерке, сливались в середине пути, превращаясь в водопад искр – белых, красных и золотых.
– Сударь, не одолжите ли вы мне ваш лорнет? – спросил Гофман, едва переводя дух и не отворачивая головы от сцены, потому что также был не в состоянии отвести глаз от Арсены.
Доктор протянул руку с лорнетом к Гофману, не поворачивая головы, поэтому руки двух зрителей некоторое время искали друг друга в пустоте, прежде чем встретиться. Гофман схватил наконец лорнет и поднес его к глазам.
– Странно, – прошептал он.
– Что? – спросил доктор.
– Ничего, ничего, – ответил юноша, пытаясь сосредоточиться на том, что происходило на сцене.
То, что он увидел, показалось ему весьма необычным. Лорнет так сильно приближал предметы, что два или три раза Гофман даже протянул руку, пытаясь схватить Арсену. Наш немец не упустил из виду ни одной мелочи во внешности неотразимой танцовщицы. Ее взгляд, издали обдававший пламенем, теперь будто тисками сжимал его лоб и кипятил кровь в его жилах. Душа молодого человека заметалась.
– Что это за женщина? – произнес он слабым голосом, не оставляя лорнета и не смея шевельнуться.
– Это Арсена, я уже говорил вам это, – ответил доктор, на лице которого, казалось, живыми были только губы, а неподвижный взгляд оставался прикованным к танцовщице.
– У этой женщины, конечно, есть любовник?
– Да.
– Она его любит?
– Говорят, что так.
– И он богат?
– Очень.
– Кто это?
– Посмотрите налево, на авансцене, в первом ряду.
– Я не могу повернуть головы.
– Сделайте над собой усилие.
Гофман готов был закричать – таким болезненным оказалось для него это усилие. Его шейные позвонки будто обратились в мрамор и чуть было не разлетелись на мелкие кусочки.
Юноша посмотрел на указанное место. Там, склонившись над балюстрадой, словно лев, сидел мужчина. Это был человек лет тридцати двух – тридцати трех, с лицом, изборожденным страстями: можно было подумать, что не оспа, а извержение вулкана образовало глубокие рытвины на этом взволнованном лице. Его маленькие от природы глаза расширились от волнения. То они были тусклы и безжизненны, как потухший кратер, то горели пламенем. Он хлопал не в ладоши, аплодируя, а по балюстраде, и от каждого хлопка, казалось, сотрясался весь зал.
– Как его зовут? – спросил Гофман.
– Неужели вы его не знаете?
– Нет, я приехал только вчера.
– Ну! Это Дантон.
– Дантон! – повторил Гофман, содрогаясь. – И он – любовник Арсены?
– Да, именно.
– И он, конечно, ее любит?
– До безумия. Он ревнив, как зверь.
Но, как ни занимателен был Дантон, Гофман уже перевел взор на Арсену, в безмолвном танце которой было нечто фантастическое.
– Позвольте еще один вопрос, сударь.
– Что вам угодно?
– Скажите, что изображено на пряжке, закрепляющей бархотку у нее на шее?
– Гильотина.
– Гильотина?
– Да, их делают прелестно, и все наши щеголихи носят по крайней мере одну. Та, которая на Арсене, – подарок Дантона.
– Гильотина, гильотина на шее танцовщицы, – повторял Гофман, чувствовавший, как голова его сжимается, – гильотина… к чему же это?

И наш немец, которого в ту минуту можно было принять за сумасшедшего, вытянул руки вперед, как будто для того, чтобы схватить какой-то предмет. По странным законам оптики расстояние, отделявшее его от Арсены, время от времени исчезало, и тогда юноше казалось, что он чувствует жаркое дыхание, вырывавшееся из ее груди, наполовину обнаженной и вздымавшейся, словно в сладострастном порыве. Гофман достиг той степени восторженности, когда дышат огнем и начинают опасаться, что тело не выдержит этой пламенной борьбы.
– Довольно! Довольно! – воскликнул он.
Нo танцы продолжались, и в этом видении начинали соединяться оба самых сильных впечатления дня. Фантазия Гофмана то преображала сцену в площадь Революции, и тогда юноша видел госпожу Дюбарри, бледную и обезглавленную, танцующую на месте Арсены, то Арсену, которая танцевала у гильотины и даже в руках палача.
В восторженном уме молодого человека смешались цветы и кровь, танцы и предсмертные муки, жизнь и смерть. Но надо всем этим господствовало только одно – магнетическое влечение к этой женщине. Всякий раз, когда пара этих стройных ног мелькала перед его глазами, когда прозрачная юбка взлетала немного выше дозволенного, трепет охватывал молодого человека, губы его дрожали, дыхание становилось пламенным, и тайные желания овладевали им.
В этом положении Гофману оставалось одно спасение – портрет Антонии, медальон, что он носил на груди, олицетворение чистой любви, противопоставленное любви чувственной, сила непорочного воспоминания перед плотскими желаниями.
Он схватил портрет и поднес его к губам. Но едва он сделал это движение, как услышал резкий хохот своего соседа, насмешливо смотревшего на него. Тогда Гофман вернул медальон на прежнее место и встал, словно вытолкнутый пружиной.
– Дайте мне выйти, – потребовал он, – дайте мне выйти, я не могу здесь больше оставаться!
И, как сумасшедший, он стал пробираться между рядами кресел, наступая на ноги, спотыкаясь о колени зрителей, ворчавших на чудака, которому заблагорассудилось выйти посреди балета.
Второе представление суда Париса
Но восторженность Гофмана не завела его далеко. На углу улицы Сен-Мартен он остановился. Юноша не мог перевести дух, пот катился по нему градом. Гофман провел левой рукой по лбу, а правую прижал к груди и тяжело вздохнул. В эту минуту кто-то дотронулся до его плеча. Он вздрогнул.
– Боже мой! Это он! – раздался чей-то знакомый голос.