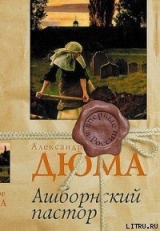
Текст книги "Ашборнский пастор"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 53 страниц)
Почему же я был столь радостным и столь грустным одновременно? Почему в голосе, звучавшем в моем сердце, были одновременно и нежность и печаль? Разве не исполнились все мои желания? Разве не получил я этот приход, которого так добивался? Разве в шкафах не было свежего белья, в сундуке – посуды, в погребе – пива, в ларе – хлебов, в саду – плодов? Разве эти четыре липы, под которыми поставили стол для меня, даже в полдень не даровали мне тень и прохладу? Чего мне еще недоставало? Что еще мне было нужно?
Увы, дорогой мой Петрус, мне было нужно то, о чем я еще вчера не мечтал, то, о чем, как мне казалось, я буду теперь мечтать непрестанно: мне нужно было существо, с которым я мог бы разделить все эти блага, ниспосланные мне Творцом; мне нужен был кто-то, кто сидел бы рядом со мной за этим столом, за которым мне предстояло сидеть одному.
И для того чтобы счастье мое было полным, в том случае если Господь дарует мне ангела-хранителя моей жизни, мне показалось необходимым, чтобы ангел этот обладал длинными золотистыми волосами, голубыми глазами, розовыми щечками и носил белое платье, перетянутое поясом небесного цвета…
XIVО ТОМ, КАКОЕ ВЛИЯНИЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ОТКРЫТОЕ ИЛИ ЗАКРЫТОЕ ОКНО НА ЖИЗНЬ БЕДНОГО ДЕРЕВЕНСКОГО ПАСТОРА
Как раз в ту минуту, когда я заканчивал свой обед, дочь школьного учителя привела ко мне какого-то крестьянина.
Он оказался посланцем моего собрата, уэрксуэртского пастора, славного и замечательного г-на Смита: о нем я, если не ошибаюсь, уже сказал несколько слов, дорогой мой Петрус, в своем предпоследнем письме, в том самом, в котором были отданы последние почести моей доброй г-же Снарт (Вы ведь помните об этом, не так ли?).
Посланец доставил мне письмо от коллеги.
Вот по какому случаю он мне его написал.
Пастор расположенной по соседству с Уэрксуэртом деревушки заболел, и вот уже больше полутора месяцев прихожане были лишены слова Божьего.
Естественно, они обратились к г-ну Смиту с просьбой найти хотя бы на один день замену его заболевшему собрату; тогда г-н Смит подумал обо мне и предложил этим добрым людям мою кандидатуру, полагая, что, к моему удовольствию и к моей пользе, предоставит мне возможность добиться нового триумфа.
Поскольку весть о моем успехе прогремела по всему краю, крестьяне приняли это предложение с великой радостью; таким образом, все теперь зависело только от меня, и г-н Смит осведомлялся, смогу ли я в ближайший четверг прибыть в Уэттон (так называлась деревушка), чтобы произнести там проповедь.
Господин Смит выбрал четверг, так как воскресенье по праву принадлежало моим прихожанам, и он не мог его наметить.
Впрочем, на четверг выпадал праздник, и это меня устраивало, поскольку праздничный день обещал многочисленную аудиторию.
Если я принимаю предложение, пастор будет ждать меня у себя, с тем чтобы проводить в Уэттон, находящийся не более чем в четверти льё от Уэрксуэрта; затем мы возвратимся и позавтракаем в семейном кругу у него дома.
Пастор просил меня дать определенный ответ, для того чтобы его жена и дочь, уезжающие через два часа с визитом к свояченице, живущей в Честерфилде, успели вернуться домой к ближайшему четвергу, если я принимаю предложение; если же, напротив, я от него отказываюсь, они останутся в Честерфилде еще на пару дней.
Приглашение было столь сердечным, что мне даже в голову не пришло отказаться или перенести проповедь на какой-нибудь другой день.
Я попросил у дочери школьного учителя перо, чернила и бумагу и сразу же написал в ответ собрату, что он может в означенный четверг рассчитывать на меня.
Чтобы никоим образом не заставлять его ждать, я буду в Уэрксуэрте к восьми часам утра.
Я хотел дать посланцу шиллинг за услугу, но, оказалось, ему уже заплатили.
Однако мне удалось настоять на том, чтобы он выпил со мной стаканчик пива за здоровье доброго г-на Смита, и посланец ушел вполне довольный.
А теперь, дорогой мой Петрус, почему же я согласился столь поспешно, можно сказать, чуть ли не с радостью?
Чтобы расширить круг моей известности? Чтобы принять приглашение г-на Смита? Чтобы сделать для собрата доброе дело? Все это мало для меня значило.
Больше всего мне хотелось оказаться поближе к девушке с золотыми волосами, с голубыми глазами, с розовыми щечками, в белом платье, перетянутом небесно-голубым поясом и узнать, кто она такая.
При некоторой ловкости, ни единой душе не выдав чувства, которому я повиновался, я несомненно достигнул бы своей цели.
Покончив с обедом и поблагодарив дочь учителя, я отправил ее домой и поднялся к себе в комнату.
Почему я так торопливо поднялся в свою комнату? Вы об этом уже догадываетесь, не правда ли, дорогой мой Петрус? Конечно же, я торопился поскорее снова взять в руки подзорную трубу моего деда-боцмана, растянуть ее и осмотреть весь горизонт в надежде вновь увидеть маленький красно-белый домик под покровом плюща и, если посчастливится, поднятые жалюзи.
Однако жалюзи все время оставались опущенными, и я с трех до пяти часов пополудни тщетно ждал, что они поднимутся.
В этом не было ничего необычного; в жаркий июньский день все опускают свои жалюзи, чтобы доставить себе хоть немного прохлады и полутьмы, и моя прекрасная незнакомка следовала в этом общему обыкновению.
С наступлением сумерек жалюзи ее, должно быть, будут подняты, чтобы через открытое окно пустить в комнату первый ночной ветерок, столь свежий и ласковый после предгрозового летнего дня.
Так что надо было ждать еще два часа.
Но два часа – это очень долго!
Два часа – это очень и очень долго, когда хочешь снова увидеть женщину!
Только подумайте, дорогой мой Петрус, я, который двадцать три года не замечал длительности времени и не испытывал желания увидеть еще раз ни одну из увиденных мною женщин, теперь находил, что два часа – это очень долго!
Впрочем, в моем распоряжении был способ сократить время – я мог пойти прогуляться в сторону Уэрксуэрта.
Что особенного в том, что ашборнский пастор знакомится с окрестностями этой деревни?!
Поскольку Уэрксуэрт расположен недалеко от Ашборна, я начну с Уэрксуэрта.
Почему нет? С Уэрксуэрта можно начать точно так же, как с любой другой деревни.
Я вышел.
Было как раз то время дня, когда крестьяне возвращаются после работы домой: женщины ожидали мужей на пороге; дети бежали к ним навстречу; все улыбалось, все распахивало объятия в большой человеческой семье.
И тогда я подумал о нашем мягкосердечном и нежном Вергилии, дорогой мой Петрус, о поэте почти христианском, который так красочно описал огромных длиннорогих белых волов, жующих выгоревшую траву под сенью дубов; баранов, с опущенными головами сгрудившихся под охраной пастуха и собак, когда на небе собирается гроза; и козочку, стоящую на крутом склоне скалы и пощипывающую горький ракитник, – и произнес вслух:
О fortunatus nimium, sua si bona norint,
Agricolas![8]8
Трижды блаженны – когда б они счастье свое сознавали! – //Жители сел! (лат.) – «Георгики», II, 458–459. Пер. С.Шервинского.
[Закрыть]
Но почти тотчас я сообразил, что цитата неверна и что мои земледельцы, крестьяне деревни Ашборн, сознавали свое счастье и, имея перед персонажами Вергилия то преимущество, что они были христианами, благодарили за все Небо.
Но кто же сделал этих мужчин такими счастливыми? Эти женщины, ожидавшие их на пороге домов; дети, бежавшие им навстречу; улыбки, посылаемые издалека, и поцелуи в родных объятиях.
У каждого из этих людей был свой ангел-хранитель, благодаря которому дом жил в отсутствие хозяина и при возвращении встречал его любовью.
В чем различие между опустевшим домом и заполненной могилой?
Могила вырыта в земле, а дом построен на ее поверхности; дом это тюрьма времени, могила – тюрьма вечности.
О, мой дом, казавшийся мне похожим на могилу, стал бы прекрасным для меня, если бы, возвращаясь из своих проповеднических поездок, я издали замечал бы на его пороге женскую фигуру в белом, протянутые ко мне руки и устремленный в мою сторону взгляд, а под большой соломенной шляпкой все яснее и яснее видел бы свежее лицо, голубые глаза и золотистые волосы!
Думая обо всем этом, я вышел из деревни Ашборн и широким шагом направился к Уэрксуэрту.
Правда, по мере того как я приближался к зелено-белокрасному домику, выдвинувшемуся поближе к дороге, словно часовой, походка моя замедлялась; сквозь наступившие сумерки я невооруженным глазом начинал различать его так же хорошо, как из окна моей комнаты при помощи подзорной трубы моего деда-боцмана; однако, несмотря на приход полутьмы, несмотря на отсутствие солнца и прохладу, окно все еще оставалось закрытым.
На беду, в сотне шагов от меня два или три сельских семейства ужинали в холодке под деревом, в то время как пятеро или шестеро детей водили хоровод на дороге.
Они уже не раз посматривали в мою сторону, и, если бы я повернул назад, они могли бы подумать, что я их избегаю; так что я направился к ним с намерением бесстрастно расспросить их о некоторых местных особенностях и, как бы между прочим, об этом домике, стоявшем не более чем в трехстах – четырехстах шагах от меня.
При моем приближении все встали из-за стола.
Я поприветствовал их; две из находившихся там крестьянок слышали мою проповедь и узнали меня; они тотчас же предложили мне сесть за стол вместе с ними и разделить их трапезу; поблагодарив, я отказался.
Дети прервали свои танцы и окружили меня; родители попросили благословить их чад.
– Я слишком молод, чтобы благословлять, – отвечал им я, – но, тем не менее, благословляю от всей души – и не только их, но и вас, ваши плоды, ваш урожай и ваши дома!
Они осведомились, действительно ли послезавтра я буду читать проповедь в Уэттоне вместо захворавшего пастора.
Я ответил им утвердительно: да, г-н Смит пригласил меня совершить это маленькое путешествие и предложил мне свое гостеприимство.
Тут крестьяне стали с похвалой рассказывать мне о порядочности, надежности, мудрости г-на Смита; его жена слыла лучшей хозяйкой в округе, и, хотя приход приносил всего лишь шестьдесят фунтов стерлингов в год, достойная женщина сумела сделать свой дом лучшим в деревне: все у нее было так, как в замке графа Олтона, возвышавшемся на холме; и, конечно же, г-н Стифф, управляющий графа, собиравшийся жениться на богатой наследнице из Честерфилда, не имел белья белоснежнее и тоньше, столового серебра более тяжелого и более блестящего, кухонной утвари более массивной и лучше луженной, чем белье, столовое серебро и кухонная утварь достойной г-жи Смит.
Что касается дочери пастора, о ней можно было сказать только то, что это ангел мудрости, набожности и приветливости.
Все эти сведения увели меня весьма далеко от зелено-красно-белого домика.
Как же вернуться к разговору о нем после рассказов о замке графа (Элтона, о доме, который был приготовлен г-ном Стиффом для своей супруги, о белье, столовом серебре, кухонной утвари доброй г-жи Смит и о мудрости, набожности и благожелательности мисс Смит?
Задача непростая, дорогой мой Петрус, особенно для меня, который, признаюсь, не склонен переходить с одной темы на другую.
Впрочем, я пребывал почти в дурном расположении духа, когда мне столь единодушно расхваливали дом г-на Смита, г-жу Смит, мисс Смит и не сказали ни единого слова о зелено-красно-белом домике, находившемся в трехстах шагах от нас, и о том очаровательном создании с золотистыми волосами, голубыми глазами и розовыми щечками, по сравнению с которым мисс Смит несомненно всего лишь обычная девушка.
Это дурное расположение духа заставило меня распрощаться с крестьянами и совсем хмурым возвратиться в Ашборн.
Увы, я издали увидел в темноте пасторский дом без единого огонька; никто не ждал меня на пороге; в кармане у меня лежал ключ, я открыл дверь и ощупью вошел в дом, пытаясь найти огниво и спички.
– Ах, бедный Уильям Бемрод! – воскликнул я со вздохом, когда мерцающий желтоватый свет заскользил по стенам пустой гостиной.
Остатки обеда стояли в шкафу для провизии, но у меня не хватило духа сесть за стол. Я поднялся в свою комнатку, держа лампу в одной руке и кусок хлеба – в другой.
Открыв окно, я пододвинул стул и сел.
На этот раз мой взгляд, минуя деревню, устремился прямо к огням, сиявшим на горизонте.
Среди всех этих огней я искал один – светившийся там, где стоял зелено-красно-белый домик.
Он затерялся среди огромного пространства ночной темноты, и чувствовалось, что там мирно царит ночь.
Однако я никак не мог решиться отойти от окна. Затем, разломив хлеб на куски, я с унынием съел их, ни на мгновение не сводя взгляда с той точки, куда он был устремлен.
Но вот отзвонили полночь, и, утратив всякую надежду увидеть свет в далеком окне, сосчитав все удары колокола, звон которых слетал с колокольни словно ночные птицы на бронзовых крыльях, я отошел от окна и лег спать.
Ночь моя была еще более беспокойной, чем прошедший день: меня сжигала лихорадка и одолевали бессвязные сны, я видел, как проходят передо мною, будто в тумане, все в белом, три дочери г-жи Снарт с венками увядших цветов на головах – они выходили из садовой калитки и удалялись по дороге в Уэрксуэрт…
И тут распахнулось окошко; моя незнакомка, с золотистым нимбом, с длинными белыми крыльями, склонилась над тремя покойницами; она возложила на их головы венки из васильков – такой же она на моих глазах поправляла на своей головке; затем три призрака удалились, мало-помалу бледнея, испаряясь, едва заметно колыхаясь над землей, и тихо, медленно поднялись к небу, подобные трем прозрачным облачкам…
Тогда мой взгляд, неотрывно следивший за ними до тех пор, пока они не растворились в эфире, вернулся к земле, чтобы вновь искать заветное окошко, но и оно, и весь домик – все исчезло!
На его месте я увидел бесформенное здание – наполовину церковь, наполовину надгробный памятник, – почти целиком погруженное в облако, над которым витал златоволосый, голубоглазый, розовощекий ангел в белом платье, перетянутом лазурной лентой.
И во время всех этих превращений на самой высокой ветви самой высокой ивы пел соловей, и я видел его сквозь стены: для моих закрытых глаз материальные преграды ровным счетом ничего не значили.
Ночью я просыпался раз десять; раз десять, истомленный этим сновидением, я призывал все силы моего разума разорвать его, разбить, уничтожить; но едва только снова смыкались мои веки, едва только мое сознание погружалось в полутьму, как все разорванные фрагменты сновидения опять связывались между собой, как срастаются части змеи, и я снова играл свою роль в этом фантастическом мире, становившемся для меня миром живым и реальным.
Проснулся я с наступлением дня – от всего сновидения осталась только песня соловья, приветствовавшего зарю.
Его пение смолкло с первыми лучами солнца.
Можно было бы сказать, что дневной свет прогнал духов ночи.
Я чувствовал себя разбитым от усталости.
Встав, я прошел в кабинет; мне не потребовалась подзорная труба, чтобы увидеть: далекое окошко было закрыто так же, как накануне.
Мой горизонт сузился до этого домика; не взглянув ни на что другое, я закрыл окно и сел за письменный стол.
В нем я нашел тетрадь белой бумаги, вполне готовую для моего великого творения, заглавие которого я уже написал, и ожидавшую только моей руки и пера; но каким же вычурным показалось мне в эту минуту заглавие, каким пустым – сюжет!
Пожав плечами, я отодвинул тетрадь: философия и философы внушали мне жалость.
В восемь утра я отправился в церковь, чтобы совершить утреннюю молитву.
Там были только женщины: мужчины на рассвете ушли в поле.
Я объявил, что на следующий день службы не будет, поскольку мне предстоит прочесть проповедь в Уэттоне.
Внимательно рассматривая женщин, а вернее девушек, я задал себе вопрос, найдется ли среди них хотя бы одна, которую мне хотелось бы сделать спутницей моей жизни, однако никто из них не соответствовал моему идеалу.
Некоторых я счел хорошенькими, но самые хорошенькие отличались вульгарностью и показались мне малообразованными.
Многие, уверен, стали бы превосходными хозяйками, и все же, полностью отвечая приземленным требованиям к женщине, ни одна не удовлетворяла бы духовных запросов, предъявляемых мужчиной к подруге, жене, своей второй половине.
Среди этих девушек я заметил дочь учителя, самую утонченную и самую хорошенькую из них.
Но между дочерью учителя и златоволосой незнакомкой, между сложением одной и грациозностью другой, между внешностью одной и личиком другой существовало такое же различие, как между пионом и розой, колокольчиком и лилией.
Однако, когда девушка снова пришла ко мне, чтобы приготовить обед, я, потому ли, что устал видеть окошко неизменно закрытым, потому ли, что маленькая моя экономка была и вправду хорошенькой и выигрывала при более близком и внимательном рассмотрении, я следил за всеми ее движениями, когда она сновала вокруг меня то ли по простоте душевной, то ли из кокетства – Бог весть почему! – и в конце концов подозвал ее и попытался завязать с ней беседу, но попытка оказалась плачевной и пошла лишь во вред бедной девушке.
Богу известно, дорогой мой Петрус, что с подобной женой я чувствовал бы себя еще более одиноким, чем наедине с самим собой!
Это несчастье возвышенных умов – их свойство смотреть на все только с высот духа и всегда выделять только то, что проступает на фоне Неба.
XVГЛАВА, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ЛИШЬ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Напрасно я почти безвыходно оставался в своей комнате, напрасно я через каждые десять минут подносил к глазам подзорную трубу – окно так и не открылось.
Что это могло означать?
Если бы моя незнакомка могла меня заметить или заподозрить, что я ее вижу, вполне естественно было предположить, что мои настойчивые попытки смотреть на нее оскорбили девушку; но она, вероятно, даже не подозревала о моем существовании, или же, если она знала, что в Ашборне есть новый пастор – а это было вполне вероятно после успеха моей проповеди, – она безусловно не ведала, что этот пастор разглядывает ее из своей комнаты, имея подзорную трубу, при помощи которой на расстоянии более чем двух миль предмет виден не менее четко, нежели невооруженным глазом на расстоянии ста шагов.
Не случилась ли с ней какая-нибудь беда?
О, если это так, почему она не посылает за ашборнским пастором?
Как он был бы рад утешить ее!
Какие мягкие, нежные, благочестивые слова нашел бы он для нее! Каким он показал бы ей Небо по сравнению с землей и самого Творца в начале и конце всего сущего!
Какое счастье было бы видеть, как эти прекрасные голубые глаза, наполненные слезами, и эти побледневшие щечки вновь приобретают под действием его увещаний: одни – свою безмятежность и ясность, другие – свою свежесть и розовый цвет.
Но это видение, мгновенно промелькнувшее перед моими глазами – не было ли оно просто моей грезой? Существо столь очаровательное, создание столь совершенное, как то, которое я увидел, могло ли оно обитать на земле? И не была ли колдовским инструментом подзорная труба моего деда, которая в определенные дни и в определенных условиях творит для своего хозяина фантастические образы, назначение которых – внушать ему жалость к реальному миру?
Увы, скорее всего, так оно и было: этим и объясняется столь настоятельный совет моей матушки, которая конечно же знала свойства этого талисмана, но не пожелала говорить о них, предвидя, что они если не сегодня, так завтра проявятся сами собой.
Беда только в том, что не наступил желанный день, не создались подходящие условия, потому-то подзорная труба не сотворила чуда и заветное окно осталось закрытым.
Настал вечер, и последние часы дня тянулись для меня невыносимо долго.
Наконец, прозвонило восемь, я вышел из деревни Ашборн и направился к деревне Уэрксуэрт.
Поскольку час был более поздний, чем накануне, я рассчитывал, что дорога окажется пустынной.
В таком случае я добрался бы до маленького домика, и если бы на этот раз мне представилась возможность обратиться к кому-нибудь с расспросами, я бы ей воспользовался.
Делая очередной шаг, я надеялся разглядеть свет сквозь планки жалюзи, и в то же время с каждым моим шагом эта надежда угасала.
К окраине деревни я пошел прямиком по полю, но, когда я подходил к дому, путь мне неожиданно преградила шестифутовая стена, которую я сначала не заметил, поскольку она была скрыта в гуще деревьев.
Стена ограждала сад, и мне пришлось ее обогнуть.
Мой дорогой Петрус, Вы, такой великий философ, а вернее такой великий знаток философии, скажите мне, почему так сильно забилось мое сердце и почему так сильно задрожали у меня ноги? Ведь наша святая протестантская вера, вместо того чтобы обособить нас от общества, вместо того чтобы лишить нас собственной семьи, позволяет каждому из нас быть человеком, быть супругом, быть отцом. Так что же постыдного было в том, что я пришел к девушке, которую увидел, к девушке, чье нежное личико так меня влекло?! Мои поступки походили на первые шаги, сделанные человеком в жизни, – та же неуверенность, та же робость; так же как ребенок, я вступал в неведомый мне мир и точно так же спотыкался в свете солнца.
Итак, я обошел стену: все окна дома были не только затворены, но еще и плотно закрыты ставнями.
Наконец я приблизился к фасаду – здесь стена уступила место решетчатой ограде.
Я проник взглядом сквозь эту ограду: через щели ставен в зале нижнего этажа дома просачивался свет.
Вся жизнь дома сосредоточилась в этом зале нижнего этажа – остальные помещения казались вымершими.
Быть того не могло, чтобы моя незнакомка находилась сейчас в доме: одно только ее присутствие оживило бы его, одушевило, осветило.
Ее уже нет здесь, она покинула свой дом, она уехала…
О, так оно и было, и как это я не догадался об этом раньше?
Теперь важно понять, как долго ее здесь не будет? Вернется ли она сюда однажды? Вернется ли вообще?
Но непотушенный свет в этом зале – уже не сама ли это надежда, не угасающая в нас до самой смерти?
Такие вопросы задавал я самому себе, когда услышал чьи-то приближающиеся шаги.
Конечно же, я не таил никакого злого умысла, когда бродил вокруг дома, и чувство куда более благочестивое и нежное, нежели любопытство, толкнуло меня просунуть голову в решетку ограды, и тем не менее при звуках шагов сердце мое охватил ужас.
Что скажут люди, когда узнают ашборнского пастора в человеке, прильнувшем к ограде одного из уэрксуэртских домов между восемью и девятью вечера?
Так что мне пришлось поспешно удалиться, тем более поспешно, что, обернувшись, я увидел трех мужчин, направлявшихся в мою сторону.
Кроме того, мне показалось, что я слышу вдалеке стук колес.
Я ускорил шаг, уже не оглядываясь; у меня появилось чувство, подобное тому, какое должен испытывать человек, совершивший дурной поступок, а ведь Бог свидетель, что мое столь сильно колотившееся сердце оставалось чистым!
Так что же со мной происходило? Не влюбился ли я? Влюбился! Какое безумие! Влюбился в девушку, которую я видел, а вернее, разглядел через подзорную трубу на расстоянии в две мили!
В конце концов, я не мог об этом судить, поскольку не ведал, что такое любовь.
Я поспешил возвратиться в пасторский дом и, не зажигая ни лампы, ни свечи, ощупью пробрался в кабинет, чтобы предаться своим переживаниям, и там упал в кресло.
Окно мое оставалось открытым, я посмотрел вдаль и невольно вскрикнул.
С правой стороны, там, где должно было находиться окно моей незнакомки, сиял свет, сиял там, где совсем недавно все тонуло в непроглядной тьме.
Ночь выдалась такая темная, что я даже при помощи подзорной трубы не мог разглядеть ничего, кроме этого света.
Однако он мог просто померещиться мне; надо было дождаться завтрашнего дня, чтобы обрести уверенность.
По-прежнему не зажигая ни лампы, ни свечи, я спустился в свою комнату и лег спать; мне хотелось поскорее заснуть и благодаря сну побыстрее прожить эту ночь, отделявшую меня от истины.
Однако не спит тот, кто хочет заснуть: этот столь страстно призываемый мною сон казался еще более неуловимым, чем его свита из сновидений, и явился он только глубокой ночью, но не коснулся моих глаз, а камнем лег на мое сердце.
Не стану даже пытаться рассказать Вам о сновидениях этой второй ночи, дорогой мой Петрус; они являли собой нечто подобное злоключениям Луция из сочинения Апулея: вся дорога кишела колдуньями, гарпиями, лярвами, которых мне приходилось обозревать; у меня кровоточили раны, которые мне нужно было залечить и которые то и дело вновь открывались; а вместо нежной соловьиной песни мне слышались зловещие крики ночных хищников.
Как я дотянул до шести утра в этом тяжелом, изнурительном сне, я не знаю; но что я знаю твердо, так это то, что, когда я проснулся, было уже очень светло.
О, какая это была ночь, дорогой мой Петрус! Когда я открыл глаза, мне показалось, что я из ада попал на Небо.
Первое, что пришло мне в голову, была мысль о просочившемся сквозь щели ставен свете, который я увидел накануне; но моя минувшая ночь оказалась такой лихорадочной и полной волнений, что я и в самом деле не мог отличить реальность от сновидения.
Я сказал себе, что свет мне просто померещился и что не надо раньше времени поддаваться радости, способной исчезнуть, как только к ней прикоснешься, и, чтобы убедиться в собственном самообладании, решил одеваться медленно, не забывая ни об одной детали моего обычного утреннего туалета.
Затем я вышел из спальни, пересек столовую, неспешно поднялся по лестнице в кабинет и, вместо того чтобы подойти к окну, сел в кресло перед письменным столом.
И только тогда я позволил своему взгляду переместиться в сторону окна.
Невооруженным взглядом едва можно было различить предметы на таком расстоянии, однако сквозь прореху в моей занавеске, словно специально проделанную для того, чтобы пропустить мой взгляд, я вроде бы увидел темную дыру на месте зеленых жалюзи.
Я схватил подзорную трубу, которую накануне не сложил, и, открыв окно, приставил ее к глазу.
О какое счастье! Жалюзи были подняты, клетка находилась на прежнем месте, а в клетке сидела птичка!
Однако мне показалось, что в комнате никого не было.
Ну и что же? Разве та, что жила в ней, не могла встать и выйти?
Не в пример мне, в шесть утра еще никто не проснулся, никто еще не занимался своим утренним туалетом.
О, как я жалел обо всем этом напрасно потерянном времени!..
Я радостно вскрикнул и ни о чем уже не сожалел.
Девушка только что вернулась к себе в комнату; я увидел, как она прошла в середину комнаты, вероятно от двери к камину, и узнал ее!
Вскоре у меня не осталось и тени сомнений на этот счет; она приближалась к окну, и я видел ее все отчетливее и отчетливее по мере того, как она вступала на освещенное солнцем место.
Одета она была во все белое, как и в прошлый раз; как и тогда, ее стан охватывала голубая лента.
Только лицо ее было еще более свежим и розовым, а ее золотистые волосы, когда их развевал утренний ветерок, казались еще светлее.
Незнакомка открыла клетку и выпустила на волю свою птичку.
Но та из благодарности сначала посидела на плече девушки, затем минуту поиграла ее кудрями; потом перелетела на самый кончик ветки и сидела там, покачиваясь.
У девушки в руке была роза; бросив ее птичке, она прошла через комнату и исчезла.
Колокольный звон позвал меня в церковь; там я вручил Господу сердце, полное радости и благодарности, и в молитве попросил ниспослать мне завтра вдохновение.
Я стал искать нужную для проповеди цитату из Писания, и она пришла мне в голову: уж не Бог ли внушил ее мне или я просто нашел ее в кругу моих раздумий в последние два или три дня?
И Господь сказал Рахили:
«Ты оставишь отца твоего и мать твою и последуешь за мужем твоим».
Возвратившись домой, я прежде всего прошел в кабинет, и сразу же мой взгляд устремился к заветному окну.
Оно все еще оставалось открытым, но в комнате никого уже не было.
Правда, я два или три раза видел, как там появлялась моя незнакомка, но появлялась она очень ненадолго и выглядела озабоченной, словно уже произошло или должно было произойти сегодня вечером или завтра днем какое-то значительное событие.
Для меня же таким значительным событием явилось возвращение моей незнакомки; я бросил взгляд на мою бедную маленькую домоправительницу, дочь школьного учителя, и спросил себя: как я мог хотя бы на минуту заинтересоваться этой девушкой?
Вечером моя незнакомка показалась мне более спокойной: она простояла у окна до тех пор, пока не исчез дневной свет и не наступила ночь.
Солнце садилось в пурпур и золото; она ни на мгновение не отрывала от него глаз вплоть до той минуты, когда его поглотил этот сияющий океан.
Тогда, будто после подобного зрелища уже ни на что в мире не стоило смотреть, девушка отошла от окна, опустив жалюзи.
И, словно после ее исчезновения уже ничто не стоило моего взгляда, я тоже закрыл свое окно.
О, какой мягкой и тихой оказалась эта ночь! Вместо жуткого кошмара минувшей ночи меня посетили чудные сновидения, и слышал я не крик совы или орлана, а пение соловья, до зари звучавшее над моим ухом.
Потому-то я и проснулся на заре.
Я обещал быть у г-на Смита в восемь утра; оделся я как можно лучше и причесался как можно красивее.
К несчастью, гардероб мой был посредственным, и вместо элегантных париков, какие носили тогда молодые люди, мою голову украшали мои собственные кудри.
Не сказал бы, что это выглядело непривлекательно; но, быть может, моя незнакомка придерживалась бы на этот счет иного мнения.
Что меня утешило бы, если бы я с ней встретился, а это в конце концов могло произойти, – повторяю, что меня утешило бы, так это следующее обстоятельство: вместо того чтобы делать себе прическу так, как было принято в это время, – в виде приподнятого и напудренного шиньона, она не пудрила волосы, а просто заплетала их в косы и оставляла свободно спадающие букли.
Впервые в жизни я уделил внимание собственной наружности, дорогой мой Петрус; до этих пор она меня ничуть не занимала, и, право, мне трудно было бы сказать, хорош ли я собой или дурен.
Теперь я с радостью, к которой примешивалась гордость, увидел, что лицо у меня скорее приятное.
И правда, смоляные волосы, которые я стыдился выставлять напоказ, были необычайно тонки и от природы вились; большие глаза отличались синевой и выразительностью взгляда, а над ними, словно арки, изгибались черные брови; нос прямой, рот крупный, зубы чуть великоваты, зато удивительной белизны; фигура стройная, а рост выше среднего…
К тому же, снимая с пальца обручальное кольцо моей матери, которое я всегда носил, я заметил, что рука у меня довольно белая, а надевая башмаки, убедился, что стопы у меня хотя и длинные, но узкие.
Все это в целом, да еще в придачу приход, приносивший девяносто фунтов стерлингов в год, делали из меня мужчину, которым не следовало пренебрегать родителям девиц на выданье, мужчину, вполне подходящего для молодой девушки.








