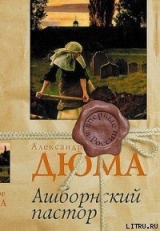
Текст книги "Ашборнский пастор"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 53 страниц)
ТРЕТИЙ СОВЕТ МОЕГО ХОЗЯИНА-МЕДНИКА
На следующий день я действительно получил от г-жи Снарт письмо, сообщившее мне, что данное ею накануне обещание одобрено ее мужем и что, поскольку моя проповедь уже объявлена в деревне, прихожане Ашборна рассчитывают услышать меня в ближайшее воскресенье.
Я же не стал дожидаться этого письма, чтобы взяться за дело и, получив любезное предложение славной г-жи Снарт, сразу же после обеда у моего хозяина начал готовить свою проповедь.
То ли потому, что я пребывал в возбужденном душевном состоянии, то ли потому, что мне пришла в голову мысль произвести сильное впечатление и удивить аудиторию своей суровостью, я решил темой предстоящей проповеди сделать пороки нашего века и испорченность современных нравов.
Тема была великолепна, ослепительна, безгранична.
Если бы мне пришлось говорить перед королевскими дворами Франции, Испании или же Англии, ничуть не сомневаюсь, что подобная проповедь из уст Боссюэ – а она, воистину, была достойна его – произвела бы сильное впечатление; но, наверное, для маленькой деревни с пятью сотнями жителей, такой, как Ашборн, для неискушенных умов, не ведающих о большей части тех пороков, какие собирался я громить; для населения, чьи будни целиком были посвящены труду, а воскресные часы – благочестию и отдыху; для людей, среди которых пьяницы, лентяи и дебоширы являлись исключением из правила, подобная проповедь, наверное, повторяю, была совсем неуместна.
К несчастью, этого-то я и не понимал и сделал то, что сделал бы драматический поэт, который сочинил бы пьесу вроде «Гамлета» или «Дон Жуана» с полусотней действующих лиц, в двадцати пяти картинах, для театрика марионеток, где реальный живой актер, стоя, поднимал бы задники, подобно тому как Юпитер Олимпийский Фидия приподнял бы свод храма, если бы ему вздумалось привстать со своего трона из золота и слоновой кости.
Вместо того чтобы здраво судить о театре и зрителях, я сам был ослеплен блеском моей темы; я хмелел от волн собственного красноречия и в субботу утром, спускаясь из своей комнатки к хозяину, чтобы прочесть ему мою проповедь, совершенно искренне сожалел о том, что такие люди, как Кальвин, Уиклиф, Цвингли, Боссюэ, Фенелон, Флешье, Бурдалу и Массильон, что, наконец, все проповедники, жившие когда-то или живущие ныне, не соберутся завтра в маленькой церкви Ашборна, с тем чтобы раз и навсегда получить урок религиозного красноречия.
По моему важному и самодовольному виду медник прекрасно понял: произошло что-то новое.
– Ну, что хорошего скажете, мой дорогой господин Бемрод? – спросил он.
– Скажу, мой досточтимый хозяин, что проповедь моя готова.
– И вы довольны? – поинтересовался он.
– Что за вопрос?! – откликнулся я с моим обычным чистосердечием. – Я считаю эту проповедь шедевром.
– Гм-гм, – только и произнес мой хозяин.
– Вы что, сомневаетесь? – бросил я высокомерно.
– Мой дорогой господин Бемрод, – ответил почтенный человек, – не знаю, бывают ли проповеди, похожие на кастрюли, и медники, похожие на проповедников, но мне постоянно встречались плохие работники, вполне довольные делом своих рук, в то время как мастера, настоящие мастера всегда ждут, чтобы похвала знатоков убедила их в достоинстве собственных творений.
– Ну что же, – согласился я, – ради этого-то я и спустился к вам, мой досточтимый хозяин, и теперь прошу вас высказать ваше мнение; я хочу прочесть вам мою проповедь, и, прослушав ее, вы скажете мне искренно, что о ней думаете.
– Вы оказываете мне слишком высокую честь, предлагая мне выступить в роли судьи (с этими словами мой хозяин приподнял шляпу). Спросите меня, из хорошей или плохой меди сделан котел, хорошо или плохо вылужена кастрюля, я отвечу вам смело и уверенно, поскольку тут я в своей стихии, но что касается проповеди, то каким бы ни было мое впечатление, хорошим или плохим, я не смогу даже сделать попытку обосновать свое мнение.
– В любом случае это будет суждение умного человека, мой досточтимый хозяин, и я прекрасно вижу, что вы знаете забавную историю об Апеллесе и башмачнике.
– Вы ошибаетесь, господин Бемрод, – просто ответил медник, – я ее не знаю.
– В таком случае я расскажу вам эту историю; она послужит отличным предисловием к моей проповеди, только вы предположите, что я – Апеллес, а вы – башмачник.
– Я предположу все, что вам заблагорассудится, господин Бемрод… Итак, ваша история.
Затем с восхищением, вызвавшим у меня признательность, он добавил:
– Ей-Богу, всякий раз после беседы с вами, дорогой господин Бемрод, я спрашиваю себя, откуда вам известно все то, что вы знаете?
Я с довольным видом улыбнулся и слегка поклонился, словно ловя на лету похвалу, сорвавшуюся с уст моего хозяина.
– Апеллес, – начал я, – был знаменитым художником родом из Коса, Эфеса или Колофона; его биографы, так же как и биографы великого Гомера, не пришли к единому мнению о месте его рождения. Известно только то, что Апеллес творил за триста тридцать два года до Рождества Христова.
– Черт побери! – улыбнувшись, прервал меня медник. – Шутка ли – за триста тридцать два года до Иисуса Христа! Это же не вчера, господин Бемрод, так что я ничуть не удивляюсь, что люди не помнят место его рождения… Через две тысячи лет кто будет знать, где родились мы, я и вы, господин Бемрод?!
– О друг мой, что касается меня, это будет известно, ведь для того чтобы потомство не оставалось в сомнениях или не впало в ошибку на этот счет, я в предисловии к великому произведению, которое сразу же прославит мое имя, не забуду сообщить, что я родился двадцать четвертого июля тысяча семьсот двадцать восьмого года в деревне Бистон. Однако вернемся к Апеллесу, который пренебрег подобной предусмотрительностью и оставил потомство в сомнениях.
– Слушаю, дорогой господин Бемрод; вы действительно говорите словно по писаному!
– Итак, я сказал, что Апеллес творил за триста тридцать два года до рождения Иисуса Христа. Жил он сначала при дворе Александра Македонского, а затем при дворе Птолемея. Был он великим тружеником, живописцем, ни единого дня не проводившим без кистей, как я не провожу ни единого дня без пера, и, поскольку отличался скромностью, свойственной огромному дарованию, показывал картины всем и выслушивал мнения даже самых простых людей.
– Так же, как вы, дорогой господин Бемрод, ведь вы теперь желаете знать мое мнение, – прервал меня медник.
– Слушайте дальше, друг мой, – продолжал я. – Однажды башмачник, затесавшийся в толпу зрителей, сделал столь верное замечание насчет сандалий одного из персонажей картины, что Апеллес поблагодарил его и исправил указанный им недостаток; «хирурга старых башмаков», по выражению нашего замечательного Шекспира, это преисполнило такой гордостью, что на следующий день он, не довольствуясь только критикой изображенных сандалий, принялся оценивать и все остальное на картине; но на этот раз Апеллес быстро оборвал его замечания и, положив руку на плечо своего критика, сказал: «Башмачник, не суди выше башмака!», что на латыни звучит так: «Ne sutor ultra crepidam!», а по-гречески: «Me гжер то) гжобгщхх, окшоторо^!»
– Хорошо сказано, дорогой господин Бемрод; однако, если только в вашей проповеди речь идет не о кухонной посуде, что я смогу сказать вам о вашем красноречии, поскольку вы, наверное, ответите мне так, как Апеллес сказал своему башмачнику: «Медник, не суди выше кастрюли!»
– Не похвал и не критических замечаний по адресу моей проповеди жду я от вас, дорогой мой хозяин; просто я прошу вас быть моей аудиторией и сказать, какое впечатление произвела на вас моя проповедь.
– О, если вы не просите о чем-то большем, мой дорогой господин Бемрод, то это дело нетрудное, и я сделаю все, как вы пожелаете… Так что начинайте: я слушаю.
– Садитесь, чтобы все было точно так, как в церкви… Я говорю для людей сидящих, а Цицерон установил различие между речами, предназначенными для сидящей аудитории, и речами, предназначенными для аудитории стоящей.
– Итак, я буду сидеть, господин Бемрод, раз вы того желаете.
И он сел.
Я же продолжал стоять, поскольку проповедник за кафедрой стоит, что облегчает ему речь и дает возможность разнообразить жестикуляцию.
Затем я откашлялся, сплюнул, как это у меня на глазах делали самые разные проповедники во время проповедей, на которых я присутствовал, и начал читать.
Между нами говоря, мне следует Вам признаться, дорогой мой Петрус, что я стал читать свою проповедь моему хозяину не только ради того, чтобы узнать его мнение, но и с тем, чтобы подготовиться к завтрашнему торжеству, чтобы это чтение послужило мне генеральной репетицией, как это называется у сочинителей трагедий и драм.
Поэтому я не пренебрег ни одним из тех приемов красноречия, которые и являют собой ораторское искусство; я пустил в ход то, что Цицерон считает нужным для человека, говорящего публично, – плавную речь, приятное лицо и благородную жестикуляцию.
Голос, жест и весь свой облик я привел в соответствие с отточенным мастерством; я был высокомерен, говоря о сильных мира сего, имеющих гораздо меньше шансов попасть на Небо, чем самый смиренный нищий; я был мрачен и суров, обличая пороки нашего времени и испорченность нравов; я представал грозным, беспощадным, испепеляющим, перечисляя мучения, которые уготованы грешникам в семи кругах ада, описанных Данте, великим флорентийским поэтом; к заключительной части проповеди я добрался настолько разбитый собственной жестикуляцией и горячностью, сопровождавшими мою речь, что на последней фразе, а вернее, на последнем слове этой фразы – ведь воодушевление не покидало меня до конца, – я упал на стул, стоявший, к счастью, у меня за спиной, а это значит, что я упал бы прямо на пол, если бы там не было стула!
Я уже был не в силах произнести и слова, но взглядом спрашивал моего хозяина о его впечатлении.
Медник продолжал сидеть молча, почесывая ухо.
– Ну, что? – спросил я его наконец, уже несколько обеспокоенный его затянувшимся молчанием.
– Что ж, – сказал он, – то, что вы сейчас прочли, господин Бемрод, прекрасно.
– Ах! – гордо выдохнул я, кивнув в знак согласия.
– Однако… – отважился мой медник, без сомнения колеблясь, продолжать ему или нет, памятуя историю об Апеллесе и башмачнике.
– Что однако?.. – прервал я хозяина.
– Однако, я не предполагал, что вы такой недобрый, господин Бемрод… Ах, далеко же вы зашли! Знаете ли вы, что нам, бедным грешникам, вы делаете просто дьявольский выговор?
– Зло не во мне, мой дорогой хозяин, – гордо отвечал я, – оно в людях. Так что, поскольку я знаю людей, я сужу о них по их делам.
– Э, дорогой мой господин Бемрод, – возразил медник, – я вот за всю мою жизнь только один раз побывал на спектакле: случилось это в прошлом году, когда из Лондона в Ноттингем приехала труппа комедиантов. Играли какую-то пьесу, автора которой я не знаю, а название забыл; единственное, что мне запомнилось, так это изречение: «Если бы секли всех, кто того заслуживает, нашелся ли бы хоть один человек, уверенный, что ему кнут не грозит?»
Я узнал цитату из «Гамлета», и она, словно ледяной ветер ночи, о котором говорит принц Датский, обожгла мне лицо. Несколько уязвленный, я спросил:
– Таким образом, дорогой мой хозяин, вы утверждаете, что люди добры, что у них нет ни пороков, ни недостатков?
– Я не говорил, что люди добры, дорогой господин Бемрод. Сказано было другое: я не предполагал, что вы такой недобрый… Думаю, трудно будет вам убедить своих слушателей в том, что во всем мире вы единственный справедливый, честный, целомудренный, добропорядочный и мягкосердечный человек. А в целом, повторяю, проповедь ваша очень хороша, господин будущий пастор… однако жду вас завтра по возвращении из Ашборна. До свидания и доброго пути, дорогой господин Бемрод!
С этими словами он взял шляпу и вышел, оставив меня посреди своих котлов и кастрюль с текстом моей проповеди в руке.
Минуту я сидел, оглушенный суждением моего хозяина, затем, наконец встал, покачал головой и отправился в путь к деревне, где завтра мне предстояло дебютировать и где мне предложили столь трогательное отеческое гостеприимство.
Я решил идти пешком, чтобы сэкономить на карете, ибо, несмотря на мою бережливость и житейские лишения, число моих бедных гиней уменьшалось прямо на глазах.
Поскольку мне пришлось проделать долгий путь длиною в семь льё по малолюдной дороге, мне то и дело вспоминалось суждение моего хозяина.
По мере того как я от него удалялся, приближаясь к деревне, где мне предстояло прочесть проповедь, раздражение мое против бедного человека слабело, и мало-помалу мне стало казаться, что, несмотря на всю суровость, мнение его, однако, не лишено было оснований.
И верно, по какому праву, я, молодой человек двадцати трех лет от роду и, следовательно, моложе большинства прихожан, вознамерился подавить их тяжестью моей суровости и ставить им в упрек пороки, о каких они, может быть, и не ведали, и преступления, каких они безусловно не совершали?
Я вовсе не был их пастором, я не жил среди них; все эти обращенные ко мне лица я увижу впервые.
Возвышаясь над ними в качестве их судьи, не подвергнусь ли я сам их суду?
Мое глубокое знание людей, которое они не могут даже оценить, могло ли оно послужить мне извинением?
И действительно, многое из того, что мой хозяин-медник мог добавить к своим словам, он не произнес прежде всего потому, что я не дал ему времени для этого, и, быть может, также потому, что здравый смысл помогал ему схватить целое, не охватив множество подробностей.
Конечно, от всего этого проповедь моя не становилась менее прекрасной; это нисколько не мешало ей оставаться великолепным образцом красноречия, однако я спрашивал себя, стоит ли расточать его перед существами невежественными и грубыми.
Не означало ли это выбрать неверный путь и, попросту говоря, метать жемчуг перед свиньями?
Подобные размышления одолевали меня на протяжении всего пути, и, повторяю, с каждым моим шагом они становились все неотвязнее.
К несчастью, я не имел времени сочинить другой текст: мою проповедь назначили на завтра, и завтра ее будут ждать.
Я решил пересмотреть мой текст ночью, смягчив главные резкости, а также изъяв слишком уж горячие пассажи.
К этим исправлениям меня подвели мои собственные раздумья, вызванные наблюдениями моего хозяина-мед-ника, а также внушенные местным пейзажем и видом жителей края.
Край этот являл собой прелестную равнину, уже золотящуюся под теплыми летними лучами, где повсюду виднелись очаровательные, похожие на оазисы купы деревьев; пейзаж оживляли крестьяне, занятые последними сезонными работами в поле.
Все они, своими трудами и песнями дававшие жизнь этой равнине, выглядели людьми честными, не таящими скверных мыслей и не способными на злые деяния.
Так что, увидев издали колокольню той деревни, куда лежал мой путь, я еще больше убедился, что и на этот раз, как всегда, прав был мой хозяин-медник, а я ошибался.
С таким чувством я и пришел в пасторский дом.
Добрая г-жа Снарт ждала меня у дверей; она повела меня к своему мужу, целый месяц лежавшему на кушетке и уже не встававшему, поскольку он умирал от туберкулеза легких.
Больной протянул мне руку, поприветствовал меня угасшим голосом и предложил сесть рядом с его кушеткой – за стол, накрытый для его жены и для меня.
Я прошел семь льё пешком, я был молод и здоров и отнюдь не страдал отсутствием аппетита; мне потребовалось совсем немного времени, чтобы пройти в приготовленную для меня маленькую комнату, белую, словно комната невесты, привести себя там в порядок и вновь присоединиться к моим хозяевам.
Судя по всему, они, не будучи богатыми, тем не менее были вполне обеспеченные люди.
И правда, пастор сообщил мне, что приход приносит ему в год девяносто фунтов стерлингов, а этого вполне хватало на жизнь в деревеньке с пятьюстами обитателями.
Поэтому все в пасторском доме было свежим, все сияло чистотой – белье, фаянс, столовое серебро.
Маленькое хозяйство вела одна-единственная служанка, однако она отличалась опрятностью, ухоженностью, улыбчивостью, приветливостью, умением читать в глазах хозяев их желания и выполнять их, не ожидая распоряжения.
Если не считать умирающего, который, впрочем, как все чахоточные, не догадывался о состоянии своего здоровья и строил радужные планы на время после выздоровления, все выглядело благословенным вокруг кушетки, на которой умирал пастор.
И только когда глаза мои останавливались на грустном лице его супруги и замечали обеспокоенный взгляд служанки, я понимал, что в этом доме, с одной стороны, затаилось огромное страдание, а с другой – поселился великий страх, который обе женщины боялись обнаружить перед больным, стараясь спрятать его даже от самих себя.
Я вошел в дом пастора в пять вечера; обед, который следовало бы назвать скорее ужином, длился до половины седьмого.
Когда мы встали из-за стола и я собрался уйти, до сумерек, следовательно, оставалось еще два часа.
Говорю: «когда я собрался уйти», поскольку, беспрестанно мучимый этой злосчастной проповедью, о которой ни на минуту не забывал и которая все больше представлялась мне неуместной, я решил прогуляться по деревне и завязать более близкое знакомство с обитателями Ашборна.
Господин и госпожа Снарт, которые уже говорили мне 0 простосердечии и чистоте нравов этих славных людей, со своей стороны тоже предложили мне совершить прогулку, словно они сумели прочесть в глубине моего сердца мои тревоги и угадали, что мне для обдумывания своих мыслей необходимо созерцать один из мягких деревенских вечеров.
Итак, я вышел, обводя все вокруг беспокойным и испуганным взглядом и больше всего страшась убедиться, что перед моими глазами протекает жизнь безгрешная и спокойная!..
Увы, дорогой мой Петрус, даже вечер золотого века не мог бы быть более мирным и более радостным, чем этот представший моему взгляду вечер, позолоченный последними солнечными лучами.
Старые матери сидели у прялок, поставленных прямо на улице перед порогом дома; старики беседовали, сидя на каменных или деревянных скамьях; мужчины среднего возраста играли в шары или в кегли; наконец, девушки и парни под звуки скрипки или флейты танцевали на деревенской площади в тени четырех высоких лип.
Во всем ощущалось, что это субботний вечер, то есть конец последнего дня трудовой недели; крестьяне радостно предвкушали предстоящий им завтрашний отдых, и все эти славные люди, хоть и не читавшие никогда Горация, уже забыв о прежней усталости и еще не беспокоясь о будущей усталости, словно повторяли слова этого принца поэтов и короля эпикурейцев: «Valeat res ludicra![4]4
Прочь забавы! (лат.) — «Послания», II, 1, 180.
[Закрыть]»
К стыду моему, признаюсь, дорогой мой Петрус: эта картина, достойная кисти ван Остаде и Тенирса, вместо того чтобы порадовать, глубоко опечалила меня.
Мне хотелось бы слышать пьяные песни, шум и гул в трактирах, споры и драки на перекрестках.
Мне хотелось бы видеть, как эти парни и девушки, танцующие под присмотром бабушек и дедушек, группами украдкой ускользают из деревни, словно тени, и скрываются в поле.
Мне хотелось бы видеть, как богач отказывает в милостыне бедняку и как бедняк плачет и богохульствует.
Мне, наконец, хотелось бы, чтобы произошло что-то способное оправдать мою завтрашнюю проповедь, в то время как на самом деле, куда бы я ни кинул взгляд, я видел только мирные картины честной жизни обитателей деревни, развлекающихся без всяких скандалов и прерывающих свои забавы только ради того, чтобы приветливо поздороваться со мной и дружески мне улыбнуться, ведь наблюдая, как я, одинокий и всем чужой, брожу по деревенским улицам, люди догадывались, что я и есть тот молодой пастор без паствы, который в своем проповедническом рвении пришел бескорыстно сеять слово Господне на почве, оставшейся невозделанной из-за болезни одного из его собратьев.
Я надеялся, что опускающаяся на землю тьма, эта матерь дурных помыслов и злодейских поступков, что-то изменит к худшему в этой безгрешной деревне, похожей на одну большую семью.
Я ошибся.
Наступили сумерки, а затем пришла и ночь – темная, словно ее призвали на помощь сам порок и само преступление.
Однако с наступлением ночи крестьяне разошлись по домам, обменявшись благочестивыми поцелуями или дружескими рукопожатиями; один за другим гасли огни; мало-помалу стих шум, и я, оказавшись в полном одиночестве, стоял посреди деревенской площади, со скрещенными на груди руками, опершись об одну из лип, осенявших радостный танец крестьян, стоял еще более темный и мрачный, чем окутавшая меня ночь!
На ночлег я возвратился потрясенным!..








