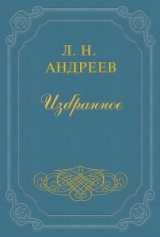
Текст книги "Спокойных не будет"
Автор книги: Александр Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Закрой рот шарфом, а то схватишь простуду.– Я поднял воротник ее шубейки, поправил шарф.
– Не кутай меня,– прошептала она.– Мне не холодно, мне как-то стеснительно, вот здесь, в груди. Распахнуться хочется, как весной...– Ее глаза, немигающие, яркие, точно две звезды, мерцали перед моими глазами и как будто чего-то искали во мне, чего-то ждали.– Пройдем к реке.
Она двинулась впереди меня, неслышно, точно скользила по снегу, мелькала среди черных стволов деревьев, то выплывая на свет, то теряясь в тени. На берегу сразу чувствуется, что жизнь не стоит на месте, не застыла. В реке шла не прекращающаяся ни на секунду работа. Внизу, во тьме, сердито ворчала вода, омывая камни, и мороз не в силах был сковать ее льдом.
– Страшно как! – прошептала Катя, заглядывая с обрыва вниз, и сжала мой локоть.– Сорвался – и пропал! Я иногда думаю: идет, идет человек, как завороженный, видит перед собой протянутую руку, глаза, слышит голос: «Иди, иди ко мне». И человек идет. И вдруг не стало ни руки, ни глаз, ни голоса, а под ногами зыбкая жердочка над пропастью, неосторожное движение – потерял равновесие и полетел в бездну. Сердце захлебнулось – и конец.
– Ты так говоришь, Катя, будто с тобой это случалось.– Взгляд мой приковывала шумящая темнота под обрывом.
– Со мной нет,– ответила Катя.– Но с другими случалось... Сколько же ходит по земле несчастных девчонок, обманутых, брошенных, с растерянной верой, со слезами в душе!..
– А ребят? Думаешь, меньше?
– Ребята тоже есть. Но не столько. И им легче, они могут со зла, от обиды стиснуть зубы, а девчата нет. В несчастье у них слезы – помощники...– Помолчала немного, чутко прислушиваясь к ворчанию реки, и сказала: – Я тоже могу идти по жердочке, я себя знаю...– Повернувшись, она приблизила ко мне лицо.– Алеша, твое сердце занято?
Вопрос прозвучал неожиданно, с надеждой и непосредственностью, чистота и наивность его привели меня в замешательство, я даже отступил на шаг, натолкнувшись на сосну. Сняв варежку, я принялся зачем-то отковыривать пахучую чешую коры. Будь на ее месте другой человек, я, быть может, свел бы все к шутке. Но сейчас всякие шутки были бы неуместны и бестактны.
– Почему ты молчишь! Ты хочешь, чтобы я сказала первая? Могу: ты мне очень нравишься, Алеша, очень, я даже не знаю как...
Я поспешно остановил ее:
– Не надо, Катя. Пожалуйста.– Я не смел взглянуть на нее.– Вообще ничего не надо. У меня есть жена. В Москве. Я ее люблю.
– Ой, Алеша! – Она слабо вскрикнула и отшатнулась от меня к обрыву, и мне показалось, что еще шаг – и она сорвется и полетит в кипящую темень реки. Я с испугом схватил ее за рукав и оттащил, хотя до обрыва было еще далеко. Катя вырвала у меня руку и побежала в сторону палаток, в отдалении еще раз вскрикнула и пропала. Я остался один на безлюдном ночном берегу, по которому еще неуверенно, первыми пробными шажками шел новый и юный год.
10
ЖЕНЯ. Названов ввел меня в небольшую комнату, тускло освещенную настольной лампой, и притворил за собой дверь. В комнате сразу стало глухо и как будто тесно. В подошла к балкону и подставила лицо под форточку; в нее толчками текла морозная свежесть и холодила лоб; на площадке балкона, на решетке мерцал снег.
– Не простудитесь? – Приглушенный голос прозвучал возле моего уха: Названов стоял сзади меня, совсем близко.
– Я не боюсь.
Названов робко кашлянул – так кашляют, когда пытаются подавить сильное возбуждение, вызванное чем-то таким, чего надо опасаться или надо скрыть.
– Я часто думал о вас, представьте,– сказал Названов,– о ваших словах, о вашем характере, о вашей манере говорить... Когда вы в гневе, то делаетесь красивее, чем обычно.
– Значит, мне нужно все время с вами не соглашаться и дерзить?
– Пожалуйста. Я с удовольствием буду на вас смотреть... Но вы хороши и в мягкости своей, в женственности. Многообразие украшает...
Названов положил мне на плечи руки, они были горячи и тяжеловаты. Но я не сделала ни единого движения, чтобы освободиться от них; мне было приятно ощущать и их тяжесть, и их тепло; тепло как будто облило меня сверху донизу; я со страхом чувствовала над собой его власть – власть рук... Оторвав взгляд от голубоватого снега на балконе, я повернулась и встретилась с его глазами: они возбужденно светились. Только тут стал доходить до меня смысл того, что говорил Названов,– слова его пробивались ко мне, как сквозь густой туман.
– Человек живет для наслаждений... Любовь – это первооснова человеческого бытия. Любовь – это главный стержень, вокруг которого вращается вся жизнь человечества с его грехом и с его святостью, с его безднами и взлетами, с его гениями и посредственностями, с его страданиями и восторгами. Любовь – это в конечном итоге продолжение жизни на земле. Одна она бессмертна и разумна. Она заставляет наслаждаться всем, что тебя окружает. Картины, музыка, стихи, путешествия – все твое. Если ты захотел пить, а рядом бьет из земли родник, то тебе надо лишь нагнуться, зачерпнуть и выпить. Если растет цветок, то сорви его, поднеси к лицу или приколи к волосам. Не надо сдерживать порывы. Любовь за это мстит: высушивает душу, а душа подобна полю без влаги – покрывается трещинами. На нем вырастают не цветы, но сорняки. Душа, заросшая сорняками! Вы только представьте!..
– По-вашему, надо брать все, что попадается под руку? – сказала я, стараясь осмыслить уже не только то, что он говорил, но и для чего это все говорилось.
– Нет, не все,– прошептал он.– Надо брать редкое, то, что напоит до краев: солнце, искристое вино, цветы, красоту любви.– Чуть склонившись, он поцеловал меня; а затем, не отрываясь от меня, не выпуская из объятий, отвел от окна к тахте в углу; шепот его становился все горячей, прерывистей: – Ты такая красивая... Удивительная... Я никогда еще не встречал такой женщины... Это счастье – быть рядом с тобой...
Я чувствовала, как в груди моей становилось тяжелей и тяжелей, хотелось крикнуть, но голос мой обрывался, пыталась пошевелиться, но тело мне уже как будто не подчинялось, не было сил... И вдруг внезапно, остро и больно, точно молнией, ударило по глазам: я увидела глаза Алеши. И них стоял дикий, нечеловеческий крик, боль, ужас!.. Мной самой овладел ужас. Собрав все силы, я рывком отшвырнула от себя Названова. Не ожидавший этого, увлеченный, он грохнулся на пол возле тахты.
– Что ты? Что с тобой? Женя!..
Я наклонилась над ним.
– Никогда. Слышишь? Никогда! – Через несколько минут меня в квартире уже не было. Вадим бросился провожать, но я запретила: – Не надо. Сама дойду.
Возле подъезда я постояла немного. Жадно вдохнула студеный воздух и содрогнулась всем телом, крупно, зябко, и запахнула пальто. Взглянула на часы: без четверти два. По освещенным улицам брели толпами подвыпившие люди. Они уже нагулялись.
Я шла одна, еще не зная, куда приду. Папа и мама, наверное, не вернулись из гостей, а если вернутся, мама удивится, найдя меня дома, обязательно пристанет с расспросами: почему пришла так рано, что случилось?
Падал тихий снежок, роился вокруг фонарей, и на тротуаре темной цепочкой ложились мои следы. «Не надо сдерживать порывы, – вспомнила я слова Названова.– Душа подобна полю без влаги покрывается трещинами...» Какая дешевка, пошлость! Вот так нас, дурочек, и ловят. На красивые фразы. Я засмеялась невесело: расхрабрилась, попыталась блеснуть свободой. Какая тут свобода! Человек, страдающий от тоски и одиночества, не может быть свободным... От обиды выступили слезы: как позволила обнять себя, поцеловать?.. Чужому человеку! Какая бесхарактерность!
Из туннеля вымахнул и, гремя кузовом, понесся по Смоленской площади самосвал. Перед светофором оглушительно, кажется на весь город, заскрипев тормозами, он осадил, весь задрожав от нетерпения. Я подбежала к кабине машины, постучала в стекло дверцы. Водитель, повалившись на правый бок, открыл ее.
– Чего тебе? – спросил он. Это был молодой парень в серой кроличьей шапке.
– Ты куда едешь?
– Пока прямо. А что?
– Подвези немного.
– Прыгай скорее!
Мелькнул зеленый огонь светофора, и машина, взревев, рванулась вперед. В кабине было тепло, пахло нагретым металлом и маслом. Шофер, повиснув на руле, гнал по пустынной улице, громыхал на перекрестках, ревел в туннелях.
– Новый год пропустил? – спросила я, склоняясь к нему.
– Пропустил, черт бы ее побрал, такую работу! За город гонял. Обещали, что вечером буду назад. Ничего, наверстаю! Плохо одно: жена с ума сходит, наверно.– Парень, взглянув на меня, засмеялся.– А ты почему одна? Поссорились, что ли?
– Поссорились,– ответила я.
– Это вы зря. Значит, весь год будете в ссоре. Есть такая примета. Из-за чего поссорились-то? Приревновали небось?
– Приревновали.
– Он тебя или ты его?
– Оба вместе.
– На вечеринках только тем и занимаются, что ревнуют друг друга. У меня жена ревнивая – спасенья нет! А я, как выпью, становлюсь ухажером – тоже спасенья нет! – Парень хохотнул, открыв белозубый рот. Притормозил.– Здесь сойдешь?
– Здесь.
– А может, в нашу компанию поедешь догуливать?
– Спасибо.
– Ну, с Новым годом тебя!
– Тебя также,– сказала я.– Желаю счастья.
– Тебе тоже.– Шофер не закрывал дверцу.– Слушай, это я зря сболтнул насчет того, что весь год будете ссориться. Это бабьи приметы. Предрассудки. Выбрось из головы.
– Ладно, выброшу.– Я помахала водителю рукой. Самосвал опять рванулся с места.
Таганская площадь была как бы застлана белым снежком и выглядела по-праздничному прибранной и свежей. Кое-где были распахнуты окошки, из них валил сизый пар и вылетали звуки музыки и нестройное, с выкриками, пение.
Я пересекла площадь, прошла немного по улице и свернула в темные ворота. Во дворе было глухо, мрачно и страшновато, и я побежала, споткнулась, чуть не упала... И вот деревянная лесенка, ведущая на второй этаж, где живут отец и мать Алеши.
На площадке перед самой дверью я задержалась, чтобы перевести дух, овладеть собой.
«Зачем я иду? – спросила я сама себя.– Что даст мне и им это мое посещение? Они, наверно, со всем уже смирились, как с неизбежным, и давно позабыли обо мне, а если и вспоминали, то с горечью и с досадой. Больше месяца не давала о себе знать, а тут вдруг – нате вам! – заявилась. Зачем? Что от этого изменится в моей жизни? И вообще, что привело меня к ним? Да у меня и мысли никогда не было о таком визите. Не толкнуло ли меня сюда чувство душевной неустроенности и одиночества и желание пожаловаться кому-то на свои боли? Но, может быть, мои боли для них безразличны? Тогда зачем тревожить стариков в такой час, они уже спят, наверно. Веселиться им не с чего. Приду завтра, если меня потянет сюда с такой же силой, как в эту ночь... Но повернуть назад, находясь у цели, едва ли у кого хватит сил. У меня их нет».
Я позвонила. Подождала немного и позвонила еще раз, продолжительней и настойчивей. Меня сразу же охватила дрожь, легонькие туфельки на шпильках обжигали ноги льдом. Дверь отворила мать Алеши, в белой кофте, в белом платке, повязанном под шею, оживленная, по-праздничному веселая. Она, всплеснув руками, испуганно попятилась от меня.
– Батюшки, Женя! Да как же это ты... в такую поздноту, одна? Не случилось ли чего? Заходи скорее.
– Звонила, звонила,– сказала я, перешагивая порог.
– Неужто? А у нас и не слышно. Мужики расшумелись, музыка гремит...
– Озябла я. Ноги прямо закоченели...– Мне хотелось захныкать, как в детстве возле Нюши.
– Еще бы не озябнуть в такой-то обувке. И пальтишко легонькое.– Она раздела меня.– Пройдем на кухню, там жарко.– В кухне усадила на стул возле плиты,– Туфельки свои скинь, надень мои тапочки, они у меня на меху...– Быстро наклонилась, сняла с моих ног туфли.
– Ой, что вы! Я сама...
– Сиди, сиди, грейся.– Ноги как будто окунули в горячую воду – так стало тепло, я даже зажмурилась от удовольствия. Мать спросила: – Из гостей, что ли? Нарядная-то какая.
– Сбежала,– ответила я.
– Что так?
Я ощутила вдруг свою заброшенность: вместо громкого застолья, танцев под замирающие звуки музыки в полутемноте сижу вот в какой-то кухне, где остро пахнет жареными пирожками, луком, селедками. И все это по вине Алеши.
– Бросил меня, уехал – живи, как хочешь,– проговорила я сквозь слезы.– Ну и живу – ни девка, ни баба, не поймешь что. Лезут всякие с ухаживаниями, пристают с поцелуями... Вот и сбежала.
– Ах ты, господи! Что же мне с вами делать-то? Ума не приложу. И присоветовать не знаю чего... Что же ты плачешь-то?
– Обидно,– сказала я.– Думаете, легко жить одной-то? Ни поговорить не с кем, пожаловаться некому...– Мать глядела на меня и участливо качала головой. Я спросила: – Алеша письма не прислал?
– Прислал.
Мне стало еще обиднее, еще горше.
– Вот видите! А жене своей не прислал. Про меня не спрашивает?
– Нет, дочка.
Я встала.
– Я пойду. Обогрелась, спасибо.
Мать улыбнулась спокойно и понимающе.
– Никуда ты не пойдешь. Не пущу.
Из коридора донесся голос Семена:
– Мама, ты скоро там? – Он появился в кухне, слегка навеселе, в расстегнутой рубашке, галстук съехал набок.– Что ты тут возишься? – Увидел меня, остолбенел: – Женя? Вот кого тут прячешь, мать! С Новым годом, сестренка! – Приподнял меня со стула, поцеловал в обе щеки.– Это ты молодец, Женька! Вот удружила так удружила! Нечего тебе на кухне сидеть! Идем, покажись народу!
– Погоди,– сказала я.– Дай хоть туфли надеть.
– Ничего, и так сойдет, по-домашнему.– Он втолкнул меня в комнату.– Глядите, какая птичка залетела к нам на огонек! Принимай, отец, свою любимую сноху!
За столом находились почти все свои: старший брат Алеши, Иван, с женой Татьяной и дочкой Надей, которая, несмотря на поздний час, не спала; жена Семена Лиза и сосед по квартире, пожилой человек, со своей женой.
– Женечка,– сказал отец Алеши, вставая навстречу мне.– Спасибо, что вспомнила про нас, стариков. И в такой день. С праздником тебя! – Я поцеловала сперва отца, а потом всех остальных по очереди. Отец приободрился, подправил усы.– Пристраивайся вот тут, со мной. Алеши нет, так ты с нами. А я думал, вы врозь окончательно...
– Это он врозь,– сказала я тихо.
За меня тотчас заступилась мать:
– Не время сейчас об этом.
– Верно, не время,– согласился отец.– Выпьешь с нами, дочка?
– Выпью,– сказала я.
– Семен, наливай.
Семен немного растерянно взглянул на меня.
– Вина-то нет, Женя, вот беда. Не ждали тебя, все выдули. А купить? Все закрыто.
– Налей водки,– сказала я.
Семен обрадовался.
– Ты молодец, Женька! Без фокусов, без ломанья. Так и надо!
Я встала.
– С Новым годом вас! С новым счастьем! – Повернулась к матери.– Вас, мама...– Потом к отцу: хотела назвать его по имени-отчеству и вдруг назвала просто: – Вас, отец...– Мое обращение сильно растрогало старика, даже руки у него задрожали, а в глазах, окруженных мелкими морщинками, переливались слезы.
– Спасибо,– прошептал он и еще раз поцеловал меня в щеку.
Я опустилась на стул, обвела всех взглядом и улыбнулась: мне было хорошо и спокойно. В сущности, здесь была моя вторая семья, здесь все просто, все были приветливы и внимательны со мной, а особенно мать. Она считала Алешу «младшеньким», а по Алеше и я для нее была «младшенькой». Мать стояла позади меня, и я чувствовала прикосновение ее руки к моим волосам. Маленькая Надя, обойдя стол, как бы невзначай очутилась возле меня и, обняв одной рукой за шею, трогала мои серьги, браслет на руке...
Мы пели песни захмелевшими голосами, пели неслаженно, но никто не замечал этой неслаженности, и все продолжали петь, обрывали на полуслове одну и начинали другую. Потом мы – я и Семен,– поставив на проигрыватель пластинку, плясали, с криком, с топотом, с частушками. Все остальные хлопали в ладоши.
Вдруг Семен остановился.
– Женя, а ты видела нашу Женьку, маленькую?
– Нет. Где она?
– Идем покажу. Ведь ее назвали в твою честь по настоянию Алеши.– Семен толкнул дверь в соседнюю комнату.
Мать подергала его за рукав.
– Тише, ради бога! Разбудишь.
– Она спит что надо, как солдат. – Он зажег свет.– Проходите.
За мной и за Семеном, стараясь не шуметь, двинулись все остальные. Сгрудились у кроватки. Девочка спала, посапывая и изредка причмокивая, крохотная, точно куколка, ко лбу прилипла тугим завитком черная прядка волос. Сдерживая дыхание, мы смотрели на нее и шепотом высказывали свое восхищение. Семен нарушил тишину, выкрикнув:
– С Новым годом, дочка! Расти большая.
На него зашикали, замахали руками. А маленькая Женя, как бы отвечая на приветствие отца, сладко потянулась, чуть выгибая спинку, и пошевелила губами.
– Уходите,– сказала мать.– Надышали винищем!..
Я села на диван и почувствовала такую усталость, что не могла стронуться с места. Тут я и проспала до утра. И Алеша об этом даже не догадывался.
11
АЛЁША. Утром тяжелый изморозный туман оседал на снега, повисал колючими полотенцами на ветках, открывал вдали, за речкой, вливающейся в Ангару, крутое взгорье. Там, среди поредевшего леса, разрастался поселок индивидуальных домиков, выглядевших отсюда игрушечными. Они возникали, кажется, за одну ночь: еще вчера между двумя стволами вековых лиственниц было пусто, а нынче, смотришь, уже прилепилась избушка и над нею кудрявится голубой дымок. Прибавился еще один новосел, он уже кинул зов семье: прилетайте к новому месту жительства! И прилетят. Первое время сердце матери сожмется в горошину от отчаяния и изумления перед нависшей над ее головой тяжкой тучей тайги. Но постепенно она свыкнется и, придя в себя, собравшись с силами, станет обживать этот дикий берег, совьет гнездо, разведет очаг, и для народившегося здесь человека не будет роднее и краше места на земле, чем этот берег...
В самые отдаленные углы, непроходимые, глухие, пробивался наш человек – в пески, на неукрощенные реки, в тайгу, на пустоши, в вековечные льды, на края земли – и обживал их, обстраивал. И вооружение-то его состояло тогда, три десятка лет назад, из топора, да пилы, да лопаты; на ногах лапти, рубаха без пояса, лицо в бородище. Я видел кадры кинохроники тех лет и поражался: в глубоком котловане, точно в муравейнике, копошились люди, огромное число людей; по доскам, проложенным по склону котлована, везут, надрываясь, тачки, полные породы, а по другой дощатой трассе спускались порожняком; наверху тягловая сила – лошадка, запряженная в телегу, целые обозы лошадок и телег, и колеса тонут в грязных колеях по самые ступицы...
Нынешние строители, унаследовавшие кочевой, непоседливый дух отцов, также любят забраться подальше, в глухомань, в звериную дичь. Только вторгаются они теперь, вооруженные всевластной техникой. А она все прибывала сюда, эта техника. По бездорожью, прорубаясь сквозь чащобу сосен и лиственниц, продиралась, чтобы прочно встать тут на колеса, на гусеницы и начать дробить, крошить и черпать, черпать зубастыми ковшами породу... И едва привыкнешь к одному пейзажу, как назавтра он уже другой: на этом месте уже строительная площадка. Гул моторов все настойчивее овладевал пространством, расплескиваясь по тайге, по берегам реки.
Мою бригаду Петр перекинул на постройку дома, его нужно было срочно довести до конца и сдать.
В палатке у нас дежурный проспал, печка погасла, и к утру холод приморозил подушки к железным спинкам кроватей. Но как только подбросили дровишек и запалили их, печка сейчас же накалилась – в этом преимущество железных печек. Мы все встали, не давая себе времени на раздумья, на поблажки – сказывались армейские навыки,– и одевались с какой-то автоматической привычной покорностью, молча, без шуток, без перебранок.
Лежал лишь Леня Аксенов, все крепче цепенея во сне, по мере того как в палатке теплело.
– Илюха, буди Леньку,– попросил я.
Илья стащил с головы его одеяло. Парень, чуть всхрапывая, спал, подтянув острые колени к самому подбородку, и лицо его сковала какая-то страдальческая гримаса. Илья легонько толкнул его в плечо, сказал, усмехнувшись:
– Вставайте, сэр, кушать подано.
Такое неожиданное и несвойственно изысканное для Ильи обращение развеселило всех. Мы окружили Леню, тормошили, он как-то по-детски хныкал и не просыпался, у него не хватало сил разорвать оковы сна, выбросив руки, он отталкивал нас от себя... Очнувшись наконец, он вскинулся и сел на койке, невидящим, растерянным взглядом обвел палатку, как бы припоминая, где находится. Потом надавил кулаками на глаза, посидел так, чуть покачиваясь, губы его дрожали; надел валенки и вышел на улицу. Я прошел следом за ним.
Леня завернул за палатку, остановился, закрыл лицо ладонями и заплакал, трогательно, по-щенячьи скуля; в полумгле видно было, как вздрагивали его плечи. Мне самому хотелось заплакать от жалости к нему: молоденький, еще не оперившийся совсем, из-под отцовской кровли, из просторного дома, от стола с хрустящей от крахмала скатертью, от книг да в самое лихо, в медвежье логово, в стужу, к изнурительной работе, и спать хочется, и холодно, и тяжело, а надо...
– Что с тобой, Леня?
Он испуганно выпрямился, и голос его принял твердое звучание.
– Ничего, а что? – Присев, зачерпнул в горсть снега и бросил себе на лицо, будто умываясь.– Что-нибудь случилось непредвиденное, бригадир?
– Все в порядке, Леня.– Я отошел. Мне понравилось, что он не пожаловался, даже вида не подал.
В полдень на стройке дома появился незнакомый человек, высокий, плечистый, в парусиновой черной куртке на меху, в унтах, в шапке с опущенными наушниками; из-под низко надвинутой шапки, как синий просвет неба из-под тучи, светились голубые глаза. Был он молодой и, по всему видать, неунывающий, с задорной дерзостью, под стать нашим ребятам. Он взбежал по захламленной лестнице на второй этаж, взглянул наверх – мы устанавливали стропила.
– Кто у вас тут главный? – спросил он Трифона.– Ты небось?
– Ну, я,– ответил тот.– Как догадался?
– По важной осанке.– Пришедший ухмыльнулся.– Сразу видно, что начальник.
Трифон усмехнулся в ответ.
– А ты думал как! У начальника и вид должен быть соответствующий. Я бригадир. И вот он, Токарев, тоже бригадир. А еще у нас есть начальник берега Петр Гордиенко. Скоро появится, наверное.
Леня Аксенов придирчиво оглядел пришедшего.
– А вы случайно не из газеты?
– Как ты угадал?
– У меня глаз наметан на корреспондентов. Может быть, рассказать кое-что об успехах? Как раз для очерка о романтиках.
– Ну, расскажите, послушаю, – сказал незнакомец, подмигнув Лене.– Уж не ты ли метишь в герои очерка?
– Могу и я. Биография не запятнана, поведение и прилежание отличные. Бригадир может подтвердить.
– Подтверждаю,– отозвался я.– Можете ставить его в пример.
– Вы слышали? – сказал Леня.– Берите меня в герои, сэр, пока я не раздумал.
Незнакомец, рассмеявшись, нахлобучил шапку ему на глаза.
– Эх ты, романтик! А сам плачешь небось втихаря, жалеешь, что оторвался от папы с мамой,– угораздило же поехать в такую даль!
Леня как будто обиделся, вскинул подбородок.
– С такими предположениями, уважаемый, прошу обращаться по другому адресу.
– Ну, ну, не сердись,– сказал пришедший.– Я ведь пошутил. Когда думаете закончить дом, бригадир? – .спросил он Трифона.
– Когда будет готов – доложим.– Трифон был хмур и важен.
Я остановил его:
– Не так строго, Трифон. Думаем, что недели через две ,если не будет помех...
Серегу Климова осенила тревожная догадка, он воскликнул с подозрением!
– Почему вы так интересуетесь этим домом? Уж не метите ли урвать здесь жилплощадь?
– Мечу, ребята,– сознался незнакомец,
Серега, все более возбуждаясь, крикнул:
– Нет, товарищ дорогой, не отломится тебе жилплощади! Походи сюда, померзни вместе с нами, тогда мы еще поглядим. А на готовенькое все рады!.. Видишь те палатки? – Он указал на наш городок, расположенный в низинке, неподалеку от реки; дымы, вырываясь из труб, сливались воедино и сизым облаком висели над палатками.– Ты жил когда-нибудь в палатке? Вот поживешь – узнаешь. Мы узнали всю прелесть такой жизни. Поэтому и стараемся скорее закончить дом. На новоселье' гостем можешь прийти. Можешь написать в свою газету, если ты и вправду газетчик, о нашем новоселье...– Серега резко отвернулся, взобрался наверх, стал укреплять стропила.
Незнакомец кивнул вслед ему:
– Злой?
– Черт, а не человек,– сказал «судья» Вася.
– Станешь чертом,– проворчал Трифон.– В Москве обещали комнату – уехал сюда, здесь – палатка, а в палатке то жар, то холодище. Обозлишься при такой жизни.
– Это что же, Трифон,– Трифоном, кажется, зовут? – жалоба? – спросил незнакомец с удивлением.
Пока Трифон придумывал, как ответить похлестче, Леня поспешно сказал:
– Нет, извините, претензии. Можете удовлетворить их?
– Нет, не могу.
Леня оглядел нас, как бы спрашивая разрешения на ответ.
– Тогда интерес, первоначально вызванный вашим появлением, угас в наших сердцах. Мы вас больше не задерживаем.
Незнакомец помахал на прощание перчаткой, подмигнул Лене Аксенову и сбежал по лестнице вниз.
Мы постояли немного, гадая, кто это мог быть. Леня настаивал на том, что это газетчик: пришел, примерился, надо ли о нас писать, и убежал обдумывать; и если решит, что мы те самые, кто ему нужен, то появится снова. Трифон, возражая Лене, сказал, что это партийный работник из Браславска, что только партийные работники бывают так просты в обращении.
А Серега Климов крикнул сверху:
– Ни черта вы не разбираетесь в людях! Это контролер из бухгалтерии. Прибыл пронюхать, что мы тут творим и следует ли нам платить денежки, а если платить, то по какой шкале. Я таких людей вижу насквозь. У него на лице все написано. Выдадут нам в получку шиш за то, что танцуем на морозе, помяните мое слово! Я тогда и часу не останусь здесь.
Трифон, откинув голову, покосился на Серегу.
– Не стращай. Только и думаешь о деньгах, как бы побольше хапнуть!..
– Не хапнуть, а заработать, балда! – крикнул Серега.– А о чем же мне думать – о твоих прекрасных кошачьих глазах?
Трифон, рассвирепев, схватил валявшийся у ног обрезок бруска и, замахнувшись, пошел на Серегу. Тот в одну секунду, с проворством кошки взлетел по обрешеченным стропилам на самый конек.
– Вот окрысился, сатана! – крикнул Серега, свесив голову.– Разбойник! Тюрьму построим – ты первый будешь в ней сидеть, зверь! Алешка, отбери у него брусок...
Трифон кивнул ему:
– Я тебе покажу– зверь! Сиди там, пока в сосульку не превратишься. Амнистии тебе не будет...– Подумал немного, усмехнулся: – Ладно, слезай. А то и в самом деле застынешь, крови-то в тебе один стакан наберется, не больше. Слезай.
– А драться не будешь? – спросил Серега с недоверием.– Брось брусок!..
Трифон швырнул брусок в угол.
– Прыгай сюда – поймаем.
Серега спустился со стены, уже смело подскочил к Трифону, знал: после вспышки гнева с ним можно делать все, что угодно.
– Эка накинулся, лось! Вон куда загнал! Хорошо, что ветра нет, а то бы сдуло, унесло. Вот дать тебе по шее! —
Серега раза три ударил Трифона по лопаткам. Тот даже не покачнулся.
Вечером в нашу палатку заглянул давешний человек с голубыми глазами и попросил пристанища.
– Говорят, у вас свободная койка в наличии. Можно ли ее захватить, пока кто-нибудь другой не захватил? Не прогоните?
– Как будете себя вести,– отозвался Леня.
– Тише воды, ниже травы.
Серега разрешил великодушно:
– Располагайся. Имей в виду, будешь нести обязанности, как все: придется подежурить ночью у печки.
– Что за вопрос! Согласен.
– Как зовут-то хоть?
– Иваном Ручьевым.
«Судья» Вася подсел к нему на койку.
– После твоего ухода мы судили-рядили, пытаясь отгадать, кто ты будешь по должности-профессии. По-всякому кидали: один сказал, что ты мастер, второй – журналист, а Серега – ревизор, глаза, говорит, хитрость затаили – жди подвоха.
– А что сказал бригадир? – спросил меня Иван Ручьев.
Я уклончиво пожал плечами.
– Для меня важнее сам человек, нежели его профессия.
– Это, пожалуй, верней всего,– согласился Ручьев.– Это безошибочно... Я, друзья, начальник данного строительства.
– Всего, всего? – вырвалось у Лени.
– Да, всего.
– Врет, наверно,– сказал Серёга с явным раздражением.– Врешь ведь, цену себе набиваешь?
– Не вру, ребята, честное слово,– простодушно сказал Ручьев, точно оправдывался перед нами.
Я пристально вглядывался в Ручьева: сквозь белокурые волосы на висках у него, едва приметная, пробивалась седина, в глазах скопился ум, отяжелил и озаботил взгляд – он был усталым и обеспокоенным.
Ручьев лишь поддерживал шутливый разговор с нами, а сам в мыслях своих находился далеко, решал какие-то иные, сложные задачи.
Я шепнул Лене, чтобы он сбегал за Петром, и Леня, поняв, незаметно выскользнул из палатки. Серега Климов вдруг ощутил свою неловкость, пересаживался с койки на койку, ища себе места, наконец дерзко крикнул, подавляя в себе эту неловкость:
– Что же ты сразу-то не сказал, кто ты такой? А то вот как теперь вести себя с тобой?
– Как вел, так и веди,– сказал Ручьев.
Серега мотал головой.
– Вот задал задачу!..
Вскоре в палатку, пригнувшись, вошел Петр Гордиенко. Вглядываясь в полумглу, он увидел сидящего на койке Ручьева.
– О, Иван, так это ты? – сказал Петр, обрадованный неожиданной встречей.– Здравствуй! Прибыл вершить делами?
– Выходит, так,– ответил Ручьев, вставая.– Здравствуй, Петр! Рад тебя видеть...
Они познакомились еще там, в Браславске, и, видимо, понравились друг другу, оба молодые, с запалом, с беспокойством.
– Вот местечко выбрали для тебя,– заговорил Петр,– приткнуться негде, ничего, кроме палатки.
– А для тебя, может быть, другое нашли?
– Ну, у меня дом! Перебирайся ко мне пока, все-таки удобней...
– Сойдет и палатка, нам не привыкать. – Ручьев, помолчав, обвел нас всех взглядом.– Придется пожить в палатках, ребята. На дом тот не рассчитывайте: в нем разместится управление строительством.
– С новосельем вас, милостивые государи! – произнес Леня Аксенов и церемонно поклонился, касаясь рукой пола.– Обожаю в сюжетах неожиданные концы.
Серега Климов, точно ожидал такого поворота дела, рванулся из своего угла к Ручьеву и Петру, пролетая мимо печки, нечаянно притронулся к ее крышке, обжегся и, отчаянно взвизгнув, затряс рукой в воздухе.
– А что я говорил! – крикнул он.– Я сразу догадался, что за птица прилетела к нам! Разве позволят людям пожить в приличных условиях, в тепле, в светле? Держи карман! Ты строитель – значит, строй для других, сам подождешь: сапожник без сапог! Я категорически не согласен! Я возражаю! Если отберешь дом, то мы свернем свои манатки – и поминай как звали! Я, например, не останусь ни на один день. Хватит!.. Найдем места, где рабочего человека ценят, как и положено.
Я подергал его за пиджак.
– Остановись,– шепнул я.– Сядь,
– Отстань! – огрызнулся он, махнув на меня обожженной рукой.– Вам бы только перед начальством хвостиком повертеть! А я не желаю.






