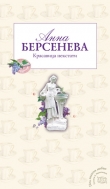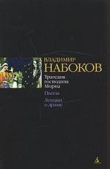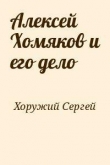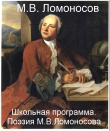Текст книги "Ломоносов"
Автор книги: Александр Морозов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 38 страниц)
Ломоносов исходил из мысли, что в государственной практике нужно считаться с национальными и историческими традициями народа, и потому связывал статистико-экономическое изучение страны с историческим и археологическим. Он заботится об учете и сохранении памятников старинной архитектуры и письменности. В его замыслы входило снаряжение в старинные русские города особого живописца, с тем чтобы снять копии о хранящихся по церквам и монастырям исторических изображений «иконописной или фресковой работой» на стенах и гробницах. Художник, отправляющийся с этим заданием, должен был посетить Псков, Новгород, Тверь, Переяславль-Залесский, Муром, Суздаль, Владимир, Чернигов, Киев и другие очаги древней русской культуры. Ломоносов даже подыскал надежного человека – Андрея Грекова – и добился от синода указа о допущении его к работе в церквах. Но едва Ломоносову удалось уломать синод, как Греков был отозван в учителя рисования к наследнику Павлу Петровичу. Ломоносов видел в этом очередной подкоп Тауберта, который, зная о его хлопотах, указал на Грекова. Так погиб еще один замысел Ломоносова.
Что же касается самой анкеты, то она была отпечатана и разослана по всем воеводским канцеляриям только в январе 1761 года. Медленно и с большими проволочками стали поступать ответы.
Правительственные учреждения не только не шли серьезно навстречу Ломоносову, которому приходилось всего добиваться ценою огромных усилий, – они не были способны понять самого характера работы Географического департамента, необходимости кропотливой предварительной черновой работы и накопления огромного материала.
Работа Ломоносова в Географическом департаменте сталкивала его со множеством вопросов, которые издавна привлекали к себе его внимание. В особенности было близко ему все, что так или иначе соприкасалось с морским делом. Изучение морей, окружающих Россию, было для него, пожалуй, еще более неотложным делом, чем изучение бескрайных просторов ее суши.
Он видел одну из причин исторической отсталости России в недостаточном развитии мореплавания, в том, что наша страна была отрезана от удобных морских портов, в то время как «малые владетельства, которых с Российским могуществом и внутренними достатками в сравнение положить невозможно, распростерли свои силы от берегов Европейских и оными окружили все протчие части света». «Западные европейские державы, – писал Ломоносов, – по положению своих пределов везде имеют открытый путь по морям великим, и для того издревле мореплаванию навыкли и строению судов, к дальнему морскому пути удобных, долговременным искусством научились; Россия, простираясь по великой обширности матерой земли, и только почти одну пристань у города Архангельского, и ту из недавних времен имея, больше внутренним плаванием по великим рекам домашние свои достатки обращала, между собственными своими членами». И хотя русское мореплавание достигло за короткий срок значительных успехов, но по сравнению с гигантскими масштабами России оно все еще не столь значительно, и это является серьезным препятствием для развития страны. Этому должен быть положен конец, и Ломоносов настойчиво ратует за всемерное развитие морского дела. Он представляет себе будущее России только как великой морской державы: «Пространная Российская Держава, – говорит он в «Похвальном слове Петру Великому», – наподобие целого света едва не отовсюду великими морями окружается, и оные себе в пределы поставляет. На всех видим распущенные Российские флаги. Там великих рек устья и новые пристани едва вмещают судов множество; инде стонут волны под тягостью Российского флота, и в глубокой пучине огнедышущие звуки раздаются. Там позлащенные и на подобие весны процветающие корабли в тихой поверхности вод изображаясь, красоту свою усугубляют; инде достигнув спокойного пристанища плаватёль, удаленных стран избытки выгружает, к удовольствию нашему. Там новые Колумбы к неведомым берегам поспешают, для приращения могущества и славы Российской… со снегом, со мраком, с вечными льдами борется, и хочет соединить восток с западом».
Это морское величие России заложено Петром. Ломоносов постоянно напоминает о заслугах Петра по созданию русского военного и торгового морского флота. В стихотворной надписи на спуск корабля «Александр Невский» (в 1749 году) он говорил:
Гора, что Горизонт на суше закрывала,
Внезапно с берега на быстрину сбежала,
Между палат стоит, где был недавно лес:
Мы веселимся здесь в средине тех чудес.
Но мы бы в лодочке на луже чуть сидели,
Когда б Великого Петра мы не имели.
К концу царствования Петра созданный им морской военный флот был одним из самых могущественных в мире.
В его составе числилось 34 линейных корабля, 9 фрегатов, 77 галер и 26 различных других кораблей. Личный состав флота достигал 27 тысяч человек.
Однако вскоре же после смерти Петра русский флот, созданный ценой больших национальных усилий, стал приходить в упадок. С каждым годом флоту все меньше и меньше уделялось средств и внимания. Начатые Петром огромные работы по устройству каналов, доков и гаваней были приостановлены. Судостроение на Дону прекратилось. Каспийский флот был запущен.
Гавани в Кронштадте были заполнены корабельными днищами, мачтовый лес гнил, суда стояли без должного присмотра. Архангельские верфи, правда, спускали на воду довольно большое число кораблей и фрегатов, но эти новые суда строились из рук вон плохо.
Заправлявшие судостроением на севере англичане Джемс и Сутерланд заботились о своих прибылях и вовсе не стремились создавать суда, способные затмить флот «морских держав».
В результате в 1746 году, в июле, французский поверенный в делах д'Аллион писал в Версаль: «Флот, вооруженный в Ревеле, состоит из девятнадцати линейных кораблей, имеющих от шестидесяти до ста пушек, шести фрегатов и одного госпитального судна. Кроме того, в Ревеле стоят, как говорят, еще четыре военных корабля, три фрегата и пятнадцать галер; но следует добавить, что половина этих кораблей не выдержала бы серьезного плавания или сражения».
Но иностранные дипломаты преувеличивали слабость русского флота, который еще в 1743 году одержал блестящую победу над шведами. В России никогда не переводились люди, понимавшие значение флота. К числу их принадлежал и Ломоносов, призывавший Елизавету следовать по пути Петра, укреплять и развивать морскую мощь России:
С способными ветрами споря,
Терзать да не дерзнет Борей,
Покрытого судами моря
Пловущими к земли твоей…
(Ода 1748 года)
С воцарением Елизаветы началось возрождение русского флота. Закладывались и строились новые суда. Возобновились учебные плавания. В 1752 году был основан морской кадетский корпус, во главе которого стал талантливый моряк-гидрограф А. И. Нагаев (1704–1780). Преподавателями были лучшие офицеры флота Г. Спиридонов, Харитон Лаптев и др. К началу Семилетней войны Россия располагала крупными морскими силами, прочно захватившими Зунд, обеспечившими блокаду прусских берегов и полное господство России на Балтике. За время Семилетней войны русский флот непрерывно улучшался и совершенствовался. Со стапелей сходили новые многопушечные корабли и легкие галеры, удобные для плавания у берегов Пруссии. Всего за время царствования Елизаветы, главным образом в течение Семилетней войны, было построено 32 линейных корабля, 8 фрегатов, 20 пинков и гукоров и десятки малых судов.
Ломоносов не только поддерживал и одобрял русских моряков своим поэтическим словом и ученым авторитетом – он стремился помочь им практически двинуть вперед русскую морскую науку, на которую могло бы опираться искусство мореплавателя. Наука кораблевождения в XVIII веке только еще зарождалась. Множество вещей, без которых не мог бы обойтись современный мореплаватель, тогда еще не существовало в помине: не было ни точных карт, ни надежных компасов, ни измерителей времени, ни хороших навигационных приборов. Секстант и хронометр только что появились и были весьма далеки от совершенства. Особенно остро стоял вопрос с определением долготы, без чего было невозможно установить местонахождение корабля на море. В 1714 году английский парламент назначил премию в двадцать тысяч фунтов стерлингов за лучшее практическое решение этого вопроса. Но премия оставалась неприсужденной, так как удовлетворительное решение было найти в то время очень трудно.
В 1759 году Ломоносов составляет «Рассуждение о бóльшей точности морского пути», в котором разрабатывает труднейшие проблемы морского кораблевождения и выступает как крупнейший знаток морского дела, вопросов навигации, морской астрономии и приборостроения. Его не останавливает ни малая изученность этих вопросов, ни возможность ошибок, разочарований, бесплодных попыток. «Делом сим, – говорит Ломоносов во вступлении к этой работе, – последовал я рудоискателям, которые иногда безо всякой вероятности сладкою надеждою питаются; и не всегда же тщетною. Таким образом, отложив всякое сомнительство, все, что для сей материи размышлял, изобрел, произвел, предлагаю».
Ломоносов иногда ставил задачи, разрешить которые нельзя было при тогдашнем состоянии науки. Но эти задачи выдвигала сама жизнь. И Ломоносов считал своим долгом хотя бы в чем-либо приблизиться к нужному решению и подготовить его возможность в будущем. Так, в 1759 году он разработал оригинальный оптический прибор, с помощью которого, по выражению Ломоносова, «много глубже видеть можно, нежели видим просто». Свой прибор Ломоносов назвал «батоскопом». Это была первая в истории оптики попытка создать инструмент для подводного наблюдения.
Чертежи или достоверные описания батоскопа Ломоносова до нас не дошли. Академик С. И. Вавилов высказал предположение, что этот «инструмент состоял из обычной зрительной трубы с плоским защитным стеклом, находящимся на значительном расстоянии перед объективом», что весьма улучшало видимость, так как между объективом и плоским стеклом оставался столб воздуха и, кроме того, устранялось влияние волнения и зыби на поверхности воды [101]101
Б. H. Meншуткин, Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова. Третье издание. М.—Л., 1947, стр. 156 (глава VI, посвященная оптическим работам М. В Ломоносова, написана С. И. Вавиловым).
[Закрыть]. По-видимому, создавая этот прибор, Ломоносов опирался на народный опыт. В Поморье издавна употреблялся при ловле жемчуга особый «водогляд», или «водоглаз», состоявший из двух берестяных трубок с широким раструбом на конце, закрытым куском прозрачной слюды. В длину такой «водогляд» достигал одного аршина. Пользование «водоглядом» облегчало поиски жемчужных раковин в светлых и неглубоких речках по Летнему берегу Белого моря.
В «Рассуждении о большей точности морского пути» Ломоносов ставил перед собой две практические цели: разработать наиболее надежные способы определения местонахождения судна в различных условиях и обеспечения моряков приборами, которые могли бы облегчить и усовершенствовать искусство кораблевождения. Он выдвигает целый комплекс новых идей, задач и вопросов, всесторонне охватывающих морское дело, вплоть до мельчайших деталей навигации. В особенности тревожили его трудности северного мореплавания. Ломоносов с юных лет знал, как нелегко моряку вести корабль на север, когда немногие светлые часы проходят в сумеречной мгле, не говоря уже о настоящей полярной ночи. Когда «мрачная наступает погода», тогда бесполезны астрономические приборы и самые точные часы «никуда не годны». Между тем «буря стремительно корабль гонит», волны отклоняют его от намеченного пути, морские течения ускоряют или замедляют его путь. «Несколько иногда недель в таком ношении обращаясь, почему знать может мореплаватель, где искать пристанища, куда уклониться от мелей, от камней и от берегов для крутизны неприступных? По сему иных искать должно и к отвращению сих трудностей плавателю способов, которых (сожалительно) мало приличных изобретено, меньше в употребление принято, хотя, кажется, они нужнее первых, за тем, что в мрачную погоду суровее неистовствует буря, ближе настоят напасти». Ломоносов говорит, что он старался «выдумать новые дороги», найти новые возможности, устранить эти пагубные и опасные для мореходов «неудобства».
Ломоносов замышляет написать исследование об определении долготы, которое могло бы стать надежным руководством для моряков всего мира. Он хотел назвать свою книгу «Жезл морской» и издать на нескольких иностранных языках. Прежде всего Ломоносов пытается преодолеть трудности определения местонахождения корабля при помощи астрономических способов. «Неудобности» широко известного в его время «квадранта Гадлея» Ломоносов усматривал в том, что им трудно определить высоту места вследствие качки корабля, «разного преломления лучей» (рефракции) и невозможности пользоваться им при плохой видимости горизонта. Ломоносов предлагает «ненадежный и неявственный горизонт оставить» и пытается сконструировать секстант с искусственным горизонтом. А для того чтобы наблюдатель не допускал погрешностей вследствие качки корабля, Ломоносов конструирует подвесную люльку, которая позволяет сохранять постоянное положение при наблюдениях. Для измерения времени на начальном меридиане Ломоносов предлагает «морские часы» – особого вида пружинный хронометр, который сконструирован им независимо от английских изобретателей.
Особенное внимание Ломоносов уделяет конструкции компасов – этого основного прибора на корабле. Он отмечает, что современные ему компасы настолько несовершенны, что «не токмо на море, но и на сухом пути исправных наблюдений в переменах чинить нельзя». Он предлагает делать компасы больше, чтобы деления на них были отчетливее и позволяли отсчитывать с точностью до одного градуса. Компас должен быть установлен так, чтобы курсовая черта была параллельна диаметральной плоскости корабля. Сила магнита катушки должна преодолевать силы трения, а «чтобы все погрешности, которые от оплошности правящего бывают, знать корабельщику, должен он иметь компас самопишущий». Предложенная Ломоносовым конструкция самопишущего компаса в основных чертах ничем не отличается от современного курсографа. Одновременно Ломоносов предлагает целый ряд других самопишущих морских приборов: дромлометр (донный механический лаг), клизеометр – для определения сноса корабля под влиянием дрейфа, циматометр – для учета движения корабля под влиянием килевой качки, особый прибор для определения направления и скорости морского течения, салометр – прибор для измерения плотности «сала» – и др. Эти навигационные приборы, сконструированные Ломоносовым, по заложенным в них плодотворным идеям значительно опережали свое время.
Великая ломоносовская идея оснащения корабля разнообразными приборами, автоматически регистрирующими и учитывающими его движения и условия плавания, позволяющими вести корабль при любой видимости в приполярных водах, нашла свое осуществление только в наше время.
Конструируя новые приборы для облегчения морского кораблевождения, Ломоносов указывает на необходимость разработки теоретических вопросов морского дела. Главнейшей задачей является создание «истинной теории течения моря» и изучения явлений земного магнетизма. Ломоносов полагает, что если бы мореплаватели часто и точно определяли величины отклонения и наклонения магнитной стрелки, то физики сумели бы вывести соответствующие законы. Однако «бесчисленное множество по всем открытым морям и к страннолюбивым берегам плавает, но только ради прибытков, не ради науки». Ломоносов впервые с большой проницательностью и убежденностью поставил вопрос о необходимости специального научного изучения морей и океанов. Он говорит о создании русской мореплавательской Академии – научно-исследовательского учреждения, где на глубокой физико-математической основе изучались бы вопросы, связанные с морем и кораблевождением.
«Мореплавательное дело, толь важное до сего времени, почти одною практикою производится, – пишет он, – ибо хотя академии и училища к обучению морского дела учреждены с пользою, однако в них тому только обучают, что уже известно для того, чтобы молодые люди в сем знании, получив надлежащее искусство, заменяли престарелых, на их места вступая. А о таковых учреждениях, кои бы из людей состояли, в математике, а особливо в астрономии, гидрографии и механике искусных, и о том единственно старались, чтобы новыми полезными изобретениями безопасность мореплавания умножить, никто, сколько мне известно, постоянного не предпринимал попечения».
Великий гуманист, помышляющий прежде всего о мире, а не о войне, он с сожалением говорит: «О есть ли бы оные труды, попечения, иждивения и неисчетное многолюдство, которые война похищает и истребляет, в пользу мирного и ученого мореплавания употреблены были; то бы не токмо неизвестные еще в обитаемом свете земли, не токмо под неприступными полюсами со льдами соединенные береги, открыты; но и дна бы морского тайны, рачительным человеческим снисканием, кажется исследованы бы были!.. и день бы учений колико яснее воссиял бы откровением новых естественных таинств».
Пафос научного исследования, радость познания и творческого преобразования мира в одинаковой степени пронизывают теоретические и практические работы Ломоносова. «Мужеству и бодрости человеческого духа и проницательству смысла последний предел еще не поставлен», – пишет он в составленной им инструкции морским офицерам, отправляющимся на поиски Северо-Восточного морского пути, предпринимаемые по его захмыслу. Ломоносов с уверенностью говорит русским мореплавателям, что «много может еще преодолеть и открыть осторожная их смелость и благородная непоколебимость сердца».
***
В сентябре 1763 года, с целью побудить правительство к организации большой полярной экспедиции, Ломоносов представил в Морскую российских флотов комиссию «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океанам в Восточную Индию». Мысль эта давно занимала Ломоносова. «Северный океан, – писал он, – есть пространное поле, где усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерною пользою». Россия, имея в своем распоряжении океан, «лежащий при берегах себе подданных», достигнув по нему восточных своих берегов, будет «не токмо от неприятелей безопасна, но и свои поселения, и свой флот найдет».
Едва в 1742 году прибыло первое известие о достижении нашими моряками берегов Америки, как Ломоносов, обращаясь в оде к Елизавете, говорит:
К тебе от всточных стран спешат
Уже Американски волны,
В Камчатской порт веселья полны.
Ломоносов считал, что установление Северо-Восточного морского пути является исторической задачей России.
Какая похвала Российскому народу
Судьбой дана, пройти покрыту льдами воду… —
восклицал он в поэме «Петр Великий». Ломоносов уверенно смотрит в будущее, и перед его умственным взором («умными очами») проходят караваны русских судов. В оде 1752 года он говорит:
Напрасно строгая природа
От нас скрывает место входа
С брегов вечерних на восток.
Я вижу умными очами:
Колумб Российский между льдами
Спешит и презирает рок.
Ломоносов настойчиво повторяет призыв к русским мореплавателям: спешить на Восток!Этого требуют насущные нужды государства. Ломоносов указывает на отчаянные усилия Англии проникнуть на Восток северным путем и говорит, что русскому народу, ввиду этих стремлений «Британии, которая главное свое внимание простирает к Западно-северному ходу Гудзоновским проливом, не можно, кажется, не иметь благородного и похвального ревнования в том, чтобы не дать предупредить себя от других успехами толь великого и преславного дела». С открытием Великого Северо-Восточного пути вдоль берегов Сибири «Путь и надежда чужим пресечется», укрепится морское могущество и независимость России, откроются новые возможности для развития торгового мореплавания.
Ломоносов обращает особенное внимание на экономическое значение Северного морского пути. Все трудности «купеческого сообщения с восточными народами», вызванные «безмерной дальностью» долговременных путей через Сибирь, «прекращены быть могут морским северным ходом». Установление постоянного торгового пути из Архангельска к берегам Тихого океана вызвало бы и оживление беломорской морской жизни, замершей после учреждения петербургского порта.
Ломоносов полагал, что открытие Северо-Восточного морского пути облегчит «сообщение с Ориентом» – торговые и культурные связи с народами Дальнего Востока. Ломоносов считал, что Россия должна хорошо знать своих ближайших восточных соседей, и составил особую докладную записку о необходимости учредить «Ориентальную Академию» для изучения восточных языков и культур.
Мысль об открытии Северного морского пути давно занимала русских людей. Еще в 1713 году Федор Салтыков подал Петру I «пропозицию», в которой предлагал устроить в устье Енисея корабли «и теми кораблями, где возможно, кругом Сибирского берега проведать, не возможно ли найти каких островов», а кроме того, «купечествовать» с Китаем и продавать сибирский лес, смолу и деготь Европе. Через год Салтыков даже разработал небольшую инструкцию мореплавателям, в которой наказывал, когда они пойдут вдоль берегов Сибири, описывать устья рек, какова в них глубина и течение воды, «какого образа земля на дне», какие около тех мест леса, «какая там Клима» и т. д. Петр живо заинтересовался этим вопросом и не упускал его из виду до конца жизни. За пять недель до смерти он толковал с генерал-адмиралом Апраксиным «о дороге через Ледовитое море в Китай и Индию».
Организованная по замыслу Петра Великого Первая Камчатская экспедиция Беринга вышла из Петербурга 5 февраля 1725 года и возвратилась 1 марта 1730 года. Ею была составлена карта восточного побережья пролива, получившего впоследствии имя Беринга, составлено прекрасное описание Чукотского носа. Но существование пролива между Азией и Америкой не было доказано экспедицией, хотя на самом деле она этот пролив прошла. «Жаль, – писал Ломоносов о Беринге, – что идучи обратно следовал тою же дорогою и не отошел к востоку, которым ходом, конечно бы мог приметить берега северо-западной Америки».
Вскоре была организована новая экспедиция – вернее, несколько самостоятельных экспедиций, служивших единой цели изучения и освоения северных берегов России. Вторая Камчатская экспедиция на двух судах под командой Беринга и Чирикова обследовала северную часть Тихого океана и открыла путь к Северной Америке. Одновременно другая часть экспедиции на трех судах посетила район Курильских островов. В то же самое время пять отрядов Великой Северной экспедиции изучали и картографировали почти все побережье от горла Белого моря до устья Колымы.
В отрядах были геодезисты, картографы, «рудознатцы». Всего участвовало в Великой Северной экспедиции 580 человек. Несколько десятков из них погибло в условиях суровых зимовок, в том числе Василий Прончищев с женой Марией Прончищевой – первой женщиной участницей полярных экспедиций, Петр Ласиниус и др.
Работа экспедиции охватила огромную территорию и продолжалась в общей сложности более десяти лет (1733–1743). По грандиозному размаху, числу участников, обилию и ценности собранных материалов это была одна из самых замечательных экспедиций всех времен. Одновременно в глубине Сибири и на ее северных окраинах работали сухопутные отряды экспедиции, изучавшие местную природу, животный и растительный мир, разведывавшие полезные ископаемые, собиравшие исторические и этнографические материалы.
Материалы, собранные Великой Северной экспедицией, в значительной части (копии с судовых журналов и карт) поступали в Географический департамент Академии наук. И Ломоносов их тщательно изучал. Он гордился славными делами русского народа, открывшего и обследовавшего неизведанные берега Ледовитого океана, что по своему значению равнялось открытию целого континента.
Честь и достоинство русского народа требуют, чтобы его заслуги и приоритет в отношении важнейших географических открытий были торжественно признаны перед всем светом.
Замечательно, что Ломоносов, который основательно изучил материалы Великой Северной экспедиции и лично знал многих ее участников, подчеркивает роль и значение великого русского мореплавателя Алексея Ильича Чирикова (1703–1748), который не только на сутки раньше Беринга достиг берегов Северной Америки, но обеспечил успех всей экспедиции [102]102
Чириков на корабле «Св. Павел» достиг берегов Северной Америки в ночь с 14 на 15 июля 1741 года, а Беринг на корабле «Св. Петр» – 16 июля. Это достижение русских мореплавателей было отмечено в оде Ломоносова 1742 года.
[Закрыть]. Прочитав в 1758 году первый вариант «Истории Петра Великого», составленный Вольтером, Ломоносов в числе своих замечаний, которые он считал очень существенными, написал: «12. В американской экспедиции (то есть направленной к берегам Америки. – А. М.) не упоминается Чириков, который был главным и прошел далее, что надобно для чести нашей. И для того послать к сочинителю карты оных мореплавании».
Ломоносов помнил и о подвигах старинных русских мореплавателей и, как никто в его время, мог оценить их значение. Ему были хорошо известны найденные в 1736 году в Якутском архиве Г. Миллером «скаски» о плавании холмогорца Федота Алексеева, который вместе с казаком Семеном Дежневым проплыл в 1648 году из устья Колымы в Анадырский залив. «Сей поездкой, – писал Ломоносов, – несомненно доказан проход морской из Ледовитого океана в Тихой».
Ломоносов отмечает заслуги простых промышленных людей, которые своими плаваниями подготовили почву для научных исследований. «Из неутомимых трудов нашего народа» Ломоносов заключил, что установление Северо-Восточного морского пути вполне возможно. «Россияне далече в оной край на промыслы ходили уже действительно близ 200 лет», – писал Ломоносов.
Прежде чем выступить со своим предложением об организации экспедиции, Ломоносов в течение многих лет подбирает исторические и современные ему свидетельства о плавании в полярных водах русских и иностранных мореходов. Отмечая неудачи англичан и голландцев, искавших Северный морской путь, Ломоносов говорит, что эти попытки совершались без «ясного понятия предприемлемого дела», и без «довольного знания натуры», и без «ясного воображения предлежащей дороги». Иностранцы, в особенности англичане, двигались вдоль северных берегов, охваченные жаждой наживы, а не для изучения неведомых земель. Личной корысти европейских торгашей Ломоносов противопоставляет патриотический долг и любовь к науке. Он рассматривает вопрос о Северном морском пути прежде всего как широкую научную проблему, настаивает на систематическом изучении северного побережья, что только и может обеспечить надежное освоение «хода» Ледовитым океаном.
В «Кратком описании разных путешествий по северным морям» Ломоносов подчеркивает научные заслуги русских морских офицеров, посланных «для описания северных берегов сибирских». Он отмечает исследования Малыгина, Скуратова, Минина, Прончищева, Харитона и Дмитрия Лаптевых, Челюскина и указывает, что после их трудов «сомнения о море всю Сибирь окружающем не остается». Ломоносов – не преминул подчеркнуть, что новым данным, добытым русскими мореплавателями, «известие о морском пути Федота Алексеева с товарищами весьма соответствует».
Ломоносов широко пользуется свидетельствами, полученными от простых казаков и промышленных людей, хотя их показания нередко сбивчивы и противоречивы. Он постоянно сличал и сопоставлял эти, как он называл их, «прекословные» сведения, пытаясь добраться до истины.
Изучение материалов, собранных в Академии наук, интерес и внимание к народному опыту, собственное непосредственное знакомство с морями русского севера, приобретенное в годы юности, огромный кругозор ученого-естествоиспытателя, ясное сознание хозяйственного и политического значения Северного морского пути позволили Ломоносову впервые научно разработать и поставить во всей широте эту величественную проблему.
Ломоносов проявляет большую проницательность, указывая, что «главным препятствием» для достижения намеченной цели надо считать не «стужу», а «лед от ней происходящий».
Ломоносов первый предложил научную классификацию полярных льдов. Им установлено принятое в настоящее время в науке разделение льдов на «сало», ледяные поля («стамухи») и ледяные горы («падуны»). «Мелкое сало, – указывает Ломоносов, – подобно как снег плавает в воде». Этот вид плавучего льда «иногда игловат, или хотя и связь имеет, однако гибок и судам невредим». «Стамухи или ледяные поля кои нередко на несколько верст простираются, смешанные с мелким льдом. Таковые льды плавают в большом количестве и суда удобно затирают». «Горы нерегулярной фигуры, – по описанию Ломоносова, – в воде ходят от 35 до 50 сажен, выше воды стоят на десять и больше, беспрестанно трещат, как еловые дрова в печи; по чему узнать можно таких плавающих гор приближение в тумане и ночью и взять предосторожность».
Ломоносов также правильно объясняет различия в движении льдов по океану, указывая на роль ветра для движения ледяных полей и мелкого льда и морских течений для ледяных гор. «Ветрам мелкие и только тонкие удобно повинуются, – писал Ломоносов, – а падуны и стамухи больше нижняя часть воды движет, так что нередко противные движения мелкого и крупного льда примечаются». «Того ради неотменно должно по возможности вникнуть в изыскание оных Ледовитого океана движений». Ломоносов с поразительной чуткостью предугадывает, что в открытой части океана дрейф льдов должен проходить с востока на запад. Только знаменитый дрейф Нансена на корабле «Фрам» в 1893–1896 годах впервые доказал справедливость этого гениального указания русского ученого.
Точно так же, рассматривая вопрос о возможности северо-западного прохода, Ломоносов проницательно замечает: «хотя он и есть, да тесен, труден, бесполезен и всегда опасен». Жизнь подтвердила мнение Ломоносова. Северо-западный морской проход вдоль берегов американского материка не имеет практического значения. Впервые его удалось пройти лишь в 1903–1906 годах Р. Амундсену на небольшом судне «Иоа» всего 47 тонн водоизмещением).
Эти замечательные предвидения Ломоносова не были случайной, счастливой догадкой. Ломоносов стремился построить свои заключения «по натуральным законам и по согласным с ними известиям», то есть исходя из общих законов природы и совокупности фактов, добытых к тому времени наукой.
Полярные страны были еще мало изведаны. В них предстояло еще проникнуть. Ломоносову приходилось определять «по вероятности» положение берегов «студеного приполярного океана», высказывать догадки относительно условий полярных плаваний, течения вод, движения льдов и т. д. Ломоносов неизбежно должен был встать на путь теоретических построений и гипотез. Гипотеза была для него в данном случае и средством познания и практически необходимым руководством для действия.
Разбирая вопрос о возможности Северного морского пути, Ломоносов пытается уловить в хаосе разрозненных и не связанных между собой фактов основные закономерности, что позволило бы не только научно осознать бесчисленное множество отдельных явлений, но и разрешить вопросы, для решения которых в то время не представлялось никаких других средств. Поэтому Ломоносов впервые пытается установить общую закономерность в образовании земной поверхности и занимается так называемыми геоморфологическими гомологиями.