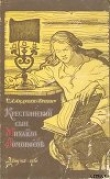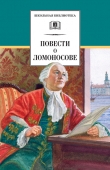Текст книги "Ломоносов"
Автор книги: Александр Морозов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Генкель был серьезным ученым, сыгравшим положительную роль в развитии минералогической химии. Некоторые его приемы исследования носили новаторский характер; так, не довольствуясь внешними признаками для характеристики минералов, как большинство его современников-минералогов, Генкель стал на путь исследования с помощью огня их химических свойств и, что особенно важно, вводил так называемый «мокрый анализ» (то есть исследование в растворах). Занимаясь минералогической химией, Генкель являлся представителем «флогистической химии», которой он как бы открыл новую область применения. Учение о флогистоне – особом невесомом веществе, участвующем в процессе горения, – при всей своей ошибочности сыграло важную историческую роль в развитии химии. И Ломоносов, прежде чем он стал освобождаться от метафизических представлений о материи и преодолевать учение о «невесомых», прошел через флогистическую химию. Это был неизбежный этап. Впервые Ломоносов познакомился с флогистической химией еще в Марбурге на лекциях профессора Дуйзинга, а также путем самостоятельного чтения книг основателей флогистики Бехера и Шталя. И хотя учение о флогистоне рано перестало удовлетворять Ломоносова, он отдал ему некоторую дань, как, например, в своей ранней незавершенной диссертации «О металлическом блеске», где он не только неоднократно ссылался на труды Бехера и Шталя, но и пользовался понятием флогистона.
Особенно важны были, однако, те практические занятия, которые вел Генкель с русскими студентами, обучая их элементарным приемам пробирного дела и навыкам химического анализа. Генкель также часто посещал со своими учениками шахты и рудники, расположенные неподалеку от Фрейберга. Ломоносов жадно усваивал новую открывшуюся перед ним область знания, по-видимому быстро опережая своих товарищей. Интересы студентов скоро определились. Юнкер, присмотревшись к ним, подал совет, чтобы «каждый из студентов, помимо усвоения общих понятий о горном деле, особенно изучил один из главных его отделов, так чтобы один приобретал знания преимущественно о рудах и минералах, другой – о строении рудников и машинах, третий – о горнозаводском плавильном искусстве». По его мнению, составившемуся после бесед со студентами, к первому делу способней всего казался Рейзер, ко второму – Ломоносов, а к третьему – Виноградов. Так как Генкель не считал себя универсальным специалистом, то для обучения было решено пригласить опытного «вардейна» (присяжного пробирера) Иоганна Клотча, «инспектора по драгоценным камням», а в прошлом шихтмейстера, Иоганна Керна и престарелого маркшейдера Августа Байера, которого впоследствии Ломоносов вспомнил в своем сочинении «О слоях земных».
Юнкер имел свои виды на Ломоносова.
В Академии наук Юнкер значился по кафедре поэзии, и должность его состояла в сочинении од. Во время Крымского похода Миниха он находился неотлучно при фельдмаршале на ролях историографа. Миних получил именной указ осмотреть и поправить соляное дело украинских городов Бахмута и Тора (Славянска), что он и возложил на Юнкера. После того как Юнкер подал ведомость о состоянии соляных варниц в этих местах, его произвели в гофкамерраты и послали в Германию «осмотреть все тамошние заводы для пользы здешних». Юнкер ухватился за Ломоносова, хорошо знавшего порядки на поморских солеварнях. В течение четырех месяцев, помимо занятий у Генкеля, Ломоносов составлял и переводил для Юнкера «екстракты» о соляном деле, содержащие различные экономические сведения и описание технологического процесса. Ломоносов сам внимательно все изучил, или, говоря его собственными словами, «с прилежанием и обстоятельно в Саксонии высмотрел» все особенности местного солеварения. Юнкер мог на досуге снисходительно потолковать с любознательным студентом о литературе. Юнкер был сведущим человеком в вопросах стихосложения, но к русской поэзии относился свысока. Переводя оду Тредиаковского, где были стихи «Есть Российска муза, всем млада и нова», Юнкер вместо «млада» поставил по-немецки «слаба», хотя это и не требовалось соображениями размера.
Жизнь во Фрейберге была суровой. Здесь не было видно шумных ватаг студентов в разноцветных камзолах, со шпагами на перевязи, проводивших добрую часть времени не в университетских аудиториях, а в кнейпах, бильярдных и кофейнях. В предрассветных сумерках и поздно вечером через город тянулись толпы угрюмых и усталых рудокопов. Колокол на башне святого Петра созывал не только к началу смены в 4 часа утра, в полдень и вечером в 8 часов, но и начинал звонить за час до начала работ, чтобы рудокопы заблаговременно могли отправиться в путь-дорогу. В городе все напоминало о горном деле. Большой рудничный молоток и железный лом – отличительные знаки рудокопа – были прибиты над дверями домов, церквах и на кладбищах. Изображения рудокопов украшали жилые, помещения и лестничные клетки. Надписи на утвари указывали на горное дело. Горожане, даже не работающие непосредственно в рудниках, приветствовали друг друга словами «glückauf!» («Счастливо выбраться наверх!»). Несчастные случаи в рудниках и гибель шахтеров были постоянными спутниками рудокопов, получавших мизерную плату за свой поистине каторжный труд. Недельный заработок рудокопа был 18–27 грошей, из которых несколько грошей уходило еще на свечи для шахты, которые рабочий приобретал за свой счет. Но каждый рабочий вносил непременно три гроша в «копилку» своего содружества или корпорации, которая поддерживала больных и ставших неспособными к горным работам товарищей и упорно боролась за свои права. В городе часто возникали волнения и даже вспыхивали мятежи горняков.
Ломоносов быстро огляделся в маленьком горном городке и вошел в колею тамошней жизни. Через три недели после прибытия во Фрейберг Ломоносов присутствовал при довольно редком зрелище – ночном шествии рудокопов, устроенном по случаю посещения города королем Польши и Саксонии 19 августа 1739 года. В шествии приняли участие все рудокопы и штейгеры из окрестных рудников, всего 3535 человек. Они двигались от городских ворот к замку, разделенные на «хоры», размахивая в темноте маленькими рудничными лампами и наводнив узкие улицы Фрейберга мелькающими повсюду огоньками. Впереди первого «хора» шел «рудоискатель» с «волшебной вилкой» в сопровождении двух юношей с факелами. За ним выступали восемь главных берг– и шихтмейстеров в длинных одеяниях из черного бархата. Яркие факелы освещали большие подносы, на которых искрились и мерцали серебряные, медные, свинцовые, оловянные руды, колчеданы и обманки, желтоватые куски серы и мышьяковых руд, пирамиды из асбеста и серпентинного камня, пузатые бутылки и кубки с купоросовым маслом и другими продуктами горной промышленности [32]32
Описание взято нами из журнала «Alte und Neue Curiosa Saxonica», Dresden, 1739, № 21, стр. 320–322.
[Закрыть].
Шествие закончилось в полночь. Саксонский король не удостоил рудокопов ничем, кроме милостивой улыбки, и не проявил особого интереса к горному делу. Фрейбергским старожилам невольно вспоминалось другое. Около тридцати лет назад, точнее 22 сентября 1711 года, на пути в Карловы Вары, во Фрейберг заглянул русский царь Петр I. Он остановился в замке, и в честь него состоялось такое же шествие рудокопов. Звенели цитры и триангели, сверкали факелы, и лилась песня, рожденная под землей и рвущаяся к небу. Восхищенный Петр приказал выкатить рудокопам и плавильщикам десять бочек вина, которые были тут же весело роспиты за его здравие. На обратном пути из Карловых Вар в октябре того же года Петр внимательнейшим образом осмотрел горные выработки и заводы под Фрейбергом, сам спускался в штольню, поработал некоторое время ломом и молотком и собственноручно добыл несколько кусков различных руд. Фрейбергские рудокопы бережно хранили орудия, которыми пользовался Петр, работая в шахте. Это напоминание о Петре заставляло Ломоносова еще выше поднимать голову на чужбине, мужественней и тверже отстаивать свое национальное достоинство.
Ломоносов и его товарищи занимались с большим усердием, и даже придирчивый Генкель должен был признать, что «занятия их металлургией идут успешно», как он написал в Петербург 24 декабря 1739 года. В этом же письме Генкель даже обращает внимание Корфа, что «моим любезным ученикам нет никакой возможности изворачиваться 200 рейхсталерами в год, иначе, в их же ущерб, пришлось отказывать им в некоторых необходимых предметах».
Ломоносов бедствовал. При его богатырском росте и телосложении он не мог продержаться на скудном гостиничном обеде из жалкого супа и чахлого жаркого, Отношения его с Генкелем портились со дня на день и скоро достигли чрезвычайной остроты.
Берграт Генкель был черств, сух, груб и надменен. Считая своим долгом держать в строгости набедокуривших студентов и всячески их обуздывать, он ничего не мог противопоставить им, кроме педантической требовательности и резких окриков. Но главное, он вовсе не хотел считаться с их умственными интересами и стремлением к самостоятельной работе.
Во многих отношениях – и как человек, и как педагог, и как ученый – Генкель был совершенной противоположностью мягкому, снисходительному и разностороннему Вольфу. Генкель был, несомненно, выдающимся химиком и минералогом. Но сами эти науки находились в плену средневековых представлений и наивной эмпирики и были куда более отсталыми, чем физика, уже в то время тесно связанная с математикой и философией. Во Фрейберге на Ломоносова пахнуло старой схоластикой в сочетании с мелочным техницизмом средневекового ремесленничества. «Он презирает всякую разумную философию, – писал Ломоносов о Генкеле в Петербург, – и когда я однажды по его приказанию стал излагать перед ним химические явления, то он тотчас же повелел мне замолчать (ибо сие было изложено не по правилам его перипатетической концепции, а согласно правилам механики и гидростатики), и он (Генкель) по своей всегдашней заносчивости подверг насмешке и глуму (мое изложение) как вздорное умствование» [33]33
Письмо к Шумахеру от 16 ноября 1740 года. Оригинал на немецком языке. Цитату приводим в нашем переводе. «Разумной философией» Ломоносов называет философию рационализма.
[Закрыть]. «Сего господина, – запальчиво писал Ломоносов, – могут почитать кумиром те токмо, которые коротко его не знают; а я бы не хотел поменяться с ним своими хотя и малыми, однакож основательными познаниями, а посему не вижу причины почитать его своей путеводной звездой и единственным спасением». Он недоволен всей системой преподавания Генкеля. Даже специальный курс металлургической химии вызывает его нарекания: «Что до курса химии надлежит, то он за первые четыре месяца едва с изложением учения о солях управился, на что и одного месяца хватило б для всех протчих главнейших материй, как-то: металлов, полуметаллов, земель, камней и серы». Ломоносов с иронией говорит, что Генкель с важным видом вещал общеизвестные истины: «самые обыкновенные процессы, о которых почти во всех химических книжках написано, держит в тайности, так что из него не легко их вытащить и на аркане».
Ломоносову было в то время уже двадцать восемь лет. Вполне сложившийся человек все время должен был переносить обращение с собой, как с провинившимся школьником.
Ломоносов томился и тосковал. Генкель совал нос решительно всюду и даже сообщал в Петербург, что Ломоносов поддерживает «подозрительную переписку»» с какой-то марбургской девушкой.
Раздражение Ломоносова возрастает. Но он продолжает сдерживаться и, стиснув зубы, работает. Он отлично видит недостаточность науки, которую ему преподносил Генкель, и хорошо сознает, что горному делу «гораздо лучше можно обучиться у любого штейгера, который всю жизнь свою в рудниках проводит, нежели у него». «Естественную историю, – писал Ломоносов Шумахеру, – нельзя изучить в кабинете господина Генкеля, из его шкапов и ящиков, нужно самому в разных рудниках побывать и сравнить местоположение, свойства гор и почвы и взаимное отношение заложенных в них минералов».
Ломоносов использует свое пребывание во Фрейберге, чтобы самостоятельно изучить горное дело. Не случайно отмечал он потом в своей книге «Первые основания металлургии», что, «приехав из Гессенской земли в Саксонию, принужден был я учиться в другой раз немецкому языку, чтобы разуметь, что говорят рудокопы и плавильщики». Он толкует со старыми мастерами – рудознатцами, делящимися с ним своим опытом и рассказывающими о различных происшествиях на рудниках.
Ломоносов часто сам спускается в рудники, изучает строение «слоев земных» и техническую постановку дела. «Весьма глубокие рудники, хотя не серебром или золотом, однако знатным количеством свинцу и меди, с другими минералами к труду привлекают, так что в Саксонии при осматривании рудников мне в гору опускаться случалось почти прямо вниз до сорока лестниц, каждая по четыре сажени. Ниже итти не допускала вода, потому что тогда одолела около семи лестниц».
Его зоркие и внимательные глаза присматриваются ко всему, что он видит в рудниках, что дает ему потом возможность ярко и наглядно описывать все виденное. Он изучает характер руд и особенности месторождения отдельных минералов. Особенно его интересует слюда, добычу которой он видел еще на Белом море.
Ломоносов интересуется прошлым Фрейберга и делает выписки из старинных хроник, используя их потом в своих научных трудах. В своем «Слове о явлениях воздушных», произнесенном Ломоносовым в 1753 году, он ссылается на «Фрейбергский летописец», сообщающий о страшной грозе, пронесшейся над городом в 1556 году.
Изучая за границей горное дело, Ломоносов умел здраво и критически отнестись ко всему окружающему. Он подмечал также черты отсталости иностранной техники, которые она влачила за собой как наследие неизжитого средневековья.
Посещая фрейбергские рудники и наблюдая тамошние порядки, Ломоносов не мог не видеть тяжелого положения рабочих, обреченных на поистине каторжный труд, который не мог им обеспечить даже полуголодное существование. Всего за два года до приезда Ломоносова во Фрейберг, 11 ноября 1737 года, доведенные до отчаяния рудокопы устроили восстание, продолжавшееся девять дней, так что пришлось спешно вызвать войска.
Особенно возмущала Ломоносова зверская эксплуатация детей на рудниках. В своих «Первых основаниях металлургии» Ломоносов вспоминал виденных им в Саксонии «малолетних ребят», которые, «несмотря на нынешнее просвещение, еще служат на многих местах вместо толчейных мельниц», то есть толкут и растирают насыщенную серой и сурьмой руду. Тогда как, замечает Ломоносов, легко можно было бы сделать для этого механические приспособления наподобие мельниц: «для лутчего ускорения работы и для сбережения малолетних детей, которые в нежном своем возрасте тяжкою работою и ядовитою пылью здоровье тратят и на всю жизнь себя увечат».
Ломоносов не просто пронесся по Европе в щегольской карете, как русские знатные путешественники, а окунулся в самую гущу жизни, видел ее снизу и не питал никаких иллюзий в отношении западноевропейской культуры.
Чем дольше жил Ломоносов за границей, тем отчетливей видел он повсюду проявления косности, невежества, нищеты и рабства, которых не могли прикрыть ни разноцветные огни княжеских празднеств, ни туманные лекции университетских профессоров, рассуждающих об отвлеченных принципах религии и морали. Наряду с примечательными достижениями западноевропейской культуры – готическими соборами и ратушами, университетами, музыкой Баха, гремевшей под сводами лейпцигских церквей, изысканными стихами и романами – Ломоносов успел хорошо насмотреться на всяческую дикость. Из стремительно развивающейся огромной страны он попал в липкую паутину немецкого мелкодержавия, где все было сковано и ограничено в своих возможностях. Историческое развитие Германии шло замедленно. Она была во власти феодальных пережитков.
Ломоносов по своему собственному опыту знал, в каком поистине жалком состоянии находится в Германии университетская наука и в особенности экспериментальная работа по естествознанию. Он так и не увидел там ни одной химической лаборатории, отвечающей подлинно научным требованиям. Новейшие приборы, в особенности оптические, были большой редкостью.
Попав за границу, Ломоносов понял, что наряду со значительными открытиями и изобретениями выдающихся ученых-естествоиспытателей западноевропейская наука в целом была сильно засорена средневековым хламом и что надо строить научное здание у себя на родине самостоятельно и на хорошо расчищенном месте.
***
Ломоносов неотступно думал о России. Его мысли постоянно уносились на родину. Вероятно, он знал написанные в 1728 году на чужбине в Париже стихи Тредиаковского, полные трогательной нежности к далекой родине:
Начну на флейте стихи печальны,
Зря на Россию чрез страны дальны…
Но и для Ломоносова поэтическое слово было средством общения с далекой родиной. Ломоносов внимательно штудирует трактат Тредиаковского, посвященный русскому стихосложению, упорно размышляет над теоретическими вопросами, поставленными в этом трактате, овладевает поэтическим мастерством, пробует различные стихотворные размеры, прислушивается к новому звучанию стиха. Эта большая предварительная работа позволила ему с блеском выступить с первым значительным литературным произведением – «Одой на взятие Хотина».
Турецкая крепость Хотин была сильнейшей опорой Оттоманской империи на подступах к Балканам. К крепости были стянуты отборные турецкие войска числом до девяноста тысяч человек, ставшие укрепленным лагерем в гористой местности, так что, по словам русской реляции, «весьма невозможно казалось оного неприятеля из такого крепкого посту выгнать, у которого он имел на правой руке непроходимый лес и горы, перед собою маленькую речку с прудами и болотами, ретражемент и батареи, в левой же руке, по тому же глубокие буераки и великие горы, следственно трудные дефилеи, а крепость Хотин в тылу, и стоял на такой вершине, что мы оною никакою пушкою, ниже из мортиры бомбою достать не могли».
17 августа 1739 года началось русское наступление. Под огнем вражеских батарей солдаты наводили переправы через речки и, преодолевая неимоверные трудности, стремились установить артиллерию, причем там, где «лошади артиллерийские втащить на гору не могли, то чинена помощь людьми с великою радостью». Русские неизменно отбивали янычар и дрались с таким одушевлением, что приходилось «жадных до неприятеля» солдат удерживать, чтобы не тратить зря сил и зарываться вперед.
К вечеру, разгромив вооруженный лагерь и обратив в позорное бегство турок и татар, русские войска 19 августа овладели «славною и преизрядною Хотинскою крепостью», захватив в плен «трехбунчужного Колчак-пашу со всем гарнизоном». 3 сентября на страницах «Санкт-Петербургских Ведомостей» уже появилась реляция об этой «славной Виктории», вызвавшей воодушевление во всей России.
Известие о русской победе произвело ошеломляющее впечатление на Западную Европу, где было распространено мнение об упадке военной мощи России после Петра Великого. Иностранные послы вместе с дипломатическими депешами посылали листы петербургских газет и планы баталии. Опубликованные в России реляции торопливо переводились на иностранные языки и перепечатывались даже мелкими газетами.
Ломоносов живо интересовался вестями из России. Сохранился счет к нему одного фрейбергского книгопродавца «за чтение газет и журналов» как раз во вторую половину 1739 года и до «святой 1740». Среди всякой дребедени, которой были забиты в это время немецкие газеты – сообщений о происшествиях вроде того, что некий влюбленный в Бристоле выпил полную тарелку крови, только что выпущенной из руки его возлюбленной, или что скупой до умопомрачения английский богач велел похоронить своего старого слугу нагишом, – сверкали ослепительные строки о военных успехах его родины.
«Значение победы при Хотине, – писала выходившая в Дрездене немецкая газета «Das Neueste von der Zeit», – и завоевание этого места всего лучше показывает точное перечисление захваченных русскими военных трофеев. В Хотине было взято неповрежденных отлитых из превосходного металла – 157 пушек, различного калибра… 22 металлических мортиры… бесчисленное множество бомб, гранат, картечи, пороху и свинца. С 28 августа до 7 сентября в неприятельском лагере, на батареях и по дороге на Бендеры было собрано из разбросанной вражеской артиллерии 42 металлические пушки, 6 мортир, а всего 48 и в Хотине 179» (ноябрь 1739, № 21).
Приступив к написанию оды, Ломоносов не только отчетливо представлял себе боевую обстановку и условия, в которых была достигнута замечательная русская победа, но и вполне зрело оценивал ее политическое значение. В «Оде на взятие Хотина» русская поэзия впервые заявила о себе вдохновенными и торжественными стихами, каких еще никто никогда не писал в России. С пламенным воодушевлением славит Ломоносов русскую победу:
Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верьх горы высокой,
Где ветр в лесах шуметь забыл;
В долине тишина глубокой.
Крепит отечества любовь
Сынов Российских дух и руку;
Желает всяк пролить всю кровь,
От грозного бодрится звуку.
Шумит ручьями бор и дол:
Победа, Русская победа!
Но враг, что от меча ушел,
Боится собственного следа.
За отдельными событиями Ломоносов видит всю Россию, ее исторические судьбы. Огромный государственный пафос, составляющий основу всей его поэзии, хорошо выражен в этом его первом произведении. Ломоносов заставляет «взирать» с облаков на русскую победу тени Ивана Грозного и Петра I, как бы подчеркивая, что их исторический труд увенчался успехом, – Россия становится все более страшной для врагов. Она стремится не к завоеваниям, а к защите мирного труда.
Козацких поль заднестрской тать
Разбит, прогнан, как прах развеян,
Не смеет больше уж топтать,
С пшеницой, где покой насеян.
Безбедно, едет в путь купец.
И видит край волнам пловец,
Нигде не знал, плывя, препятства.
Свою оду Ломоносов послал в конце 1739 года через Юнкера в Петербург. Одновременно он представил «Российскому собранию» изложение своих теоретических взглядов на природу русского стиха.
Ломоносов откликнулся на призыв Тредиаковского разрабатывать теорию русского стихосложения и практически совершенствовать русский стих. Он изучил книгу Тредиаковского вдоль и поперек. Принадлежавший ему экземпляр испещрен множеством пометок на четырех языках, то развивающих мысли Тредиаковского, то соглашающихся с ним, но большей частью полемизирующих и насмешливых. Ломоносов подчеркивает неблагозвучные стихи Тредиаковского, помечает коротким словом «затычка» внесение лишних слогов для соблюдения размера, обращает внимание на неясность смысла, на отдельные неуклюжие выражения.
Почтительно адресованное «Российскому собранию» письмо – результат зрелых размышлений. Ломоносов требует в нем независимости в национальном развитии русской поэзии: «Российские стихи надлежит сочинять по природному нашего языка свойству, а того, что ему весьма не свойственно, из других языков не вносить». И в теории и в поэтической практике необходимо смотреть, «чем российский язык изобилен и что в нем к версификации угодно и способно».
Трактат Тредиаковского ограничивал возможности русского стихосложения. Ломоносов ставил целью окончательно освободить русский стих от стеснительных оков, которые налагал еще на него Тредиаковский. Он укреплял тонический принцип и устанавливал организующую роль ударения в русском стихе: «В российском языке не только слоги долги, над которыми стоит сила (то есть ударение. – А. М.),а прочие все коротки».
Провозгласив тонический принцип, Тредиаковский продолжал отдавать предпочтение длинным стихотворным строкам и притом признавал только двустопное стихосложение, вдобавок почти исключительно хореическое. Ломоносов горячо возражает против такого искусственного ограничения. «В сокровище нашего языка, – пишет он, – имеем мы долгих и кратких речений неисчерпаемое богатство», так что в русские стихи можно внести «двоесложные и троесложные стопы». Нет также никакого основания для того, чтобы наши гексаметры и «все другие стихи» так «запереть», чтобы они «ни больше, ни меньше определенного числа слогов не имели». Все эти стеснительные правила – наследие старинного школярства: «неосновательное оное употребление, которое в Московские школы из Польши принесено, никакого нашему стихосложению закона и правил дать не может».
Ломоносов восстает против Тредиаковского, отвергавшего ямб и уверявшего, что тот стих «весьма худ, который весь иамбы составляют, или большая часть оных». Ломоносов же, напротив, писал: «чистые Ямбические стихи хотя и трудновато сочинять, однако, поднимаяся тихо в верьх, материи благородство, великолепие и высоту умножают». Ломоносов пришел к мысли, что ямб как раз наиболее пригоден в торжественных одах. И посланная им «Ода на взятие Хотина» написана прекрасным ямбом. Ломоносов оказался прав. Ямб стал одним из самых излюбленных стихотворных размеров в русской поэзии. Ломоносов ополчается и против ограничений в области рифмы: «Хотя до сего времени только одне женские Рифмы в Российских стихах употребляемы были, а мужеские, и от третьего слога начинающиеся, заказаны, однако сей заказ толь праведен, и нашей Версификации так свойственен и природен, как, ежели бы кто обеими ногами здоровому человеку всегда на одной скакать велел». Он указывает, что это правило занесено из Польши и основано на свойствах польского языка, где слова имеют ударение «над предкончаемом слоге», а потому почти всегда дают женскую рифму. В русском языке этого нет, способность к образованию мужских и дактилических рифм ничем не связана. «То для чего нам, – восклицает Ломоносов, – оное богатство пренебрегать, без всякия причины самовольную нищету терпеть, и только однеми женскими побрякивать, а мужеских бодрость и силу, тригласных устремление и высоту оставлять».
Ломоносов договаривает все до конца. Он указывает, что русский язык по своим поэтическим возможностям богаче и ярче многих других, что и французы в поэзии нам «примером быть не могут», ибо они сами «толь криво и косо в своих стихах слова склеивают, что ни прозой, ни стихом назвать нельзя».
Русская поэзия не скована законами самого языка, как французская или польская, с постоянным ударением на одном и том же слоге. Это, по словам Ломоносова, «долго пренебреженное счастье» должно, наконец, стать залогом расцвета русской поэзии: «Российский наш язык не токмо бодростию и героическим звоном Греческому, Латинскому и Немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе купно природную и свойственную Версификацию иметь может».
Письмо и «Ода на взятие Хотина», подтверждавшие плодотворность теоретических разысканий Ломоносова, были отправлены в Петербург. Тредиаковский, считавший себя единственным и непререкаемым авторитетом в области стихосложения, написал пространное возражение, также в виде письма, и отправил в Академическую канцелярию для отправки во Фрейберг. Однако адъюнкты Адодуров и Тауберт рекомендовали Шумахеру «сего учеными спорами наполненного письма» Ломоносову не отправлять «и на платеж на почту денег напрасно не терять». Тредиаковский очень ценил свое возражение, ибо просил его вернуть ему еще в 1743 году. Впоследствии оно, к сожалению, затерялось (вероятно, погибло при пожаре в доме Тредиаковского). «Письмо» Ломоносова было напечатано только в 1778 году по копии. «Ода на взятие Хотина» также не увидела света. В 1751 году ее не включил в собрание своих сочинений сам Ломоносов.
Вместо звенящих, как медь, чеканных стихов Ломоносова, в которых словно слышится шум битвы:
То род отверженной рабы,
В горах огнем наполнив рвы,
Металл и пламень в дол бросает,
Где в труд избранный наш народ
Среди врагов, среди болот
Чрез быстрый ток на огнь дерзает… —
русская победа была отмечена школярской одой некоего Витынского:
Чрезвычайная летит – что то за премена.
Слава носящая ветвь финика зелена!
Порфирою блещет вся, блещет вся от злата.
От конца мира в конец мечется крылата…
Другой ритм, другой поэтический мир, словно десятки лет отделяют одно стихотворение от другого!
Стихи, присланные в Петербург еще никому не известным студентом, изучавшим горное дело, были до такой степени новы и неожиданны, что повергли всех в изумление, вызвали оживленные толки среди людей, причастных к литературе. Воспоминание об этих толках даже создало потом у Якоба Штелина ошибочное впечатление, что ода была напечатана и роздана при дворе, хотя это неверно.
Однако имя Ломоносова стало известно в Петербурге не только в стенах Академической канцелярии.
Ломоносов открывал новую страницу в истории русской культуры. Поэтому В. Г. Белинский в своей статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» счел необходимым особенно подчеркнуть, что «в 1739 году двадцативосьмилетний Ломоносов – Петр Великий русской литературы – прислал из немецкой земли свою знаменитую «Оду на взятие Хотина», с которой, по всей справедливости, должно считать начало русской литературы».
***
Жизнь во Фрейберге стала невыносимой.
Горькая нужда и мелкие придирки Генкеля вывели Ломоносова из себя.
В доме Генкеля происходили бурные сцены.
Генкель, как он сам признается в письме в Петербургскую Академию наук, был особенно раздражен «предосудительными для меня рассказами в городе о том, что я только хочу разбогатеть на русские деньги», о чем разгласил Ломоносов. «Я узнал, – пишет Ломоносов в Петербург, – что граф Рейский платит ему за слушание химии 150, а г. фон Кнехт и магистр Фрейеслебен каждый только по сто рейхсталеров. Посему я за тайну некую сообщил, что берграт с нас слишком высокую цену берет, а мы для того должны нужду терпеть и от некоторых вещей отказываться, полезных при научении химии и металлургии. Слова мои, однако же, не остались втайне, а были ему переданы. На что он отвечал: «Царица богата и может заплатить сколько угодно». После того я приметил, что злости его не было пределов».
Генкель стал изводить Ломоносова, поручая ему грязную и бесполезную для его занятий работу. «Первый случай, – рассказывает Ломоносов, – к поруганию меня ему в лаборатории представился (в присутствии г.г. товарищей). Он меня растирать сулему заставил, и когда я от оного отказался, ссылаясь на скверный и вредный запах, которого никто выносить не мог, то он меня не токмо ни на что не годным назвал, но и спросил меня, не хочу ли я лучше сделаться солдатом, и наконец меня с ругательством из комнаты выгнал».
Вне себя Ломоносов шумно ушел к себе на квартиру, где его охватил припадок неудержимого бешенства. По донесению Генкеля, он «начал страшно шуметь, из всех сил стучал в перегородку, кричал из окна, ругался и даже по самому простонародному немецкому обыкновению крикнул из окна на улицу: «Hunng fuit» (собачья нога – саксонское ругательство). И все это, как подобострастно сообщает Генкель, Ломоносов проделывал, «несмотря на то, что насупротив его жил обер-лейтенант и в то же время на улице проходил офицер». Но Ломоносов переломил себя. На следующий день он хотя и не явился в лабораторию, но прислал Генкелю письмо, написанное по-латыни: