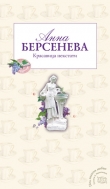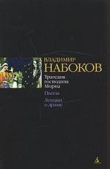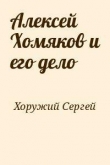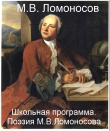Текст книги "Ломоносов"
Автор книги: Александр Морозов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
Отстаивая учение Коперника, Ломоносов прибегает и к стихотворной шутке. Он включает в «Прибавление» остроумную притчу, доказывающую превосходство и правоту Коперниковой системы мира:
Случились вместе два астронома в пиру
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: Земля, вертясь, круг Солнца ходит;
Другой, что Солнце все с собой планеты водит.
Один Коперник был, другой слыл Птоломей.
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: ты звезд теченье знаешь?
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?
Он дал такой ответ: что в том Коперник прав,
Я правду докажу на Солнце не бывав.
Кто видел простака из поваров такова,
Который бы вертел очаг кругом жаркова.
Это простое, доступное и убедительное стихотворение, полное народного здравого смысла, вскоре приобрело значительную популярность. Из брошюры Ломоносова в том же году оно было перепечатано в сатирическом журнале М. Д. Чулкова «И то и оно» и приведено в «Адской почте» Ф. Эмина. А включение в знаменитый «Письмовник» составленный верным учеником Ломоносова Николаем Кургановым, сделало это стихотворение известным нескольким поколениям грамотных русских людей. «Письмовник» Курганова представлял собой сборник энциклопедического содержания, многократно переиздававшийся и служивший для самообразования широких, преимущественно демократических слоев народа.
Настойчивая просветительская деятельность Ломоносова и серьезный отпор, который он давал притязаниям церковных кругов, значительно укрепили позиции передовой науки. Этим и объясняется, что в том же 1761 году Академией наук при несомненном содействии Ломоносова было выпущено второе издание книги Фонтенелля «Разговоры о множестве миров», столь решительно осужденной синодом.
Астрономические воззрения Ломоносова отражали его передовое, прогрессивное мировоззрение. В них отчетливо проявился его широкий философский подход к изучению природы, его материалистическое понимание всех совершающихся в ней процессов. Это и позволяло ему высказать новые, смелые и замечательные мысли по ряду вопросов, которые не могли и не умели поставить должным образом современные ему западноевропейские исследователи. Ломоносов видел там, где все еще блуждали в потемках.
Ломоносовское понимание природы было основано на ясном представлении о материальном единстве мира. «Во всех системах Вселенной элементы и начала одни и те же, – писал Ломоносов в 1756 году в своих заметках по теории электричества. – И материя пылающего солнца – та же самая, что и внутренняя (материя) в раскаленных телах».
«Я натуру нахожу везде самой себе подобную, – писал Ломоносов в «Изъяснении» к своему «Слову о явлениях воздушных». – Я вижу, что лучи от самых отдаленных звезд к нам приходящие тем же законам в отвращении и преломлении, которым солнечные и земного огня лучи последуют, и для того тоже сродство и свойство имеют».
Но эта материя, составляющая вселенную, находится в непрестанном развитии. Все тела как на нашей Земле, так и в необъятном космическом пространстве постоянно изменяются. В своем сочинении «О слоях земных», говоря о всеобщей изменчивости в природе, Ломоносов указывает, что «главные величайшие тела мира, планеты и самые неподвижные звезды изменяются, теряются в небе, показываются вновь». Идея развития и изменяемости и привлекла внимание Ломоносова к существованию переменных звезд, которых в его время было открыто всего пять.
Ломоносов был уверен, что во вселенной господствует повсюду однообразный порядок.
Рассматривая вопрос о природе комет и происхождения их хвостов, Ломоносов решительно обрушивается на бесплодную метафизику и, суждения, игнорирующие материальное единство природы. «Пусть, кто хочет, – писал Ломоносов, – представляет себе более тонкие (до неизмеримости!) пары в комете, пусть делит материю до бесконечности или на простые сущности, но я не знаю (не нахожу) никаких паров, которые могли бы подняться вне пределов нашей атмосферы. Выдумывать более тонкие (пары) в комете предоставляю тем, кому нравится выдумывать совершенно иную природу, чем та, которая, как я на основании разума и опыта привык считать, повсюду себе подобна».
Ломоносов стремился найти общий комплекс сил, действующий как в земной атмосфере, так и в безграничной вселенной, и гениально нашел их в электрических явлениях, которыми он объяснял и «огни св. Эльма» на корабельных мачтах, и северное сияние, и свечение кометных хвостов.
Ломоносов придавал большое значение развитию астрономической науки в России и был глубоко убежден, что именно в нашей стране, где имеется возможность производить наблюдения в отдаленных на десятки и сотни градусов друг от друга пунктах, астрономия достигнет наивысшего расцвета или, как он выражался, «славнейшая из муз Урания утвердит преимущественно жилище свое в нашем Отечестве».
Ломоносов изучал окружающий его мир во всей безграничности его проявлений, начиная от незримых атомов, составляющих все тела природы, и кончая небесными светилами, рассеянными в необъятной вселенной. Его внимание привлекали к себе и грозные величественные явления природы – землетрясения, раскаты грома и сверкание молнии, бури на море – и тончайшие, едва уловимые движения чувствительных растений. Он переходил от изучения стихийных cил к живой природе, от наблюдений над процессами, совершающимися в настоящее время, к далекому прошлому Земли. Его ум был неистощим, а страсть к знанию неиссякаема. «Этот знаменитый ученый, – писал о Ломоносове А. И. Герцен, – был типом русского как по своей энциклопедичности, так и по остроте понимания. Всегда с ясным умом, полный беспокойного желания все понять, он бросался с одного предмета на другой с удивительной легкостью понимания».
Однако было бы ошибкой представлять это таким образом, что Ломоносов расточал свой талант на решение множества не связанных между собой вопросов. Он работал в различных областях науки, потому что стремился постичь единство законов, управляющих природой, всеобщую связь и взаимозависимость ее явлений. Для него не было непереходимых граней между отдельными науками, как их нет и в самой природе, отражением которой они являются. Единый материалистический подход ко всем явлениям и давал ему ту легкость понимания, о которой говорил Герцен.
Научная деятельность Ломоносова при всей ее широте и многообразии отличалась беспримерной целеустремленностью. Он нимало не походил на современных ему западноевропейских «полигисторов» – ученых-всезнаек, набитых до отказа напыщенной» и бесплодной эрудицией. Его проникновенный энциклопедизм был озарен светлыми помыслами о благе, преуспеянии и просвещении горячо любимого им русского народа. Чем бы ни занимался Ломоносов, какие бы великие и общие законы природы он ни устанавливал, какие бы открытия ни совершал – всегда, во всем и прежде всего он служил этим своей родине!
Часть четвертая
ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА
«Для пользы общества коль радостно трудиться».
М. В. Ломоносов

XVI. СПОДВИЖНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ
«За общую пользу, особливо за утверждение наук в Отечестве, и против отца своего родного восстать за грех не ставлю».
М. В. Ломоносов
Ломоносов не знал ничего прекрасней и возвышенней науки. «Что их благороднее, что полезнее, что увеселительнее, и что бесспорнее в делах человеческих найдено быть может!» – писал он о науках в 1760 году, составляя конспект торжественного слова по случаю предполагавшегося открытия Петербургского университета. Но Ломоносов никогда не любил наук только ради них самих. Как ни радовался он победам человеческого разума, он прежде всего помышлял о том, чтобы поставить науку на службу родине, направить ее усилия на выполнение государственных задач и просвещение русского народа. Со дня своего вступления в Академию наук и до самой своей смерти Ломоносов неустанно боролся за национальные основы и традиции русской науки, за то, чтобы создать и обеспечить возможность успешного роста и развития русских ученых.
«Положил твердое и непоколебимое намерение, – писал он И. И. Шувалову 1 ноября 1753 года, – чтобы за благополучие наук в России, ежели обстоятельства потребуют, не пожалеть всего моего временного благополучия».
Ломоносов ясно сознавал, что Петербургская Академия наук не выполняет всех задач, поставленных перед нею еще Петром Великим.
Ломоносов видел, что одна из главных причин «худого состояния Академии» заключается в недостатке русских ученых, кровно связанных с нуждами и интересами своего народа. В то же время он, как никто, понимал, что в тогдашней России еще не было прямых и надежных путей к высотам науки, что Академия наук не обеспечила подготовку русских ученых и что в ее стенах русским людям не только не предоставлены все возможности для работы, но их всячески оттирают от науки и стремятся поставить в зависимое и приниженное положение. Этому надо было положить конец. И Ломоносов яростно боролся с «неприятельми наук российских». Он берется за создание постоянного центра для подготовки широкого слоя образованных русских людей. На академическую гимназию и Университет рассчитывать при сложившихся обстоятельствах было нельзя. Гимназия влачила жалкое существование, а Университета при Академии наук фактически не было. Ломоносов приходит к мысли о необходимости создания самостоятельного и независимого от Академии университета, двери которого были бы раскрыты для всей страны.
Ломоносов обращает свои взоры к Москве. Здесь, в этом историческом центре русской жизни, вдали от академических и всяких иных иноземцев и придворных кругов, первый русский университет мог развиться и окрепнуть на самобытной национальной основе. В самой Москве и близлежащих губерниях жило много дворян, которым не под силу было содержать детей в Петербурге, чтобы дать им образование, если их не удавалось определить в кадетский корпус. Здесь можно было надеяться на то, что университет привлечет к себе более широкие демократические слои населения, ибо даже в официальном представлении в Сенат об открытии университета в Москве указывалось на большое число живущих в ней не только дворян, но и разночинцев.
Ломоносову удалось воодушевить своей мыслью И. И. Шувалова, и дело быстро стало продвигаться к осуществлению.
Ломоносов составил и разработал весь план университета, наметил всю его организационную структуру и даже программу преподавания. Только в силу совершенно особого положения Шувалова при дворе Елизаветы Ломоносову пришлось уступить ему честь основания университета. Выдвижение на первый план И. И. Шувалова способствовало скорейшему осуществлению задуманного великого дела, и Ломоносов умышленно поддерживал иллюзию почина у благожелательного, но вялого и нерешительного мецената.
Шувалов обсуждал с Ломоносовым мельчайшие подробности устройства университета. И. Ф. Тимковский сообщает в своих воспоминаниях со слов Шувалова: «Судили и о том, у Красных ли ворот к концу города поместить его, или на середине, как принято, у Воскресенских ворот; содержать ли гимназию при нем, «ли учредить отдельно», и пр. В конце июня или в начале июля 1754 года, перед тем как войти в сенат с предложением об учреждении университета, Шувалов послал черновик своего «доношения» Ломоносову. Ломоносов спешит ответить, что наконец-то «к великой моей радости уверился, что объявленное мне словесно предприятие подлинно в действо произвести намерились к приращению наук, следовательно к истинной пользе и славе отечества».
Ломоносов посылает Шувалову план организации университета и при этом напоминает ему свое уже ранее «сообщенное» «главное основание» – чтобы этот план «служил во все будущие роды», – то есть обеспечивал возможность дальнейшего роста и развития университета.
Надо дать университету быстро развернуть свои силы, чтобы не пришлось, «сделав ныне скудной и узкой план по скудости ученых, после как размножатся оной снова переделывать и просить о прибавке суммы». Если даже на первых порах отпущенные средства нельзя будет целиком использовать, то Ломоносов предлагает их «на собрание университетской библиотеки».
По мнению Ломоносова, «профессоров в полном Университете меньше двенадцати быть не может» – в трех факультетах: юридическом, медицинском и философском. На юридическом профессор общей юриспруденции должен преподавать «натуральные и народные права», второй – «профессор юриспруденции Российской» – «внутренние государственные права», третий – «профессор политики» – «показывать взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей между собой». Все юридические предметы изучаются на исторической основе. Медицинский факультет, как его мыслил Ломоносов, был факультетом естествознания. Основные кафедры в нем занимали профессора химии, натуральной истории и анатомии. Философский факультет, насчитывавший шесть профессоров, объединял философию, физику, ораторию (теорию красноречия), поэзию, историю и древности. Особенно настаивает Ломоносов на том, что при университете «необходимо должна быть Гимназия», без которой, он «как пашня без семян».
В заключение Ломоносов писал: «Не в указ Вашему превосходительству советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целой полной план предложить могу». Но Шувалов не захотел ждать новых советов Ломоносова. Причина этого была в том, что между ними шла глухая, но, по-видимому, напряженная борьба за права универоитетской науки. Ломоносов стремился придать университету демократический характер, обеспечить его независимость от притязаний феодальных кругов. И. Ф. Тимковский прямо указывает в своих воспоминаниях, что, составляя с Шуваловым проект и устав Московского университета, «Ломоносов тогда много упорствовал в своих мнениях» и настойчиво «хотел удержать» образец университета «с несовместными вольностями».
Шувалов в основном принял план, составленный Ломоносовым, и приложил его к своему «Доношению» в сенат. Он только сократил число профессоров до десяти, объединив кафедры поэзии и красноречия и кафедры истории и древностей, а кроме того, отдавая дань своим сословным интересам, рядом с обозначением должности профессора истории пометил: «и геральдики». 19 июля 1754 года сенат утвердил представление И. И. Шувалова. 12 января 1755 года – всего через полгода – «Указ об учреждении в Москве Университета» был подписан Елизаветой. 24 января того же года опубликовано «Положение об Университете». Университет получил достаточные средства. В то время как Шувалов просил для него десять тысяч ежегодно, сенат, по указанию Елизаветы, постановил отпускать пятнадцать тысяч, «дабы оной Университет приумножением достойных профессоров и учителей наиболее в лучшее состояние происходил».
Кураторами университета были назначены И. И. Шувалов и Лаврентий Блюментрост, бывший некогда первым президентом Академии наук. Фигура Ломоносова осталась в тени. Но для него было важнее всего само дело. Ради процветания наук в отечестве он готов был поступиться не только своей славой. Недаром он писал о себе:
По мне, хотя б руно златое
Я мог, как Язон, получить,—
То б Музам, для житья в покое,
Не усумнился подарить.
Ломоносов даже не был приглашен на открытие университета в Москве, состоявшееся 26 апреля 1755 года.
Университет был размещен в казенном доме бывшей дворцовой аптеки у Воскресенских ворот. При нем были сразу открыты две гимназии – «благородная» (для дворян) и «разночинная». В состав студентов, как бы по традиции, было зачислено несколько питомцев Спасских школ.
Открытие университета совершалось в торжественной обстановке. Заранее были отпечатаны программы. Профессора произносили речи на четырех языках. Весь день гремели трубы и литавры. Здание университета было ярко освещено изнутри и снаружи. Толпы москвичей до четырех часов утра любовались иллюминацией. На большом транспаранте была изображена Минерва, утверждающая обелиск, у подножия которого поместились «младенцы, упражняющиеся в науках». Один из них старательно выводил на листе имя Шувалова.
Не упоминали нигде только о Ломоносове. Но именно Ломоносов, а не Шувалов передал свой облик первому русскому университету. Шувалов прилагал усилия к тому, чтобы обеспечить сословный, дворянский состав университета. Для этого он еще в 1756 году добился разрешения отпускать записанных с малолетства в гвардейские полки дворян в университет, причем этих обучающихся недорослей было велено «производством в чины не обходить». Таким образом, записанные чуть ли не с пеленок в гвардию дворяне могли не только «дома живучи» проходить все нижние чины, но и обучаться в университете.
Однако дворянство не смогло оттеснить разночинцев, и в университете возобладали ломоносовские демократические традиции.
В университет с самого начала пришли люди ломоносовского покроя и ломоносовского понимания задач науки. Первыми русскими профессорами стали Антон Барсов, преподававший математику, и Николай Поповский, занявший кафедру красноречия и поэзии. С первых же шагов своих в университете Поповский показал себя человеком, беззаветно преданным идеям Ломоносова. Вступая на кафедру, он произнес горячую речь, в которой доказывал, что преподавание философии нет никакой надобности вести по-латыни, ибо «нет такой мысли, кою бы по российски изъяснить было невозможно». Он ведет ожесточенную борьбу с приглашенными в университет иностранными профессорами и требует, чтобы русский язык стал единственным языком университетского преподавания. Он выдерживает стычки с надменным и самоуверенным профессором Дильтеем и, когда кончился срок контракта Дильтея, решительно отказывается подписать его аттестацию.
Талантливый поэт, Поповский продолжает литературное дело Ломоносова. Он пишет оды и послания, в которых славит науки и ратует о распространении просвещения в отечестве. Поповский умер всего тридцати лет от роду (в 1760 году). Его сменил Антон Барсов, оставивший математику для теории красноречия и поэзии. Он первый ввел толкование поэтических трудов Ломоносова с университетской кафедры наравне с сочинениями античных писателей.
Московский университет скоро стал крупнейшим центром русской национальной культуры. Университет фактически руководил всем средним и низшим образованием, назначением и сменой учителей, открытием новых школ в значительной части страны, ибо тогда не было ни одного учреждения, которое бы целиком ведало вопросами просвещения. Уже в 1756 году по почину Московского университета была открыта гимназия в Казани. Университет стремился привлечь к науке как можно более широкие слои русского общества. Ежегодно с началом занятий публиковались программы «публичного преподавания» и в аудитории допускались слушатели, не числящиеся студентами. Университетские профессора выступали с общедоступными лекциями, и в помещаемых о них отчетах с гордостью отмечалось, что на них присутствовали и женщины.
С 26 апреля 1756 года в заведенной при университете типографии стала выходить газета «Московские ведомости» – первая газета в Москве.
Особым приложением к ней печатались речи и научные статьи профессоров. Во главе университетской типографии стал писатель M. M. Херасков, наладивший издание большого числа научных, литературных и учебных книг. Одной из самых первых книг, вышедших из этой типографии, было «Собрание сочинений» Ломоносова, украшенное замечательным гравированным портретом Ломоносова и стихами Н. Поповского, проникнутыми гордостью за своего великого учителя, указывающего путь к новому, еще невиданному расцвету русской культуры:
Московский здесь Парнас изобразил витию,
Что чистой слог стихов и прозы ввел в Россию,
Что в Риме Цицерон и что Виргилий был,
То он один в своем понятии вместил,
Открыл натуры храм богатым словом Россов
Пример их остроты в науках Ломоносов.
***
В одном рукописном сборнике XVIII века сохранилась небольшая литературная сатира «Сон, виденный в 1765 году Генваря первого». Автором этого произведения был Федор Эмин, стяжавший через несколько лет шумную славу журналиста и литератора. В этом новогоднем «сновидении» некая старая волшебница приводит автора на остров, населенный просвещенными и одаренными разумом животными, составляющими ученое собрание, во главе которого «был ужасный медведь, ничего не знающий и только в том упражняющийся, чтобы вытаскивать мед из чужих ульев и присваивать чужие пасеки к своей норе; он же слово «науки» разумел разно: то почитал оное за звание города, то за звание села. Советник сего собрания был прожорливой волк и ненавидел тамошних зверей, ибо он был не того лесу зверь, и потому называли его «чужелесным». Только один был там, который «имел вид и душу человеческую». «Он был весьма разумен и всякого почтения достоин, но всем собранием ненавидим за то, что родился в тамошнем лесу, а прочие оного собрания ученые скоты, ищущи своей паствы, зашли на оный остров по случаю».
Сон, привидевшийся Эмину, весьма прозрачен. Нетрудно разгадать, что сластена-медведь, охотник до чужих пасек, – это гетман и президент Академии Кирила Разумовский, злобный волк – советник Иоганн Тауберт, а душу человеческую имел один Ломоносов. Эмин хорошо уловил настроения многих русских людей, безмолвно наблюдавших обстановку в Петербургской Академии наук.
С августа 1754 года в Академии шла то глухая, то крайне ожесточенная борьба за новый устав. В связи с общим указом Елизаветы о рассмотрении и исправлении российских законов сенат повелел учинить и рассмотрение Академического регламента. Теплов составил проект нового регламента, на который страстно обрушился Ломоносов. В составленной им особой записке «О исправлении Академии» Ломоносов прежде всего указывает, что в Академии ровно ничего не делается для подготовки русских ученых, что вся учебная работа в Академии развалена, что со времени нового регламента, который был дан в 1747 году, «в семь лет ни един школьник в достойные студенты не доучился. Аттестованные приватно прошлого года семь человек латинского языка не разумеют, следовательно на лекции ходить и студентами быть не могут».
Ломоносов хочет обеспечить приток к научной работе «всякого звания людям». Он жалуется на то, что в России, «при самом наук начинании, уже сей источник регламентом по 24 пункту заперт, где положенных в подушный оклад в университет принимать запрещается. Будто бы сорок алтын толь, великая и казне тяжелая была сумма, которой жаль потерять на приобретение ученого природного россиянина и лучше выписывать! Довольно бы и того выключения, чтобы не принимать детей холопских». Ломоносов не ставит вопроса о возможности приема крепостных, ибо это значило затронуть общий вопрос о правовом положении крепостных крестьян, что, разумеется, было неосуществимо. Но Ломоносов стремится открыть доступ к науке хотя бы для большего числа государственных крестьян и посадских, положенных в подушный оклад. Выдвинутые требования Ломоносова были встречены в штыки, тем более что становилось очевидно, что Ломоносов ввиду постоянного отсутствия президента добивается непосредственного участия в управлении Академией.
Ломоносов действовал прямо, честно и открыто. Его враги прибегали к всевозможным уловкам и интригам, чтобы сорвать, опорочить или сделать невозможным дальнейшее обсуждение его предложений. Так поступали они и на этот раз, воспользовавшись горячностью Ломоносова. Три заседания – 17, 18 и 21 февраля 1755 года – заняло чтение предложений Тауберта. В заседании 23 февраля члены Конференции стали подавать свои мнения в письменном виде. Мнения зачитывались и обсуждались. Когда выступил Теплов, терпение Ломоносова иссякло. Начался горячий спор, во время которого Ломоносов выступил «с некиими словами», после чего Теплов объявил, что, «за учиненным ему от г. советника Ломоносова бесчестием, с ним присутствовать в академических собраниях не может». К Теплову присоединился Шумахер. И они демонстративно покинули заседание.
Академическая конференция «учинила» представление Разумовскому о наложении взыскания на Ломоносова. Разумовский в ответ на доношение, составленное академиком Миллером, прислал ордер, по которому Ломоносов был «отрешен» от «присутствия в профессорском собрании». Ломоносов был оскорблен этим решением. «Спор и шум воспоследовали. Я осужден. Теплов цел и торжествует», – писал он об этих событиях Шувалову 10 марта 1755 года. Он просит его «от такого неправедного поношения и поругания избавить». Через два дня Ломоносов пишет новое письмо Шувалову, в котором сообщает, что собирался поутру прийти к нему лично, да не хочет ему докучать своим «неудовольствием», а «второе, боюсь, чтобы мне где нибудь Теплов не встретился». Видимо, Ломоносов, зная свою горячность, не ручался за себя.
По ходатайству Шувалова непосредственно перед Елизаветой Разумовскому пришлось не только отменить свое «определение», но и поспешно затребовать обратно ордер и решение Конференции, «не оставляя с них копии».
Противники Ломоносова радовались, что отстояли старый регламент и «полновластие» весьма удобного для них президента.
В феврале 1757 года Кирила Разумовский назначил Ломоносова и Тауберта присутствовать в Академической канцелярии в помощь дряхлеющему Шумахеру. Скоро в ведение Тауберта перешли все хозяйственные дела: закупки, постройки, подряды, академические мастерские, словолитня, типография, переплетная, книжная лавка. В мае 1758 года Тауберт был сравнен в чине с Ломоносовым, и ему назначено 1200 рублей жалованья. Ломоносов представлял огромную силу, и с его мнением приходилось считаться. «Те, кто бывает в канцелярии, – писал Миллер Разумовскому, – говорят мне, что г. Шумахер не произносит ни одного слова, а г. Тауберт высказывается неумеющим противоречить тому, что предлагал Ломоносов». Став советником Академической канцелярии, Ломоносов зорко следил за тем, чтобы наука отвечала потребностям страны. Уже 6 марта 1757 года, по указанию Ломоносова, Академическая канцелярия «предписала ордером», чтобы его преемник по кафедре химии Сальхов «свои ученые разыскания в химии употреблял больше на такие вещи, кои натурою производятся в пределах Российской империи и из которых бы народу впредь польза быть могла».
Став во главе Академической канцелярии, Ломоносов обращает внимание решительно на все академические учреждения. Его беспокоят и непорядки в обсерватории и состояние Ботанического сада, который «лежит в запустении и больше на дровяной двор походит». Ломоносов намечает меры для расширения Ботанического сада.
Особенное внимание Ломоносов обращает на состояние числящихся при Академии наук гимназии и университета, которые и получает в свое ведение в январе 1760 года. Ломоносову досталось тяжелое наследство.
Бедственное положение гимназии лучше всего видно из рапортов Семена Котельникова, которого Ломоносов назначил инспектором в 1761 году. На Троицком подворье, где находилась гимназия в сентябре 1764 года, по донесению Котельникова, «двери во всем доме так ветхи, что не токмо не можно плотно затворить и запереть, но и замка и петель прибить нельзя. Окончины такожде ради ветхости стекол не держат, чего ради в покоях у учеников и студентов, такожде и в классах принуждены сторожа зимою окны тряпицами и рогожами завешивать». На кухне замерзало в квашне тесто, в классах – чернила. Голодные студенты изнывали от стужи и болели цингой. «Учители в зимнее время дают лекции в классах, одевшися в шубу, разминаяся вдоль и поперек по классу, и ученики, не снабженные теплым платьем, не имея свободы встать со своих мест, дрогнут, от чего делается по всему телу обструкция и потом рождается короста и скорбут».
Некоторое время Ломоносов благоволил к инспектору гимназии Модераху, возведенному в 1759 году в звание университетского профессора истории. Он даже рекомендовал его И. И. Шувалову для составления различных экстрактов из исторических сочинений и перевода на французский язык. Но вот с 1761 года от студентов стали поступать жалобы на нерадение Модераха, на скудость содержания и однообразие пищи. Ломоносов сам занялся студенческим меню и послал распоряжение, чтобы «приготовлять явства разные» по составленному им расписанию – «студентам в обед по пяти, в ужин по три, гимназистам в обед по три, в ужин по две перемены [то есть блюда]». Обидчивый и давно помышлявший об уходе Модерах теперь уже совсем «не прилагает старания об их содержании». Когда обратились к нему с просьбами, то «он, не внимая ничего, с ругательством выгонял от себя». Узнав об этом, Ломоносов своею властью отрешил Модераха от должности и на его место назначил профессора Котельникова. Модераху же было приказано выехать из университетского дома к пасхе, а так как он стал упрямиться, то Ломоносов распорядился «в таком случае у тех покоев, в которых он жительство имеет, оконницы и двери выставить вон и тем его выехать принудить».
Ломоносов, терпевший в юности горькую нужду ради науки, принимал близко к сердцу нужды академических учеников. И у него, по его собственным словам, «до слез доходило», когда он, «видя бедных гимназистов босых, не мог выпросить у Тауберта денег». Ломоносову удалось улучшить положение гимназии. Он не только добился, своевременной выдачи денег на кошт гимназистов, но и увеличения им содержания до сорока восьми рублей в год вместо прежних тридцати шести. Он присмотрел для помещения гимназии и университета новый дом на Мойке. Ломоносов сломил сопротивление неумолимой канцелярии. Даже сам Тауберт «не казался быть тому противен». Но, улучив время, «когда Ломоносов за слабостию ног не мог толь часто в Канцелярии присутствовать», Тауберт заготовил ордер, «чтобы оный дом купить под типографию и другие дела, а университет и гимназию совсем выключил».
Ломоносову пришлось разбивать доводы Тауберта, доказывать, что под типографию и книжную лавку заняты «знатная часть академических палат и два целые каменные дома… в коих многие покои под себя занял советник Тауберт», что «анатомический театр должен быть не в жилом доме, ибо кто будет охотно жить с мертвецами и сносить скверный запах» – особенно астроному не будут приятны эти мертвецы, «когда занадобится ему итти в ночь на обсерваторию».
Ломоносову удалось с боем занять спорный дом под гимназию и университет.
19 января 1759 года Ломоносов предложил Академической канцелярии утвердить составленные им «Узаконенья» – правила поведения для гимназистов, строго наказывая «к наукам простирать крайнее прилежание и никакой другой склонности не внимать и не дать в уме усилиться», соблюдать чистоту «при столе, в содержании книг, постели и платья», запрещал «тихонько подшептывать» не знающим твердо уроки.
В Петербургской Академии наук, где иностранная речь слышалась все еще чаще, чем русская, Ломоносов сплачивал вокруг себя национальные силы. Он был окружен русскими людьми, готовыми пойти за него в огонь и в воду. Вся поголовно академическая мастеровщина, русские подканцеляристы, библиотекари, студенты, адъюнкты видели в нем своего заступника, который постоит за них в беде и не допустит неправды. В профессорском собрании русские адъюнкты дружно поддерживали все предложения и начинания Ломоносова и поднимали целую бурю, когда надо было отстаивать его дело. Ломоносов считал своим нравственным долгом помогать каждому русскому человеку, стремящемуся к науке. В течение всей своей жизни он выдвигал, растил и защищал русских ученых, стремился обеспечить им возможность развить свои дарования, создать им благоприятные условия для работы, оградить их от происков беззастенчивых иноземцев, пытающихся оттеснить их от науки. «Я сквозь многие нападения прошел, и Попова за собой вывел и Крашенинникова», – с гордостью говорил он о себе в конце жизни.