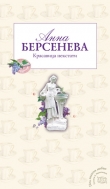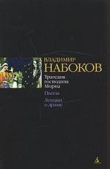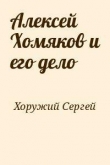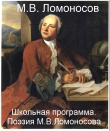Текст книги "Ломоносов"
Автор книги: Александр Морозов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 38 страниц)
В то время как статья в «Примечаниях» разбирала вопрос о происхождении ископаемых мамонтов как самостоятельную проблему, для Ломоносова это лишь частный эпизод возникающей перед ним общей истории Земли. В этом отношении Ломоносов стоял на самых передовых позициях и заглядывал далеко вперед. Естествознание XVIII века перестало видеть природу в ее движении и развитии. Геологи упрямо закрывали глаза на совершающиеся вокруг них процессы изменения Земли и проявляли полнейшую лояльность к библейской хронологии. «Революционное на первых порах естествознание оказалось перед насквозь консервативной природой, в которой и теперь бросает вызов лицемерам, восклицая, что уже теперь должно было оставаться до скончания мира таким же, каким оно было в начале его», – писал как раз об этом времени Энгельс [86]86
Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1948, стр. 155.
[Закрыть].
Ломоносов был одним из немногих ученых XVIII века, который видел мир не застывшим, а движущимся и развивающимся. В своем гениальном сочинении «О слоях земных» он прямо нападает на идею о неподвижности и неизменчивости мира, роднящую представителей нового естествознания со старой церковной схоластикой. «Напрасно многие думают, что все как видом, с начала творцом создано; будто не токмо горы, долы и воды, но и разные роды минералов произошли вместе со всем светом; и потому де не надобно исследовать причин, для чего они внутренними свойствами и положением мест разнятся. Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук, следовательно и натуральному знанию шара земного, а особливо искусству рудного дела, хотя оным умникам и легко быть философами, выучась наизусть три слова: бог так сотворил; и сие дая в ответ вместо всех причин».
Ломоносов выдвигает идею изменчивости, лежащей в основе всех явлений природы. «Твердо помнить должно, – говорил Ломоносов, – что видимые телесные на земле вещи и весь мир не в таком состоянии были с начала от создания, как ныне находим, но великие происходили в нем перемены, что показывает история и древняя география с нынешнею снесенная, и случающиеся в наши веки перемены земной поверхности». Он смело говорит о продолжительности геологических периодов, хотя это и противоречит библейскому преданию.
Западноевропейские ученые в большинстве случаев предпочитали отмалчиваться, когда речь заходила о таких щекотливых вещах, как всемирный потоп, происхождение и длительность существования Земли и т. д. А знаменитый Бюффон был вынужден по требованию парижского богословского факультета напечатать в 1769 году, в пятом томе своей «Естественной истории», специальное отречение от всего того, что в его книге «касается образований земли и могло бы противоречить закону Моисея». Это происходило через шесть лет после того, как в России вышла книга Ломоносова, в которой он смело и независимо развивал и отстаивал самые передовые взгляды на историю Земли.
Развивая ломоносовские взгляды, академик Иван Лепехин в 1772 году в своих «Дневных записках путешествия по разным провинциям Российского государства» высказал положение, что «прозябаемые, так же как и животные могут приобыкнуть к разному климату и разный смотря по стороне, ими обитаемой, получить состав, от которого и действия их перерождаются». Иными словами, ломоносовское представление о всеобщей изменчивости в природе было раскрыто Лепехиным как положение об изменчивости растений («прозябаемых») и животных под влиянием окружающей среды. В этом сказался прогрессивный характер русского естествознания, складывавшегося под могучим воздействием идей Ломоносова.
***
В 1761 году Ломоносов, прославляя только что окончившееся царствование Елизаветы, воскликнул:
Была; как Ты, натура щедра,
Открыла гор с богатством недра…
В течение всей своей жизни Ломоносов радостно наблюдал быстрое пробуждение «российских недр».
Одно за другим открывались новые месторождения, строились и возникали новые заводы. Бурно развивалась горная промышленность Урала. В короткое время, по указам берг-коллегии, казною и частными лицами были основаны заводы: Верхне– и Нижне-Сергинские (1745), Баранчинский (1747), Александровский (1751), Каслинский (1752) и другие.
За тринадцать лет, с 1751 по 1763 год, только на одном Урале возникло 66 новых заводов – столько же, сколько было основано в течение всей первой половины века. Русская черная металлургия уверенно выходила на первое место в мире. В середине XVIII века Россия не только покрывала все свои непрерывно возрастающие потребности в черных металлах, но и вывозила металл в большом количестве за границу, преимущественно в Англию. Только в 1750 году было вывезено за границу 1235869 пудов железа, а в 1765 году – даже 1975123 пуда.
На далеком Алтае возникали медеплавильные заводы: в 1739 году на реке Барнаулке, в 1744 году – на Шульбе. В начале царствования Елизаветы на Алтае было найдено золотистое серебро и возникли знаменитые Колывано-Воскресенские заводы. По указу Елизаветы в Петербурге была основана специальная лаборатория по выплавке серебра под руководством Ивана Андреевича Шлаттера, опытного пробирера, начавшего работать еще при Петре. В 1750 году по повелению Елизаветы из «первообретенного серебра», доставленного с Алтая, была отлита великолепная рака для гроба Александра Невского, весившая более 76 пудов. Работа эта была сопряжена с большими техническими трудностями, и ей придавали серьезное значение, как демонстрации опытности и искусства русских металлургов, литейщиков и чеканщиков.
В мае 1745 года русский рудознатец Ерофей Марков нашел на Урале первые крупинки золота. Весть об этом скоро долетела до Петербурга. И Ломоносов в своей знаменитой оде 1747 года живо откликается на это событие. Он возвещает, что с помощью науки (олицетворяемой богиней Минервой) Урал (Рифейские горы) раскроет, наконец, свои недра на благо русского народа:
И се Минерва ударяет
В верьхи Рифейски копием,
Сребро и злато истекают
Во всем наследии твоем.
Плутон в расселинах мятется,
Что Россам в руки предается
Драгой его металл из гор,
Которой там натура скрыла.
Вряд ли кто еще в XVIII веке, кроме разве Петра I, так отчетливо сознавал роль металлургии в развитии страны, как Ломоносов. «Военное дело, купечество, мореплавание и другие государственные нужные учреждения неотменно требуют металлов, которые до просвещения, от трудов Петровых просиявшего, почти все получаемы были от окрестных народов, так что и военное оружие иногда у самих неприятелей нужда заставляла перекупать через другие руки, дорогою ценою», – писал он в посвящении к своей книге «Первые основания металлургии, или рудных дел», выпущенной им в 1763 году.
Чтобы содействовать развитию отечественной металлургии, Ломоносов в сентябре и октябре 1761 года в академических заседаниях выдвигает и отстаивает предложение, чтобы в качестве очередной задачи на премию от Академии на 1763 год была объявлена тема по плавильному искусству. Предложение Ломоносова в конце концов было принято и в качестве такой задачи объявлено: «Нет ли способов отделять всякой металл от своей руды, которым бы не только скорее обыкновенного, но с меньшим иждивением то учинить можно было так, чтобы в плавильном деле употребляемых толь много разных вещей не придавать».
В «Слове о пользе Химии» Ломоносов призывает русских людей приложить все усилия к поискам и разведкам металлов в нашей стране для скорейшего развития отечественной промышленности: «Рачения и трудов для сыскания металлов требует пространная и изобильная Россия. Мне кажется, я слышу, что она к сынам своим вещает: Простирайте надежду и руки ваши в мое недро, и не мыслите, что искание ваше будет тщетно. Воздают нивы мои многократно труды земледельцев, и тучные поля мои размножают стада ваши, и лесы и воды мои наполнены животными для пищи вашей; все сие не токмо довольствует мои пределы, но и во внешние страны избыток их проливается; того ради можете ли помыслить, чтобы горы мои драгими сокровищами поту лица вашего не наградили?.. От сих трудов ваших ожидаю приращение купечества и художеств; ожидаю вящего градов украшения и укрепления, и умножения войска; ожидаю и желаю видеть пространные моря мои покрыты многочисленным и страшным неприятелю флотом, и славу и силу моея державы распростереть за великую пучину в неведомые народы. Спокойна буди о сем, благословенная страна, спокойна буди, дражайшее Отечество наше».
Ломоносов твердо убежден, что русский народ, невзирая на все исторические невзгоды и препятствия, придет к лучшему будущему. Но он не только видит, – почти осязает это великое будущее. Он всеми силами стремится его приблизить.
Он страстно опровергает распространенные в его время суждения, что Россия бедна теми или иными ископаемыми, не может ими обладать в силу особенностей своего географического положения, климата и пр. Ломоносов твердо убежден, что в необъятной России можно найти решительно все виды ископаемых.
«Не должно сомневаться о довольстве всяких минералов в Российских областях; но только употреблять доброе прилежание с требуемым знанием», – говорит он в приложенном к этой книге сочинении «О слоях земных».
Если даже климатические условия играют известную роль в происхождении минералов, что допускает Ломоносов, то и это не может служить доказательством, что они должны отсутствовать в России. Ломоносов призывает в свидетели историю Земли: «Сие рассуждая и представляя себе то время, когда слоны и южных земель травы в севере важивались, не можем сомневаться, что могли произойти алмазы, яхонты и другие дорогие камни, и могут отыскаться, как недавно серебро и золото, коего предки наши не знали».
Разбивая злостное предубеждение о скудости «недр российских», Ломоносов ссылается на многочисленные «домашние примеры», указывает, как много различных местностей нашей страны уже славится своими природными богатствами: «Косогоры и подолы гор Рифейских, простирающиеся по области Соли Камской, Уфимской, Оренбургской и Екатеринбургской между сплетенными вершинами рек Тобола, Исети, Чусовой, Белой, Яика и других, в местах озеристых, толь довольно показали простых металлов, и притом серебро и золото, что многие заводчики знатно обогатились…»
Ломоносов знает, что это только начало. Необходимо еще разведать великое множество местностей нашей необъятной родины, где, несомненно, таятся еще большие богатства. Ломоносов обращается ко всем русским патриотам, в особенности к молодежи, с горячим призывом изучать наше отечество, говорит об увлекательном исследовании земных недр: «Пойдем ныне по своему Отечеству; станем осматривать положение мест, и разделим к произведению руд способные от неспособных; потом на способных местах поглядим примет надежных, показывающих самые места рудные. Станем искать металлов, золота, серебра и протчих; станем добираться отменных камней, мраморов, аспидов и даже до изумрудов, яхонтов и алмазов. Дорога будет не скучна, в которой хотя и не везде сокровища нас встречать станут; однако везде видим минералы, в обществе потребные, которых промыслы могут принести не последнюю прибыль».
Ломоносов указывает, что поиски этих скрытых в недрах земли сокровищ должны опираться на научные знания. В «Слове о пользе Химии» он говорит: «Дорогие металлы, смешавшись с простою землею, или соединяясь с презренным камнем, от очей наших убегают; напротив того, простые, и притом в малом и бесприбыточном количестве, часто золоту подобно сияют, и разностию приятных цветов к приобретению великого богатства неискусных прельщают. И хотя иногда незнающему дорогой металл в горе ненарочно сыскать и узнать случится; однако мало ему в том пользы, когда от смешанной с ним многой негодной материи отделить не умеет, или отделяя, большую часть неискусством тратит». Чтобы поиски не шли впустую, необходимо вооружить разведку полезных ископаемых самыми совершенными научными средствами. «В сем случае, – замечает Ломоносов, – коль проницательно и коль хорошо знать химию».
Ломоносов высказывает сожаление, что люди в практической своей деятельности редко думают о нуждах науки, следствие чего раскрытые при различных работах «земные недра» остаются «без любопытного и знающего смотрителя». «Много ли натуральная история приобрела от великих рвов и каналов, не токмо окружающих города, но и разделенные моря соединяющих?» – спрашивает Ломоносов. Интересно, что он при этом отмечает, что «у меньших дел больше случалось охотников до знания натуры, хотя и весьма редко сообщающих свои знания ученому свету, нежели у великих», – то есть прямо указывает на любознательность простого народа, который в своих мелких практических делах накапливал наблюдения над природой, и равнодушие к нуждам науки людей, находящихся «у великих дел».
Желание разбудить народную любознательность, воспитать энтузиастов горной науки привело Ломоносова к созданию замечательного проекта, с которым он вошел в 1761 году в сенат. Ломоносов начинает с утверждения, что для него нет никакого сомнения, чтобы в пространном Российском государстве «не было по разным местам еще неизвестных руд, дорогих металлов и камней».
Ломоносов сообщает сенату, что нашел «легкий и краткий способ» собрать в два-три года со всего государства обширную коллекцию минералов, необходимую для составления «минеральной натуральной истории». «К сему имеем в отечестве сильных и многочисленных рудокопателей. Из рудокопателей каждый сильнее тысячи саксонцев, рудоискателей во всякой деревне довольно. Все не требуют никакого воздаяняя, ни малейшего принуждения, но натуральным движением и охотою все исполняют и только от нас некоторого внимания требуют». «Сильных рудокопов разумею многочисленные реки, а рудоискателей называю детей малых», – поясняет он. Реки, размывая недра земли, обнажают поверхность, и всякую весну быстрина вод рассыпает по равнинам образцы пород. И вот «малые, а особливо крестьянские дети весеннею и осеннею порою играя по берегам реки собирают разные камешки и цветом их увеселяясь в кучи собирают».
Ломоносов, несомненно, вспомнил при этом и свое детство на берегах Северной Двины, свой интерес к речным и морским берегам, открывающим «слои земные». Ломоносов полагает, что эту природную любознательность можно направить на пользу дела. Он просит сенат распорядиться, чтобы повсеместно начали собирать образцы камней, песков, глин, образцы пород, особенно по течению рек, не утруждая этим взрослых и не отрывая их от тяжелых крестьянских работ, а «посылая малых ребят искать по берегам». Собранные камни должны сортировать на месте толковые и несколько получившиеся люди. «Какие ж минералы собирать и по каким приметам, о том рассылать печатные инструкции».
Сохранился набросок составленной Ломоносовым инструкции по собиранию минералов, написанной необычайно ясным и вразумительным языком. Ломоносов подробно, доступно и точно поясняет, как и что надо собирать. «Просто лежащие камни брать, а из каменных гор по куску отбивать, и ежели где гора состоит из разноцветных слоев, то отбивать от всякого слоя по куску особливо». «В камнях должно прилежно смотреть 1. Цвету, хороших, белых, глухих или сквозных, стеклу подобных, совсем черных или с белыми искрами, пятнами, стружками, или белых с черными. И всяких пестрых и одноцветных, красных, желтых, зеленых, синих, вишневых, светлых как золото, медь, серебро или олово. 2. Различать по разной твердости, крепкие как кремень, сыпкие и ломкие. 3. Различать по фигурам: угловатые, слоистые, ноздреватые, похожие на раковины, на рыбы, на кости, на животных и т. д.».
Ломоносов мечтает о том, чтобы простые русские люди могли принимать участие в служении науке, чтобы они прониклись доверием и уважением к ней. Ломоносов хотел приохотить все население, в особенности молодежь, к изучению своего края, распространить в народе интерес к научным знаниям. Он верит в сметку и пытливость русских детей, детей крестьянских, в которых он хочет пробудить бесчисленных Ломоносовых. Предложение Ломоносова выходило за рамки его времени. Он как бы прозревал геологические и краеведческие походы современной молодежи, детские опытные станции и лаборатории, работу юных натуралистов и геологов, вносящих посильный вклад в дело изучения страны.
Сенат препроводил проект Ломоносова в Академию наук, где его на профессорском собрании подвергли придирчивой критике.
Дело с продвижением проекта заглохло.
20 декабря 1763 года Ломоносов выпускает печатное «Известие о сочиняемой Российской Минералогии», в которой четко намечает поставленную им задачу: «для общего знания и приращения рудных дел во всей Российской империи сочинить описание руд и других минералов, находящихся на всех Российских заводах; из чего б составить общую систему Минералогии Российской, и показать по физическим и химическим основаниям в предводительство правила и приметы рудным местам для прииску, много точнее, нежели по ныне известны». «Известие» Ломоносов предназначал для «содержателей разных заводов», которых он просит присылать образцы руд.
Обращение Ломоносова на этот раз привлекло к себе внимание. Даже недоброжелательная берг-контора затребовала двести экземпляров ломоносовского обращения и разослала их по заводам. Уже в январе 1764 года на олонецкие заводы был отправлен нарочный за приготовленными там образцами руд. Страна откликнулась на призыв Ломоносова. Руды присылались с заводов с подробными и тщательно составленными «росписаниями» и «реестрами», живо свидетельствующими, что дело шло не только о том, чтобы сбыть с рук казенное предписание. Русские горняки поняли замысел Ломоносова. Многие, кроме образцов руд, стали посылать свои соображения и замечания, представлявшие собой целые научные труды. В берг-коллегию поступило подробное описание «находящихся в Даурии [Забайкалье] рудных мест и о протчем».
Замысел Ломоносова не прошел бесследно. Уже в начале XIX века академик В. М. Севергин издал минералогический словарь и минералогическое описание России, отвечающее плану Ломоносова. Но полное осуществление идей Ломоносова началось лишь в наше время с выпуском Академией наук СССР многотомных капитальных изданий – «Минералогия СССР» и «Минералогия Урала».
Смерть помешала Ломоносову осуществить его замысел. Однако он успел вооружить русскую горную промышленность замечательным научным и практическим руководством, сыгравшим очень большую роль в улучшении поисков ископаемых, обработки руд и выплавки металлов в нашей стране, в особенности на Урале. Не дожидаясь выпуска «Минералогии», Ломоносов в октябре 1763 года заканчивает печатанием свою книгу «Первые основания металлургии, или рудных дел», явившуюся подлинной энциклопедией горного дела.
Сама книга была составлена Ломоносовым еще в 1742 году, вскоре после возвращения его из-за границы. Ломоносов сразу же собирался приложить к делу собранные им знания. Он проявил в своей книге большую независимость и оригинальность суждений, которые сохранили свою свежесть и значение не только через двадцать лет, когда она вышла в свет, но и значительно позднее. Но в ней остались и некоторые устарелые сведения (например, о серной кислоте, об оловянных рудах и пр.). Ломоносов был вынужден спешить с изданием «Металлургии». Он даже не успел внести в нее указание на замерзаемость ртути, что было открыто в конце 1759 года в Петербурге. Ломоносов сам принимал участие в опытах над замораживанием ртути, однако в книге сохранилось прежнее утверждение, что она «и в самый жестокий мороз застынуть не может». Ломоносов успел только вставить примечание: «Сие писано в 1742 году, после иначе оказалось».
Ломоносов откладывал пересмотр всего материала, рассчитывая сделать это при составлении «Минералогии», а пока ограничился изданием практического руководства, в котором была настоятельная нужда.
Это была первая подробная книга на русском языке, посвященная горному делу, большой том в 428 страниц, с семью таблицами, гравированными на меди. Книга Ломоносова была разослана в значительном числе экземпляров на горные заводы и стала приносить ту практическую пользу, о которой и помышлял Ломоносов.
Ломоносов сообщал в своей книге подробные сведения о металлах и минералах, о рудных местах и приисках, описывал устройство и расположение шахт и других подземных выработок.
Большое внимание Ломоносов уделял геологической разведке. Он приводит большое число «признаков», практически полезных при поисках ископаемых. Многие из них и посейчас являются руководящими в горной разведке. Так, например, он советует примечать, «ежели ручьи и рудники, из гор протекающие, какой нибудь распущенный минерал в себе имеют, что можно скоро по вкусу признать, а особливо ежели в их воду положенное железо скоро ржавеет» (что теперь называют минерализацией вод).
Он указывает на необходимость наблюдать окраску вод, цвет земли, характер растительности. «На горах, в которых руды или другие минералы родятся, растущие дерева бывают обыкновенно нездоровы, то есть листы их бледны, а сами низки, кривлеваты, сувороваты, суковаты, гнилы и прежде совершенной своей старости подсыхают» и т. д.
Но, говоря о таких признаках, которые имеют научное основание, Ломоносов и слышать не хочет о широко практиковавшихся на Западе колдовских и суеверных «способах» нахождения руд с помощью «рудоискательной вилки», сделанной из орешника. Вооружившись такой «вилкой», срезанной при соблюдении множества суеверных приемов (стоя спиной, с одного разу и т. д.), считаясь с положением светил в сочельник, Вальпургиеву ночь, «мастер» движется, как лунатик, пользуясь малейшим колебанием прута, зажатого в его руках. Таким «магнетическим» путем пытались открыть не только рудные месторождения или подземную воду, но и такие вещи, как супружеские измены. А в 1692 году, утверждали защитники жезла, французский крестьянин Жак Эмар из Лиона с подобной «вилкой» преследовал одного убийцу «сорок лье на земле и тридцать на море». Поклонники «вилки» сохранились до нашего времени в буржуазной Европе, где существуют на этот предмет особые общества и издаются специальные журналы. Во времена Ломоносова почти каждый крупный рудник на Западе имел своего штатного «волшебника». Эту «вилку» занесли в русскую горную разведку западноевропейские горные мастера, приглашенные на Урал и принесшие с собой не столько передовую технику, сколько ремесленную узость, отсутствие научного кругозора и тяжелый груз средневековых пережитков. Вот что писал Ломоносов об этой пресловутой «вилке»: «Немало людей сие за волшебство признают, и тех, что при искании жил вилки употребляют, чернокнижниками называют. По моему рассуждению, лучше на такие забобоны, или, как прямо сказать, притворство не смотреть, но вышепоказанных признаков держаться, и ежели где один или многие окажутся, тут искать прилежно».
В специальной части, посвященной теории и практике металлургии, Ломоносов стремится научно разработать технологию получения металла, подчеркивает роль химии и физики, указывает на необходимость лабораторного изучения металлургических проблем.
Свое изложение Ломоносов сопровождает множеством советов, касающихся наиболее целесообразной и экономически выгодной организации производства.
Он уделяет большое внимание условиям труда горняков, предлагает надевать рабочим на ноги «кожаные и берестяные штиблеты, чтобы иверни, которые от руд отпрядывают, ног и бердцов не повредили», не забывает при описании плавильных печей указать, чтобы их ставить не ближе шести футов одна от другой, «чтобы плавильщиков жаром от работы не отбивало».
В приложении к книге Ломоносов помещает свое сочинение «О слоях земных», как бы подчеркивая этим, что его общие геологические и минералогические воззрения неотделимы от горной практики. Он хотел расширить кругозор русских специалистов горного дела, привить им вкус к теоретическим размышлениям и непосредственным наблюдением над природой, научить их читать историю Земли по открывающимся перед ними ее следам: «Трещины, переломы, отрывки, отвалины, щебень, все показывают и почти говорят: вот каковы земные недра; вот слои, вот прожилки других минеральных материй, кои произвела в глубине натура. Пускай примечает их разное положение, цвет, тягость, пускай употребляет в размышлении совет от Математики, от Химии и общей Физики. Пускай погуляет по окрестным долинам и равнинам, увидит разметанные великие камни; и рассуждая их сложения представит, что они прежде глубоко в земле лежали, и что они внутренностей ее части. Пусть походит по берегам речным или морским, где отлогий песок, или крутые каменные утесы, где хрящ и подводные камни; увидит в крутизнах разные слои лежащих звен каменных с многоразличными отменами».
Эти наставления имели большое значение для воспитания будущих русских геологов и, несомненно, повлияли на большое число геологических наблюдений и исследований, появившихся во второй половине XVIII и начале XIX века в работах Ивана Лепехина, Рычкова, Соймонова, Озерецковского и многих других.
Достойным продолжателем дела Ломоносова был академик Василий Михайлович Севергин. Севергин был откровенно враждебен мистическому подходу к естествознанию современных ему натурфилософов-шеллингианцев и смело продолжал ломоносовские материалистические традиции в геологии, получившие дальнейшее развитие в трудах Н. И. Кокшарова, П. В. Еремеева, А. П. Карпинского, Е. С. Федорова, В. И. Вернадского, А. П. Павлова, И. М. Губкина, А. Е. Ферсмана, А. Д. Архангельского и других выдающихся ученых.