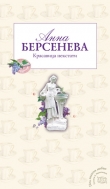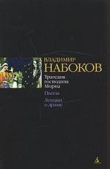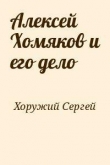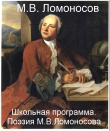Текст книги "Ломоносов"
Автор книги: Александр Морозов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц)
Необыкновенное сочетание поэтического и научного мышления позволяло Ломоносову глубоко проникать в тайны природы. В своем «Утреннем размышлении» Ломоносов «увидел» и сумел описать бурную природу Солнца так, как будто он стоял на уровне астрономии, по крайней мере, второй половины XIX века и мог пользоваться новейшими телескопами и приборами для спектрального анализа:
Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к Солнцу бренно наше око
Могло приближившись воззреть:
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно Океан.
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множества веков;
Так камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят…
Лишь недавно стало известно, что в недрах светоносной оболочки Солнца возникают смерчеобразные вихри, которые, подымаясь в хромосферу и охлаждаясь, образуют солнечные пятна, и т. д.
История науки и научных завоеваний является для Ломоносова бесценным источником поэтического размышления и вдохновения. Его гениальное «Письмо о пользе Стекла» не только славословит науку и техническую мысль как двигателей прогресса, но и на примере исторической судьбы учения Коперника развертывает яркую картину борьбы за передовое научное мировоззрение. «Письмо» Ломоносова было прямым вызовом феодальному мировоззрению, пропитанному средневековыми религиозными представлениями.
«Письмо о пользе Стекла» и «Размышления» Ломоносова принадлежат к числу наиболее замечательных произведений научно-философской поэзии не только русской, но и мировой литературы. Рядом с ними приходит на память только философская поэма Лукреция Кара «О природе вещей».
Свое понимание задач поэзии Ломоносов выразил в цикле стихотворений «Разговор с Анакреоном», который был им составлен не по заказу свыше, а для себя, как выражение своей собственной идейной программы, и даже был напечатан только через шесть лет после его смерти. Древним греческим поэтом Анакреонтом (Анакреоном), певцом вина, веселья и любовных утех, Ломоносов интересовался давно. В студенческие годы он приобретает томик стихов, приписываемых Анакреону [69]69
На самом деле это было творчество более поздних греческих поэтов, писавших в манере Анакреона.
[Закрыть], и упражняется в переводах из него. Анакреон отвечает его живому и веселому нраву, юношеской потребности в любви и веселье. Но вместе с тем это увлечение отражало и общий интерес Ломоносова к античной культуре, зародившийся в нем еще в Москве. Постепенно у Ломоносова накопилось несколько переводов из Анакреона, в том числе изумительное по легкости и грациозности стихотворение «Ночною темнотою», включенное им в «Риторику» (1748) в качестве примера «басни».
Ломоносов прекрасно понимал, что Анакреон был не просто сочинителем веселых любовных песен, а представителем законченной философии жизни ради наслаждения. Эта упрощенно-эпикурейская, или, как ее еще называют, гедонистическая, философия, охотно усваиваемая господствующими и вырождающимися классами, в целом была враждебна и неприемлема для Ломоносова, хотя он никогда не отвергал земных радостей и не проповедовал аскетизма.
Но Ломоносов отвергал проповедь гедонизма в литературе и искусстве и требовал от поэта прежде всего общественного служения. Ломоносов считал себя обязанным разбить житейские правила и мораль людей, руководствующихся в жизни собственными прихотями и удовольствиями и ищущими оправдания своего поведения в философии и поэзии. Он последовательно отвечает на переведенные им четыре оды Анакреона. Так возникает «Разговор с Анакреоном», который объявляет, что и он был не прочь сложить песню о славных подвигах древних героев, о которых певал еще Гомер:
Мне петь было о Трое,
О Кадме мне бы петь,
Да гусли мне в покое
Любовь велят звенеть…
Анакреон даже переменил свои гусли со струнами на новые, но и это не помогло:
…гусли поневоле
Любовь мне петь велят,
О вас, герои, боле,
Прощайте, не хотят…
Совсем не так думает Ломоносов. Он видит призвание и назначение поэта в том, чтобы служить родине поэтическим словом, возвеличивать ее героев, воспевать ее настоящее и будущее величие.
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.
Отвечая Анакреону, Ломоносов находит в самой античной традиции людей противоположного мировоззрения. Он вспоминает римского философа – стоика Сенеку, проповедника моральной строгости, и сурового республиканца Катона, являвшегося для него примером гражданской доблести и патриотизма. Анакреон окружен роем шаловливых девушек, которые дали ему в руки зеркало, чтобы он убедился в своей старости. Но Анакреона это не особенно печалит. Он уверяет, что
…должен старичок
Тем больше веселиться,
Чем ближе видит рок!
Ломоносов призывает в свидетели спора Катона, который с мрачным презрением издевается над старческой игривостью беспечного поэта:
Какую вижу я седую обезьяну?
Не злость ли адская, такой оставя шум,
От ревности на смех склонить мой хочет ум?
Однако я за Рим, за вольность твердо стану,
Мечтаниями я такими не смущусь,
И сим от Кесаря кинжалом свобожусь.
Изнеженным старцам, которые спешат вкусить наслаждение на краю могилы, Ломоносов противопоставляет «упрямку славную» людей общественного долга, убежденных в своей правоте и не идущих на сделки со своей совестью: Анакреону, который, по преданию, умер, подавившись виноградиной, – гражданскую доблесть Катона, покончившего с собой, когда республиканский Рим пал к ногам Цезаря:
Ты жизнь употреблял как временну утеху,
Он жизнь пренебрегал к республики успеху;
Зерном твой отнял дух приятной виноград,
Ножем он сам себе был смертный супостат;
Беззлобна роскошь в том была тебе причина,
Упрямка славная была ему судьбина.
Ломоносов не разделяет целиком мнение угрюмого Катона. «Его угрюмством в Рим не возвращен покой», – говорит он почти неожиданно о Катоне, как бы указывая на бесплодность его подвига. Ломоносов, несомненно, понял историческую ограниченность как беспечного Анакреона, так и угрюмого Катона:
Несходства чудны вдруг и сходства понял я:
Умнее кто из вас, другой будь в том судья…
Анакреон ближе жизнерадостному мироощущению Ломоносова, чем мрачная отчужденность последнего представителя патрицианского Рима. Ломоносов хочет соединить высокое чувство долга, верность своим идеям и служение отечеству с полной радостей и чувственного наслаждения земной быстротечной жизнью. Но, не отказываясь от житейских радостей, надо прежде всего помышлять об общественном благе.
«Разговор с Анакреоном» заканчивается двумя стихотворениями. В первом Анакреон обращается к прославленному в Родской стороне живописцу (Апеллесу) и просит его написать портрет его милой, причем подробно и с упоением перечисляет ее прелести. Во втором Ломоносов тоже обращается к живописцу, «дабы потщился написать мою возлюбленную мать»:
О мастер в живопистве первой,
Ты первой в нашей стороне…
Изобрази Россию мне.
Изобрази ей возраст зрелой
И вид в довольствии веселой,
Отрады ясность по челу,
И вознесенную главу.
В «Разговоре с Анакреоном» Ломоносов изложил те моральные принципы, которыми он руководствовался в течение своей жизни. И, разумеется, не случайно, что в близком по времени письме к типичному царедворцу, лишенному каких бы то ни было моральных устоев, Григорию Теплову, Ломоносов вспоминает свое собственное «терпение и благородную упрямку и смелость к преодолению всех препятствий», что дает ему силы бороться за свое дело до последнего дыхания.
«Разговор с Анакреоном» приоткрывает завесу, скрывавшую общественно-политические и литературные взгляды Ломоносова, которые он не имел возможности высказать в своих официальных хвалебных одах. Уже одно то обстоятельство, что Ломоносов затеял общественно-философский спор с Анакреоном, свидетельствует, как он был чужд придворному пониманию литературы.
«Анакреонтика» с ее культом мимолетных радостей, сознательным забвением прошлого и презрением к будущему прочно вошла в эстетический и житейский обиход европейской аристократии накануне буржуазной французской революции.
Эта философия жизни и отвергалась демократом Ломоносовым, силой обстоятельств поставленным в непосредственную близость к придворному быту, ничуть не уступавшему по своей роскоши и нравам самому Версалю. В «Разговоре с Анакреоном» Ломоносов отчетливо проявил свои политические и общественные симпатии. Он сталкивает лицом к лицу два миросозерцания – упадочно-гедонистическое, аристократическое и национально-патриотическое, отвечающее интересам широких демократических слоев.
Ломоносов стремился к созданию серьезной и глубокой по своему содержанию поэзии, которая бы отражала и осмысливала историческое развитие России. Поэзия должна будить патриотические чувства, призывать к труду и подвигам во имя отечества, прославлять и утверждать все то, что нужно для его блага.
Всем своим обликом Ломоносов противостоял придворному быту, хотя по своему положению и был обязан его обслуживать. Ломоносов весь был поглощен напряженным и творческим трудом, был совершенно чужд щегольства и стремления к роскоши. В своей домашней жизни он был скромен и неприхотлив, окружал себя суровой простотой, любил во всем порядок и был требователен к людям. Якоб Штелин, составляя в год кончины Ломоносова конспект похвального слова ему, отметил такие черты: «Образ жизни, общий плебеям. Умственный: исполнен страсти к науке; стремление к открытиям. Нравственный: мужиковат с низшими и в семействе суров».
«С ним шутить было накладно, – замечает Пушкин, собиравший материалы для биографии Ломоносова. – Он везде был тот же: дома, где все его трепетали; во дворце, где он дирал за уши пажей; в Академии, где, по свидетельству Шлецера, не смели при нем пикнуть… В отношении к самому себе он был очень беспечен, и, кажется, жена его, хоть была и немка, но мало смыслила в хозяйстве». И Пушкин приводит такой эпизод, характеризующий как быт Ломоносова, так и отношение к нему окружавшего его академического мирка: «Вдова старого профессора, услыша, что речь идет о Ломоносове, спросила: «О каком Ломоносове говорите вы? не о Михаиле ли Васильевиче? То-то был пустой человек! Бывало, от него всегда бегали к нам за кофейником. Вот Тредиаковский Василий Кирилович – вот это был конечно почтенный и порядочный человек».
***
Шум елизаветинских балов проникал в строгие стены Академии. Время от времени и туда присылали приглашения на придворные маскарады. Приглашенные должны были явиться «в доминах и баутах». Костюм разрешался, какой кто пожелает, только «чтоб в перегримском, гарлекинском и деревенском платьях не было». Обычно, получив такое приглашение, академики в изысканных выражениях отказывались. Только Ломоносов твердо писал на общем листе: «Быть намерен и с женою». Но делал он это не ради желания появиться при дворе, а в пику своим ученым коллегам. Есть все основания полагать, что Ломоносов на большинстве этих балов и не бывал вовсе. Ломоносов сам себя называет домоседом. В письме к И. И. Шувалову от 19 января 1761 года Ломоносов признается: «По разным наукам у меня столько дела, что я отказался от всех компаний; жена и дочь моя привыкли сидеть дома и не желают с комедиянтами обхождения. Я пустой болтни и самохвальства не люблю слышать».
Упоминание о «комедиянте» относится к А. П. Сумарокову (1718–1777), с которым у Ломоносова была острая вражда.
Обидчивый и болезненно самолюбивый Сумароков считал себя создателем новой русской поэзии и даже в официальном обращении в сенат писал о себе: «что я России сделал честь моими сочинениями, в том я всех ученейших людей во всей Европе свидетелей имею».
Сумароков был значительным и серьезным деятелем русской дворянской культуры. Он много сделал для развития и укрепления русского театра. Но мир его был тесно ограничен литературными интересами. Сумароков не понимал ни широты, ни размаха Ломоносова. Отстаивая чистоту, точность и ясность в поэтическом языке и подготовляя этим до известной степени литературу пушкинского периода, Сумароков не мог ни понять, ни оценить пышный одический стиль Ломоносова, полный смелых метафор и уподоблений. Ломоносовская ода не имела подобий на Западе. Она не укладывалась в тесные рамки литературного классицизма, с меркой которого Сумароков подходил к ломоносовским одам.
Все теоретические рассуждения и поэтическая практика Сумарокова были направлены против «великолепия» и патетического блеска Ломоносова. «Никак невозможно, – утверждал Сумароков в своей статье «К несмысленным рифмотворцам», – чтобы была Ода и великолепна и ясна; по моему мнению, пропади такое великолепие, в котором нет ясности». Он осуждал все излишества в стихотворстве и требовал простоты и логической упорядоченности поэтического языка. Но эта «прекрасная простота» Сумарокова искусственна. Сумароков требует «естественной простоты, искусством очищенной». «Ум здравый завсегда гнушается мечты», – вырывается у него характерное признание. Сумароков осуждает не только «витийство», но и всякое бурное проявление чувств, неистовство мысли и воображения. Он подвергает каждую строчку Ломоносова придирчивой критике, не желающей считаться ни с поэтическим значением слова, ни с его эмоциональной выразительностью.
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда.
«Градов ограда, сказать не можно. Можно молвить селения ограда, а не ограда града; град от того и имя свое имеет, что он огражден. Я не знаю сверх того, что за ограда града тишина. Я думаю, что ограда града войско и оружие, а не тишина».
Летит корма меж водных недр….
«Летит меж водных недр не одна корма, но весь корабль».
Выходец из среды русского поместного дворянства, Сумароков не всегда ладил со своим классом. Женившись на своей крепостной и оставив ради нее прежнюю семью, он восстановил против себя тех, кого он сам называл «знатной чернью». Однако, выступая против злоупотреблений крепостного права и требуя от дворянства «благородного» образа мыслей, Сумароков оставался убежденным сторонником крепостного строя и отсталого помещичьего хозяйства. Если Ломоносов ратовал за скорейшее развитие промышленности, то Сумароков доказывал, что Россия должна оставаться страной земледельческой и дворянству незачем втягиваться в мануфактуры. «В моде нынче суконные заводы, но полезны ли они земледелию?» – спрашивает Сумароков в одной из своих статей и отвечает: «Не только суконные дворянские заводы, но и самые Лионские шелковые ткани, по мнению отличных рассмотрителей Франции, меньше земледелия обогащения приносят. А Россия паче всего на земледелие уповати должна, имея пространные поля, а по пространству земли не весьма довольно поселян, хотя в некоторых местах и со излишеством многонародна. Тамо полезны заводы, где мало земли и много крестьян».
Сумарокову была чужда техническая и лабораторная работа Ломоносова, непонятны его научные устремления. Вражда Сумарокова и Ломоносова, принимавшая подчас остро личный характер, разжигалась тогдашним столичным дворянством, искавшим в их столкновениях источник развлечений.
Русское дворянство и придворная знать постоянно чувствовали в нем неукрощенного плебея и не могли простить ему ни его происхождения, ни его умственного превосходства, ни тем более гордого и независимого поведения. Ломоносова то и дело попрекали его «породою». По городу ходили анонимные стишки, грозившие ему и издевавшиеся над ним:
Ты преподло был рожден,
Хоть чинами и почтен…
Всех когда лишат чинов,
Будешь пьяный рыболов…
Но Ломоносов хорошо умел отвечать на дворянское высокомерие. В начале 1760 года барон А. С. Строганов вздумал устроить у себя в доме нечто вроде литературного салона. При вступлении в салон было принято произносить речи. Проповедник – церкви французского посольства аббат Лефевр прочитал «Речь о постепенном развитии изящных наук в России». С льстивой снисходительностью он толковал на французском языке о русской поэзии, которую знал лишь понаслышке. Но он хорошо уловил мнение, которое уже сложилось в придворных кругах о поэтической деятельности и значении Ломоносова и Сумарокова. Лефевр называет Ломоносова питомцем музы Урании (астрономии) и говорит, что его «мужественная душа… с трудом снисходит к наивной любви, к изображению наслаждений, грациозного и невинного». В лице же Сумарокова, по словам Лефевра, изящные искусства России «имеют автора Гофолии» (то есть Расина), который «первый заставил Мельпомену говорить на вашем языке». Желая все же увенчать обоих поэтов, Лефевр в заключение. называет их «гениями творцами».
Речь так понравилась барону Строганову, что он решил напечатать ее за свой счет в Академии наук. Ломоносов, крайне недовольный этой речью, печатать ее «отсоветовал». Раздосадованный Строганов на одном из вечеров в доме Шувалова вступил с Ломоносовым в пререкания и забылся до того, что публично укорил его недворянским происхождением. Ломоносов вышел из себя и собирался вызвать Строганова на дуэль. Возвратившись домой, он написал И. И. Шувалову – полное достоинства письмо, в котором говорил: «Мое единственное желание состоит в том, чтобы привести в вожделенное течение Гимназию и Университет, откуда могут произойти бесчисленные Ломоносовы… По окончании сего только хочу искать способа и места, где бы чем реже, тем лучше видеть было персон высокородных, которые мне низкою моею породою попрекают, видя меня как бельмо на глазу, хотя я своей чести достиг не слепым счастьем, но данным мне от бога талантом, трудолюбием и терпением крайней бедности ради учения». Ломоносов опирался на горячих сторонников своих идей, выходцев из самых глубин русского народа, трудившихся в различных областях русской культуры. Ломоносов пробуждал и укреплял демократическое самосознание этих людей, у которых, так же как и у него самого, стояла на пути их «низкая порода». Ломоносов вполне отдавал себе отчет в социальном значении своего жизненного и культурного подвига и с полным правом мог применить к себе слова, которые он вкладывает в уста римского поэта Горация при переводе его «Памятника»:
Отечество мое молчать не будет,
Что мне беззнатный род препятством не был.
***
«Языка нашего небесна красота».
М. В. Ломоносов
Великой исторической заслугой Ломоносова было преобразование русского языка. Ломоносов первый стал научно изучать русский язык во всем его многообразии. Он изучал вопросы грамматики и стихосложения, разрабатывал основы риторики и стилистики и закладывал основы русской научной терминологии для самых различных наук, от химии и физики до горного дела и мореплавания. Петровские реформы внесли в русскую жизнь множество новых понятий и наводнили язык варваризмами (иноземными словами), которыми без разбору начиняли свою речь представители господствующих классов.
Тяжеловесный синтаксис, следующий иностранным формам речи, в котором плохо усвоенные, нескладные и неуклюжие иностранные слова причудливо сочетались с обветшалыми церковнославянскими речениями, пестрота и разнобой в правописании, отсутствие каких-либо твердых правил грамматики – все это становилось серьезной помехой для дальнейшего развития русской культуры и требовало решительного и неотложного упорядочения. На долю Ломоносова выпала поистине гигантская работа, сделавшая его подлинным создателем русского поэтического языка и языка русской науки.
Ломоносов оказал неоценимую услугу русской науке, заложив правильные основы для построения и развития научной и технической терминологии. Для этого ему пришлось преодолеть почти неисчислимые трудности и препятствия. «Принужден я был, – пишет Ломоносов в предисловии к своему переводу «Волфианской експериментальной физики», – искать слов для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они со временем чрез употребленное знакомее будут».
Главное требование, которое выдвигал при этом Ломоносов и которым он сам неуклонно руководствовался, было исходить из свойств и особенностей русского языка и прежде всего в нем самом искать необходимых средств для выражения новых понятий и терминов, создаваемых наукой. Ломоносов был убежден, что русский язык так богат и гибок, что в нем всегда можно найти нужные и точные слова для обозначения любых понятий и нам не для чего для этого обращаться к иностранцам. «Тончайшие философские воображения и рассуждения, – писал Ломоносов, – многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписать долженствуем. Кто от часу далее в нем углубляется… тот увидит безмерно широкое поле или, лучше сказать, едва пределы имеющее море».
Ломоносов с большим тактом и тонким ощущением русского языка умело находил среди самых простых и обыденных слов такие, которые оказались вполне пригодными для выражения научных понятий. Такие слова, как опыт, движение, наблюдение, явление, частицы, легко и свободно вошли с помощью Ломоносова в научный язык. Ломоносов закрепил русские обозначения для множества предметов и понятий и ввел их во всеобщее употребление: земная ось, преломление лучей, законы движения, равновесие тел, зажигательное стекло, магнитная стрелка, негашеная известь, кислота и т. д.
Он постоянно доказывал, что нам нет никакой нужды пользоваться непонятными народу иностранными словами, когда для этого уже существуют или легко можно создать ни в чем им не уступающие русские. И, например, вместо «антлия пневматическая» будет вполне уместно название «воздушный насос».
Ломоносов проявляет большую смелость, находчивость и неистощимую изобретательность. Некоторые предложенные им обозначения хотя и не привились или были вытеснены другими, все же свидетельствуют о напряженности его поисков, большом творческом процессе. «Отдичавший», «отонченный», «оредевший воздух», – ищет Ломоносов русское слово для того понятия, которое мы сейчас называем «разреженный воздух», «окружное течение крови» (циркуляция), «безвоздушное место» (вакуум), «густой свет» (интенсивный), «управительная сила магнита», «зыблющееся движение» (волновое), «коловратное движение» (вращательное), «завостроватая фигура» (конусообразная) и многое другое.
Еще меньше, разумеется, чем в научном языке, допускал Ломоносов злоупотребление иностранными словами в быту и литературе.
Ломоносов предупреждал, что без нужды перенимаемые иностранные слова представляют опасность для здорового развития национальной культуры, что они незаметно, как плевелы, засоряют русский язык, «вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют». Он настойчиво призывает заботиться о чистоте русского языка и давать отпор всем, кто вносит в него «оные непристойности».
Ломоносов не имел себе равного в знании русского языка. Уроженец севера, он впитал в себя меткий и точный язык своей родины, изобилующий добротными старинными словами и чрезвычайно склонный к свободному образованию новых, рожденных потребностью случая слов и понятий. Юношей он жил в Москве, исконной хранительнице прекрасного русского языка, где издавна ценилась бойкость и находчивость речи, веселая прибаутка и степенное веское слово. Он общался с монахами и школярами, купцами и мастеровыми, сановниками и вельможами, приказными и отставными солдатами, начетчиками-староверами и новомодными книжниками, – он знал родной язык во всей его пестроте и разнообразии и с законной гордостью мог противопоставить заносчивому иноземцу, «новичку в российском языке» Шлёцеру «некоего из наших природных, которой с малолетства спознал общей Российской и Славенской языки, а достигши совершенного возраста с прилежанием прочел почти все, древним Словено-Моравским языком сочиненные и в церкви употребительные книги. Сверх сего довольно знает все провинциальные диалекты здешней империи, также слова, употребляемые при Дворе, между духовенством и между простым народом, разумея притом польский и другие с Российскими сродные языки». Шлёцеру только и оставалось стыдливо пробормотать: «Да разве я говорил, что знаю новый русский язык не хуже Ломоносова? Речь была о Несторе, о его византийских выражениях…»
Ломоносов придавал огромное значение собиранию словарных материалов для исторического изучения русского языка. В составленной им в начале 1764 года «Росписи» своих трудов отдельными пунктами перечислены следующие работы: «Собрал Лексикон первообразных слов Российских», «Собрал лутчия Российский пословицы», «Собраны речи разных языков между собою сходные» и, наконец, составлено «Рассуждение о разделениях и сходствах языков». Работы эти, к сожалению, не сохранились.
Ломоносов первый глубоко оценил богатство, мощь, выразительность и красоту великого русского языка. Он постоянно указывал на его всемирно-историческое значение, подчеркивал, что по своему природному изобилию, красоте и силе русский язык ни единому европейскому языку не уступит, более того, превосходит в том или ином отношении каждый из них. В своем «Посвящении» и «Грамматике» Ломоносов настойчиво противопоставляет свое понимание исторического значения русского языка представителям российского дворянства, которые часто были склонны умалять или во всяком случае недооценивать его значение: «Повелитель многих языков, язык Российский не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему трудов прилагали… Карл Пятый, римский император, говаривал, что Ишпанским языком с богом, Французским с друзьями, Немецким с неприятелями, Итальянским с женским полом говорить прилично. Но есть ли бы он Российскому языку был искусен, то конечно к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие Ишпанского, живость Французского, крепость Немецкого, нежность Итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость Греческого и Латинского языка».
Ломоносов не только с законной национальной гордостью славит свой родной язык, он вполне научно обосновывает и доказывает его преимущества, исходя из особенностей его исторического развития. Он первый обращает внимание на единство русского национального языка и отсутствие в нем диалектологической пестроты, которая могла бы привести к взаимному непониманию, чему Ломоносов справедливо придает серьезное государственное и культурное значение: «Народ Российский по великому пространству обитающий, не взирая на дальное расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и селах. Напротив того в некоторых других государствах, например в Германии Баварской крестьянин мало разумеет Мекленбургского или Бранденбургской Швабского, хотя все того ж Немецкого народа».
При этом Ломоносов указывает не только на территориальное единство русского национального языка, но и на его историческую устойчивость, ибо «Российский язык от владения Владимирова до нынешнего веку, больше семисот лет, не столько отменился, чтобы старого разуметь не можно было. Не так как многие народы не учась не разумеют языка, которым предки их за четыреста лет писали, ради его великой перемены, случившейся через то время».
Это историческое преимущество, о котором говорит Ломоносов, в значительной мере создано общностью языка нашей древней письменности и простонародного. Церковнославянский язык был доступен не только немногочисленным грамотеям, но и всем, кто слышал его в церкви и дома. Эта близость языков порождала тесное взаимодействие между ними, чего были лишены народы, пользовавшиеся на протяжении многих веков чуждой и далекой им латынью. Наличие в церковнославянском языке родственных и близких по смыслу слов позволяло пользоваться ими в русском языке для передачи особых оттенков речи или создания особого (повышенного) эмоционального тона, что в большой степени обусловило стилистическое богатство и разнообразие русского литературного языка.
Присматриваясь к составу русского живого и книжного языка, Ломоносов прежде всего установил, что множество церковнославянских слов навсегда вошло в русский язык, вытеснив старорусские или став рядом с ними, например, «надежда» (при народном «надёжа»), враг (народное «ворог»), сладкий и др. Ломоносов считал такие слова общими для обоих «наречий» и называл «славенороссийскими». Затем шли слова, более редкие в живой речи и встречающиеся чаще всего в книге, однако такие, что «всем грамотным людям вразумительны», например «отверзаю», «насажденный», «взываю» и т. д. Затем шли слова обветшалые, малоупотребительные, не привившиеся в русском языке, насильственно вводимые книжниками в письменную речь. А затем шли слова чисто русские, которых нет в «церковных книгах» и древних памятниках, но которые вошли в литературную речь, и, наконец, грубые и «низкие» слова и выражения, которых тогда было принято избегать в письменной речи.
Ломоносов пытается установить пропорцию и соотношение этих элементов речи в различных родах литературы, подобно тому как химик стремится определить пропорцию и количество составных частей какого-либо вещества. На таком понимании и основано знаменитое учение Ломоносова «о трех штилях», изложенное им в статье «О пользе книг церьковных в Российском языке», которую он приложил к собранию своих сочинений в 1757 году. В зависимости от того, в какой степени указанные элементы присутствуют в литературной речи, Ломоносов устанавливает наличие трех главных «штилей» – «высокого», «посредственного» и «низкого». Он указывает на практическую необходимость или пригодность каждого из этих стилей в том или ином жанре (роде поэзии или вообще письменной и ораторской речи).
«Высокий штиль» образуется преимущественно «из речений Славенороссийских; то есть употребительных в обеих наречиях, и из Славенских Россиянам вразумительных и не весьма обветшалых». «Сим штилем, – тотчас же поясняет Ломоносов, – составляться должны Героические Поэмы, Оды, прозаические речи о важных материях, которыми они от обыкновенной простоты к важному великолепию возвышаются».
«Средний штиль» складывается из «речений больше в Российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения Славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великою осторожностию, чтобы слог не казался надутым». В нем можно употреблять и «низкие слова», «однако остерегаться, чтобы не опуститься в подлость», а вообще стремиться соблюдать в нем «всевозможную ровность», которая особенно нарушается от крикливого несоответствия «высоких» речений, попадающих в непосредственное соседство с простонародными. Этим «штилем» следует «писать все театральные сочинения, в которых требуется обыкновенное человеческое слово к живому представлению действия».