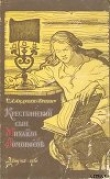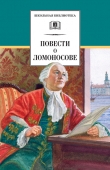Текст книги "Ломоносов"
Автор книги: Александр Морозов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
При описании процесса брожения виноградного сахара Лавуазье, отметив, что вес взятого сахара равен весу образовавшегося спирта и углекислоты, писал, что это происходит «потому, что ничто не творится ни в искусственных процессах, ни в природных, и можно выставить положение, что во всякой операции имеется одинаковое количество материи до и после операции, что качество и количество начал осталось теми же самыми, произошли лишь перемещения, перегруппировки. На этом положении основано все искусство делать опыты в химии: необходимо предполагать во всех настоящее равенство между началом исследуемого тела и получаемого из него анализом» [45]45
Цитировано по книге: М. В. Ломоносов, Физико-химические работы, 1923, стр. 108. (Примечания Б. Н. Меншуткина.)
[Закрыть].
Устанавливая, что закон сохранения вещества простирается на правила движения, Ломоносов, несомненно, стремился осознать отношение вещества и движения.
Принцип вечности материи был, как мы уже видели, сформулирован еще в древности, причем античные философы-материалисты понимали материю как массу или вещество. Принцип сохранения движения был высказан Декартом. Заслуга Ломоносова заключалась в том, что он связал воедино принцип сохранения вещества и принцип сохранения движения и систематически применял его при изучении природы.
3. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ«Моя химия – физическая».
М. В. Ломоносов
29 декабря 1753 года Леонард Эйлер писал Шумахеру о Ломоносове: «Ныне таковые умы весьма редки, ибо большая часть остаются при одних опытах и нисколько не хотят о них рассуждать, другие же, напротив, пускаются в такие нелепые рассуждения, которые противны всем основаниям здравого естествознания».
Эйлер прекрасно подметил начавшийся уже в его время разрыв между опытом и теоретическим обобщением, индуктивным и дедуктивным методом познания, постепенный отход естествознания от широких философских проблем. Естествознание в XVIII веке все более и более уходило в частности, стремилось изучить мир в деталях, но мало заботилось об их взаимной связи. Неполнота и недостаточность реальных сведений и наблюдений, слабость экспериментального исследования природы порождали множество бесплодных и фантастических гипотез, тем более непродуктивных, что они уже не опирались на целостную философскую систему. Представители опытных наук, устав от мудрствований и умозрительных теорий, лопающихся, как мыльные пузыри, при соприкосновении со вновь открываемыми фактами, начинали вообще сторониться «философствования» и даже гордились тем, что они избегают «гипотез». Но, как заметил впоследствии Ф. Энгельс, говоря о естествознании XIX века, «философия мстит за себя задним числом естествознанию за то, что последнее покинуло ее» [46]46
Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1948, стр. 162.
[Закрыть], и поэтому те, кто подчас кичился своим превосходством над философами и якобы оставался при одних опытах, на самом деле влачил за собой в науку «остатки давно умерших философских систем» [47]47
Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1948, стр. 166.
[Закрыть]. Стремление остаться в рамках только опытной науки вполне уживалось с общим метафизическим характером естествознания XVIII века, в котором наряду со все увеличивающимся запасом реальных знаний процветали метафизические представления о мире и отдельных силах природы.
Ломоносов ценил опытное знание. Причину огромных успехов естествознания он видел прежде всего в том, что «ныне ученые люди, а особливо испытатели натуральных вещей, мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и пустые речи, но более утверждаются на достоверном искусстве», то есть на точном эксперименте. «Главнейшая часть натуральной науки – физика, – продолжает он, – ныне уже только на одном оном свое основание имеет. Мысленные рассуждения произведены бывают из надежных и много раз повторенных опытов» [48]48
Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1948, стр. 193.
[Закрыть]. «Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением», – указывает он в черновых заметках по физике, относящихся к 1741–1743 годам.
Ломоносов сознавал необходимость гипотез для развития науки. «Они позволительны в предметах философских, и это даже единственный путь, которым величайшие люди успели открыть истины самые важные. Это как бы порывы, доставляющие им возможность достигнуть знаний, до которых умы низкие и пресмыкающиеся в пыли никогда добраться не могут».
В этом отношении Ломоносов, в отличие от современных ему близоруких эмпириков, отрицавших значение гипотезы, был представителем мыслящего и развивающегося естествознания, ибо, как заметил Энгельс, «формой развития естествознания, поскольку оно мыслит, является гипотеза» [49]49
Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1948, стр. 193.
[Закрыть].
Истинное познание было возможно для Ломоносова только на основе единства теории и опыта. «Из наблюдений устанавливать теорию, через теорию исправлять наблюдения есть лутчей всех способ к изысканию правды», – говорит он в своем «Рассуждении о большей точности морского пути» (1759).
Отличительным свойством всей его научной работы было сочетание широкого философского подхода к изучению природы с верностью эксперименту. Ломоносов не только не игнорировал опыта, как иногда, к сожалению, думают, но был прекрасным и тонким экспериментатором: находчивым, последовательным, исключительно точным в своих наблюдениях и крайне осторожным в выводах.
Только необыкновенная глубина и ясность теоретического мышления Ломоносова, отчетливое представление о целях, задачах и методах научной химии, страсть к экспериментальным исследованиям сделали Ломоносова отцом и основателем физической химии – этой совершенно новой для его времени науки.
Физическая химия для Ломоносова – это «наука, объясняющая на основании положений и опытов физики то, что происходило в смешанных телах при помощи химических операций». Ломоносов шел к химии от физики. Уже в своей диссертации «О рождении и природе селитры» (1749) он уверенно говорит: «Мы считаем возможным научно и вполне связно изложить почти всю химию, обосновав ее на собственных ее положениях, принятых недавно в физике; мы не сомневаемся, что можно легче распознать скрытую природу тел, если мы соединим физические истины с химическими». А за несколько месяцев до смерти, в проекте Академического регламента, составленном в сентябре 1764 года, Ломоносов писал: «Химик без знания физики подобен человеку, который всего должен искать ощупом. И сии две науки так соединены между собою, что одна без другой в совершенстве быть не могут».
Ломоносов не только говорил о родстве или содружестве физики или химии. Они составляют для него неразрывное целое. Изучение физических свойств тел раскрывает природу вещества, а изучение состава вещества и происходящих в нем химических процессов раскрывает причину физических его свойств. Следуя этому, Ломоносов стремился поставить на службу химии все доступные и известные в его время приборы и методы физического исследования.
Во времена Ломоносова микроскоп применялся главным образом в биологии, где с его помощью были произведены значительные открытия. Во всех остальных областях производились лишь бессистемные наблюдения над всевозможными предметами, которые только удавалось поместить под микроскоп, нередко без всякого разбора. Песчинки, мушиные крылья, мельчайшие насекомые и инфузории, кристаллы, мыльная пена, обрезки бумаги и различных тканей изучались под микроскопом, описывались и зарисовывались, наполняя обширные «микрографии», издававшиеся во многих странах Западной Европы.
Ломоносов ввел микроскоп в практику своих химических исследований.
В его программе лекций по физической химии предусматриваются микроскопические исследования растворов, кристаллов, аморфных порошкообразных масс, получающихся при прокаливании солей, изучение окалин и т. д.
Он наблюдал под микроскопом еще в 1744 году подлинную химическую реакцию взаимодействия железной проволоки с азотной кислотой. Ломоносов выдвигал проблему систематического применения микроскопа как особого нового метода физико-химического исследования. Потребности этого исследования подсказали ему новые особенности в конструкции самого микроскопа, чтобы иметь возможность быстрого перехода от одного увеличения к другому, не прерывая наблюдения.
Сконструировав еще в 1741 году «катоптрико-диоптрический зажигательный инструмент» (представлявший собою остроумную комбинацию плоских зеркал и двояковыпуклых линз), Ломоносов нашел ему применение и в своей химической лаборатории, используя солнечные лучи для получения весьма высоких температур. Ломоносов пользовался «зажигательным инструментом» для плавления кристаллов.
Разрабатывая проблемы физической химии, Ломоносов изучал влияние на вещество низких температур и давления, производил опыты в пустоте, изучал явления вязкости, капиллярности, кристаллизации, форму и удельный вес кристаллов, образование растворов и растворимость в разных условиях, сопровождающие тепловые явления, преломление света и действие электричества в растворах – словом, – все то, что составило главное содержание этой науки лишь через полтора века. Он ставит опыты последовательными сериями и сводит результаты многочисленных измерений в особые таблицы. В своем отчете о трудах в 1753 году Ломоносов писал: «делал новые физико-химические опыты, дабы привести химию сколько можно к философскому познанию и сделать частью основательной физики: из оных многочисленных опытов, где мера, вес и пропорция показаны, сочинены многие цифирные таблицы на 24 полулистовых страницах, где каждая строка опыт содержит».
Сохранился набросок программы на латинском языке, по которой Ломоносов производил опыты в пустоте. В составленной в 1764 году «Росписи» своих важнейших трудов он указывал: «Делал химические опыты по дестиллации и сублимации без воздуха и приметил неизвестные еще в ученом свете перемены; еще не изданы».
Ломоносов не упустил из виду и такую область новейшей физической химии, как изучение коллоидов. «Застудневание растворов, сцепление студней, цвет, запах», – записывает он.
Особенное внимание Ломоносов уделял изучению растворов – этой важнейшей области современной физической химии.
«Ломоносов, – писал в 1919 году известный русский химик Л. А. Чугаев, – из далекого прошлого каким-то изумительным чутьем проводил не только возникновение этого важного отдела химии, но даже те слабые и теневые стороны, которые могли обнаружиться при неправильном и одностороннем развитии этой новой научной дисциплины» [50]50
Л. А. Чугаев, Открытие кислорода и теория горения. П., 1919, стр. 59.
[Закрыть].
Однако дело было не столько в изумительном «чутье» Ломоносова, сколько в том, что он приложил к химии всю совокупность своих физических представлений, основанных на материалистическом понимании природы, что и позволило ему уйти на целое столетие вперед от своих современников. В своем «Введении в истинную физическую химию» Ломоносов указывает на недостаточность средств и прочность методов современной ему химии, которая скользила по поверхности явлений: «Большая часть Химиков обыкновенно считает, что после ознакомления со смешанными телами при помощи химических операций они вполне познали составные части тел, поскольку это дается этим способом, и не ищут других путей во внутренности их». А для того чтобы проникнуть во внутренность тел, узнать строение вещества, нужно знание «первоначальных частиц», то есть атомов. «Видя у часов одну только поверхность, можно ли знать, какою они силою движутся и каким образом, разделяя на равные и на разные части, показывают время. Во тьме должны обращаться физики, а особливо химики, не зная внутреннего нечувствительных частиц строения», – писал Ломоносов в «Рассуждении о твердости и жидкости тел» (1760).
Ломоносов хорошо сознавал, что упорядочить наши представления о мире можно, только начав с изучения материи, из которой состоит этот мир.
Его особенно привлекают вопросы атомно-молекулярной физики, от решения которых, по его глубочайшему убеждению, зависели все дальнейшие успехи естествознания. «Множество физических явлений до сих пор осталось недостаточно объясненным – и особливо в той части естественных наук, которая изучает качества тел, происходящие от самых незначительных частичек, вполне недоступных всякому чувству зрения», – пишет он в своей диссертации «Об отношении количества материи и веса» (1758).
Ломоносов мыслил как философ-материалист и умел поэтому находить верные принципы понимания этих глубоких и недоступных еще непосредственному исследованию явлений.
Ломоносов не только разрабатывает теоретические положения физической химии и ведет экспериментальную работу в этой области, но в 1752–1754 годах читает первый в мире курс этой науки.
Ломоносов долго и тщательно готовится к занятиям, указывая, что он решил поместить в своем курсе «только то, что приводит к научному объяснению смешения тел», а потому исключает из изложения все, что относится «к наукам экономическим, фармации, металлургии, стекольному делу и т. д.», что должно составить особый курс технической химии. «В химических моих лекциях, которые я должен читать учащемуся юношеству, – писал Ломоносов 11 мая 1752 года, – я считаю очень полезным присоединить, где возможно, к химическим опытам физические». При прохождении этого курса «опытной химии», по мнению Ломоносова, надо будет:
«1. Определить удельный вес химических тел.
2. Исследовать сцепление между частичками их:
а) посредством ломания тел, б) сдавливанием, в) стачиванием на бруске, г) счетом капель жидкости.
3. Описывать фигуры кристаллических тел.
4. Подвергать тела действию Папиновой машины.
5. Всюду наблюдать градусы теплоты.
6. Исследовать тела, особенно металлы, долгим стиранием.
Одним словом, испытывать все, что только можно измерить, взвешивать и определять вычислением».
Ломоносов стремится обеспечить свою лабораторию приборами, необходимыми для физико-химических исследований. Он обзаводится насосом, изобретает прибор для определения вязкости жидкости, придумывает точило для определения твердости тел, совершенствует конструкцию Папиновой машины для получения высоких давлений. Машина была изготовлена по чертежам Ломоносова на Сестрорецком заводе.
Для измерений температуры Ломоносов в 1752 году сконструировал термометр, наиболее рациональный из всех существовавших. Он принял для градуирования две основные точки – температуру плавления льда, которую он обозначил через 0°, и температуру кипения воды, обозначенную им через 150°, тогда как большинство других термометров вело отсчет от одной какой-либо точки и притом принимало температуру кипения воды за 0°, производя отсчет вниз (в термометре Делиля плавление льда обозначалось как 150°). Термометр Ломоносова облегчал точные измерения и связанные с ними расчеты. Он устранял путаницу при отсчете градусов при повышении температуры выше точки кипения воды.
***
Не только содержание лекций, но и сам метод преподавания, стремление показывать все на опытах и вовлекать студентов в исследовательскую работу были совершенно новы и необычны.
Еще в начале XIX века в некоторых университетах Европы общие курсы химии читались отвлеченно и без каких бы то ни было опытов. Юстус Либих вспоминает лекции своего учителя, довольно известного в свое время немецкого химика Кастнера, которые были так «беспорядочны и нелогичны», что «вполне походили на лавку старьевщика, набитую всяческой ученостью». Ломоносов последовательно и систематически излагал свой курс и требовал, чтобы студенты не только слушали, но и своими руками производили все операции и постепенно втягивались в самостоятельную работу. 15 апреля 1754 года он сообщал Академической конференции, что для постановки опытов с соляными растворами требуется очень много времени, поэтому он «употребил для этих трудов студентов, ходивших к нему на лекции».
Эта плодотворная деятельность Ломоносова скоро оборвалась. В 1753 году Петербургская Академия наук предложила на конкурс задачу – объяснить причины отделения золота от серебра посредством крепкой водки и притом показать способ, как бы легче и дешевле разделить эти металлы. Конкурс был повторен и в 1754 году, так как присланные диссертации не были признаны удовлетворительными. Присудили ее не тому, за кого стоял Ломоносов (Карлу Дахрицу), а некоему Ульриху Зальхову.
Это, в сущности, незначительное происшествие имело для Ломоносова весьма серьезное последствие, о котором он сам рассказывает в своей «Истории Академической канцелярии»: «При случае платы в награждении по задаче ста червонцев за химическую диссертацию, Ломоносов сказал в собрании профессорском, что де он, имея работу сочинения Российской истории, не чает так свободно упражняться в химии, и ежели в таком случае химик понадобится, то он рекомендует ландмедика Дахрица. Сие подхватя, Миллер записал в протокол и, согласясь с Шумахером, без дальнейшего изъяснения с Ломоносовым, скоропостижно выписали доктора Зальхова, а не того, что рекомендовал Ломоносов, который внезапно увидел, что новый химик приехал и ему отдана лаборатория и квартира».
Так нечаянно-негаданно Ломоносов лишился созданной им химической лаборатории. Его поймали на слове.
По словам Эйлера, Зальхов, узнав о предложении отправиться в Петербург, был страшно обрадован, «потому что у него здесь мало надежды на получение места по своей науке химии и живет он без службы». «У него только жена, и его можно было бы приобрести на недорогих условиях». Весной 1756 года Зальхов уже был в Петербурге. Этот немецкий химик, получивший в свое ведение химическую лабораторию Ломоносова, оказался полнейшим ничтожеством и быстро привел «свою науку» к полнейшему запустению.
Ломоносов продолжает занятия химией у себя дома и «на своем коште». Но Ломоносов не перестал разрабатывать важнейшие вопросы естествознания и размышлять об основных законах, управляющих природой.
4. НЕВЕСОМЫЕ МАТЕРИИОдной из характернейших черт естествознания XVIII века было пользовавшееся всеобщим распространением убеждение о существовании в природе множества таинственных и непостижимых материй, или «флюидов», которых было нельзя ни взвесить, ни уловить, ни удержать в какой-либо оболочке. Их называли «невесомыми» и «неукротимыми». Они приходили и уходили неведомыми путями, распространялись и «перетекали» от предмета к предмету. От их простого присутствия зависело появление теплоты, света, электричества, магнетизма. Ученые яростно спорили, совпадает ли «световая материя» с «огненной», а «материя тепла» с флогистоном, присутствующим при химических процессах.
Физики и химики XVIII века представляли себе материю в отрыве от движения. Явления, вызванные движением собственных частиц самой материи, объяснялись существованием таких особых невесомых материй, или «субстанций», которые, по выражению Ломоносова, «скитались без малейшей вероятной причины».
Это метафизическое отношение к природе тяготело над естествознанием не только во времена Ломоносова. Выпущенный в 1830 году в Лейпциге в «заново переработанном виде» известный «Физический словарь» Гелера содержал особую статью о невесомых, содержащую глубокомысленные рассуждения о том, что, по всей вероятности, вряд ли можно рассчитывать на то, что когда-либо будет найдена такая оболочка, в которой они могли бы находиться долгое время.
«Положительные науки, – писал А. И. Герцен в своих «Письмах об изучении природы», – имеют свои маленькие привиденьица: это – силы, отвлеченные от действий, свойства, принятые за самый предмет, и вообще разные кумиры, сотворенные из всякого понятия, которое еще не понятно» [51]51
А. И. Герцен, Избранные философские сочинения. М., 1940, стр. 66.
[Закрыть]. Прекрасным примером чего и являются, по его словам, невесомые, которых никто не видел и не получил «вне тел». Герцен указывал на тлетворное влияние самого метода познания, оперирующего подобными метафизическими представлениями. «Эта метода делает страшный вред учащимся, давая им словавместо понятий, убивая в них вопрос ложным удовлетворением. «Что есть электричество?» – Невесомая жидкость. Не правда ли, что лучше было бы если б ученик отвечал: – не знаю?..» [52]52
А. И. Герцен, Избранные философские сочинения. М., 1940, стр. 74.
[Закрыть].
Ломоносов познакомился с теорией теплорода еще за границей. Христиан Вольф разделял эту теорию и пропагандировал ее в своих книгах. Но она не отвечала материалистическим устремлениям молодого Ломоносова, которому претила всякая метафизика. И вскоре же после своего возвращения из-за границы Ломоносов приступает к разработке своей теории теплоты, которая решительным образом расходилась с господствующими в его время представлениями.
В диссертации «О нечувствительных физических частичках» он выдвинул положение, что теплота состоит «во внутреннем движении собственной материи», причем разные степени теплоты определяются скоростью ее движения. И далее: «как никакому движению нельзя приписать высшую степень скорости, так нет и высшей степени теплоты. Величайший холод в теле – абсолютный покой; если есть хоть где-либо малейшее движение, то имеется и теплота». Ломоносов таким образом сформулировал положение об абсолютном нуле температуры.
Свои положения Ломоносов развил в стройную теорию в «Рассуждении о причине теплоты и холода», представленном им в 1744 году и напечатанном на латинском языке в первом томе «Новых Комментариев» Петербургской Академии наук в 1750 году. «В наше время, – говорит он, – причина теплоты приписывается особой материи, называемой большинством теплотворной, другими эфирной, а некоторыми элементарным огнем… И хорошо, если бы еще учили, что теплота тела увеличивается с усилением движения этой материи, когда-то вошедшей в нее, но считают истинной причиною увеличения или уменьшения теплоты простой приход или уход разных количеств ее. Это мнение в умах многих пустило такие могучие побеги и настолько укоренилось, что можно прочитать в физических сочинениях о внедрении в поры тел названной выше теплотворной материи, как бы притягиваемой каким-то любовным напитком, и наоборот, – о бурном выходе ее из пор, как бы объятой ужасом». Ломоносов убедительно доказывал, что нет никакой нужды привлекать для объяснения тепловых явлений таинственный «теплотвор» или «теплород». «Имеется достаточное основание теплоты в движении». То, что это движение не воспринимается зрением, не имеет значения. Оно ускользает от зрения, так как частицы движущейся материи слишком малы: «Кто в самом деле будет отрицать, что когда через лес проносится сильный ветер, – то листья и сучки дерев колышутся, хотя бы при рассматривании издали глаз не видел движения». Но метафизические представления о теплороде прочно засели в умах западноевропейских ученых, став тормозом для развития правильного понимания тепловых процессов в природе и технике [53]53
До известного времени теория теплорода (как и флогистона) была плодотворна, ибо объединяла в систему различные тепловые явления. «Физика, в которой царила теория теплорода, – замечает Ф. Энгельс, – открыла ряд в высшей степени важных законов теплоты. В особенности Фурье и Сади Карно расчистили здесь путь для правильной теории, которой оставалось только перевернуть открытые ее предшественницей законы и перевести их на свой собственный язык». Ибо это была, по словам Энгельса, одна из тех теорий, «в которых отражение принимается за отражаемый объект и которые нуждаются поэтому в подобном перевертывании» ( Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1948, стр. 28–29).
[Закрыть].
Теплород пережил флогистон на много десятилетий. Его приверженцы продержались до самой середины XIX века. Их не смутило ни изобретение паровой машины, ни открытие железных дорог.
Сокрушительная критика теплорода, данная Ломоносовым, не прошла бесследно для науки. Она, несомненно, содействовала падению авторитета флогистона, этого близкого родственника теплорода, а многими даже отождествлявшегося с ним.
Опираясь на свою атомно-молекулярную теорию, Ломоносов прокладывал новые пути в физике и химии. В доложенной им еще в феврале 1749 года диссертации «Попытка теории упругой силы воздуха» Ломоносов связывает свои атомистические представления с разрабатываемой им теорией теплоты как движения частиц. Упругой силой воздуха Ломоносов называет стремление воздуха распространяться во все стороны. Он полагает, что это свойство проявляют не единичные частички, а их совокупность. Ломоносов развивает гениальную теорию о мгновенном и непосредственном взаимодействии частиц воздуха, обусловленном теплотою. Ломоносов убежден, что одно тело не может действовать на другое без соприкосновения. Но в то же время несомненно, что атомы воздуха находятся далеко один от другого, так как воздух может быть значительно сжат в своем объеме под давлением. Это противоречие может быть устранено только допущением, что не все атомы находятся одновременно в одном и том же состоянии. «Очевидно, – пишет Ломоносов, – что отдельные атомы воздуха, взаимно приблизившись, сталкиваются с ближайшими в нечувствительные моменты времени, и когда они находятся в соприкосновении, вторые атомы друг от друга отпрыгнули, ударились в более близкие к ним и снова отскочили; таким образом непрерывно отталкиваемые друг от друга частыми взаимными толчками, они стремятся рассеяться во все стороны». Эта замечательная картина состояния частичек ;воздуха, обусловленного их тепловым состоянием, в основном совпадает с принятой лишь в середине XIX века «кинетической теорией» газов.
Свое понимание теплоты Ломоносов стремился связать с экспериментальными наблюдениями. В заметках к исследованию «О твердом и жидком», составленных в начале 1760 года, он упоминает свои «опыты к произведению искусственного холода», сделанные им еще в 1747 году. Поэтому его живо заинтересовали наблюдения академика И. А. Брауна, которому в декабре 1759 года удалось заморозить ртуть. Ломоносов сразу оценил значение этого открытия, так как в науке еще держались старые представления об «особых свойствах» ртути, к числу которых относилась и абсолютная незамерзаемость.
Браун охотно принял предложение Ломоносова производить опыты сообща. 26 декабря, когда мороз достиг очень большой силы (–41,3 0по шкале нашего времени), Ломоносов погрузил ртутный термометр в «холодильную смесь» из снега, «крепкой водки» (азотной кислоты) и «купоросного масла» (серной кислоты). «Не сомневаясь, что она уже замерзла, – описывает этот опыт Ломоносов, – вскоре ударил я по шарику медным при том бывшим циркулом, отчего тотчас стеклянная скорлупа расшиблась и от ртутной пули отскочила, которая осталась с хвостиком бывшим в трубке термометра достальныя ртути, наподобие чистой серебряной проволоки… Ударив по ртутной пуле после того обухом, почувствовал я, что она имеет твердость, как свинец или олово».
Результаты своих наблюдений Ломоносов и Браун доложили 6 сентября 1760 года на годичном собрании в Академии наук. Браун выступил с описанием внешних условий опыта, Ломоносов взял на себя изложение теоретических вопросов.
Ломоносов подчеркивал заслуги Брауна в этом выдающемся открытии, так как желал защитить его от недобросовестных нападок и происков тех академиков, которым была поперек горла их давнишняя дружба. В 1764 году в составленной им «Истории Академической канцелярии» Ломоносов писал, вспоминая об этом: «А что на Брауна уже не первой раз они нападают за его несклонность к их коварствам, то свидетельствует их поступок, когда он ртуть заморозил: ибо Миллер писал в Лейпциг именем Академии без ее ведома, якобы начало его нового опыта произошло от профессора Цейгера и Епинуса; и Брауну, якобы по случаю, удалось как петуху сыскать жемчужное зерно».
***
Создавая целостную физическую картину мира, Ломоносов не мог обойти вопроса о природе света, тем более, что оптика была его подлинной страстью. В своем «Слове о происхождении Света», произнесенном 1 июля 1756 года, Ломоносов поднимал острые и спорные вопросы физики. Он не сомневался в том, что свет представляет собою движение материи. Но на этот счет существовало два мнения: «Первое Картезиево, от Гугения подтвержденное и изъясненное; второе от Гассенда, начавшееся и Невтоновым согласием и истолкованием важность получившее. Разность обоих мнений состоит в разных движениях. В обоих поставляется тончайшая, жидкая, отнюдь неосязаемая материя. Но движение от Невтона полагается текущее и от светящихся тел, наподобие реки во все стороны разливающееся; от Картезия поставляется беспрестанно зыблющееся без течения».
Христиан Гюйгенс (или Гугений, как его называл Ломоносов) в своем трактате «О свете», написанном в 1678 году, представлял себе передачу света на расстоянии как ряд ударов в покоящиеся упругие частицы эфира, по которым и распространяется движение. По этим частицам может передаваться множество пересекающихся волн, не сливаясь и не уничтожая друг друга. Гюйгенс пояснил это наглядным примером: «Если одновременно ударить по ряду с двух противоположных концов равными шарами… то каждый из них отскочит с тою же скоростью (с какой он шел), а ряд весь останется на месте, хотя движение и прошло по всей длине его в том и другом направлении».
Ломоносов был близок к такому пониманию эфира, предполагающему наличие во всемирном пространстве сплошной упругой среды. В набросках по теории электричества он высказывает мысль, что «частички, составляющие эфир, всегда все находятся в соприкосновении с соседними наиболее близкими». Эти частички «имеют шаровидную фигуру». Свет распространяется через огромное пространство в нечувствительный момент времени. «Колеблющееся движение, коим через эфир распространяется свет, не может иначе происходить, как если одна корпускула ударит в другую корпускулу; а ударить не может, если не прикоснется».
Ломоносов защищал волновую теорию света. Но в его время как раз восторжествовала теория Ньютона. Ньютон считал, что всякое светящееся тело испускает мельчайшие частицы, или корпускулы, особой световой материи. При переходе в более плотную среду частицы должны были испытывать притяжение. При этом скорость их должна была увеличиться, а отсюда следовало, что скорость света в более плотной среде (например, в воде) должна быть больше, чем в менее плотной. Этим можно было объяснить законы преломления света; но чтобы объяснить отражение света, Ньютон должен был приписать материальной среде, принимающей свет, еще и отталкивающую силу. Ньютон считался со взглядами Гюйгенса. Он угадывал относительную справедливость и вместе с тем неполноту каждой из соперничавших теорий. Последователи Ньютона уже не сознавали внутренних противоречий отстаиваемой ими теорий истечения. Волновая теория света была отброшена и отрицалась большинством западноевропейских ученых. Ломоносова не ослепил авторитет Ньютона. В «Слове о происхождении Света» он приводит много доводов против теории истечения света и утверждает, что она не согласуется с законами механики и повседневным опытом.
Ломоносов отвергал существование самостоятельной «светящейся материи», которая, как он был убежден, не может протекать от Солнца с неимоверной скоростью и в огромных количествах и затем неизвестно куда исчезать. Ведь не сам воздух «от звенящих гуслей» течет во все стороны, а звук передается, приходит к уху через его колебание. Точно так же «зыблющееся» движение эфира, наполняющего вселенную, служит для передачи и возбуждения явлений света. Самостоятельно разрабатывая важнейшие вопросы физики, Ломоносов опирался на отдельные теоретические положения естествоиспытателей прошлого, не считаясь с тем, признаны они или нет его западноевропейскими современниками. Выступая поборником «устаревшей» теории света, Ломоносов проявил необычайную смелость и независимость мысли. Его доводы произвели глубокое впечатление на Леонарда Эйлера, который почти дословно повторил их в своей популярной книге по физике, выпущенной Петербургской Академией на французском и русском языках под заглавием «Письма о разных физических и филозофических материях, писанные к некоторой немецкой принцессе» (1768). Но и его голос остался одиноким. Теория истечения господствовала еще много десятилетий [54]54
Когда в 1800 году Томас Юнг опубликовал статью о звуке и свете, в которой указывал на слабые места теории Ньютона, он был подвергнут в Англии жестокой критике и даже сам стал сомневаться в правильности своих суждений. Открытия Юнга и затем Френеля, доказавших волновые свойства света, сделали невозможным существование корпускулярной теории света в ее прежнем виде. В то же время поиски вещественной среды (эфира), продолжавшиеся до конца XIX века и даже в XX веке, оказались безрезультатными, что привело к крушению также и механической теории волн. Решение этих вопросов было найдено лишь в новейшей теории фотонов (см. С. Вавилов, Диалектика световых явлений. «Под знаменем марксизма», 1934, № 4, стр. 69–70).
[Закрыть].