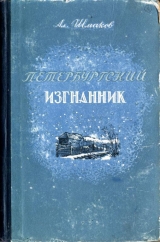
Текст книги "Петербургский изгнанник. Книга вторая"
Автор книги: Александр Шмаков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Александр Николаевич, проходя мимо погребка, сдержал шаг, прислушался к разговору. Громче всех буянил незнакомый ему высокий суровый старик в рваном армяке. Должно быть жил он не богато. Старик, с благообразным лицом, походил на угодника. Он уже изрядно выпил на последние деньги и бранился, всячески понося киренского исправника и заседателя.
– Одной верёвкой связаны, – говорил он сидевшему на скамейке мужику с рыжеватой бородкой, в армяке, поновее стариковского. – Собаки, волки, а не люди. Христовой души у них нету вон ни на столечко…
Старик вытянул руку и показал мизинец.
– Грабят нашего брата почём зря…
– Грабят, – поддакнул вяло мужик, – оштрафовали тебя небось?
– Оштрафовали. А за что? За какую-такую провинку, спрашиваю. Говорят: «У святого причастия не был». Я говорю: «Не до бога было». «Бусурманин что ли ты?», спрашивают. Православный, отвечаю, вот крест на шее имею…
Старик распахнул рваный армяк, полез за рубаху, вытащил медный крест, болтавшийся на загрязнившемся гайтане.
– Во-о! Тоже пятак платил, даром-то его никто не дал мне…
– Ну-у? – спросил вдруг мужик.
– Ну-у? Что ну-у? А-а, – вспомнив о чём говорил, старик продолжал:
– «Раз так, говорят, к попу ходить надо. Понял?» «Понял», говорю. «Рублёвку плати», говорят.
– Рублёвку? – переспросил мужик.
– Ей бог, не вру, – старик размашисто перекрестился.
– Здорово тебе приписали, должно по злобе, – сказал мужик, – с меня полтину взяли…
– Неужто? – вскрикнул старик, – вот окаянные, разорили. Всё исправниково и попово дело. Поборы учиняют с народа, поборы, – взревел старик протрезвев.
– Дай на штоф, выпью, горе залью…
Мужик тоже поднялся со скамейки, обнял старика, и они вместе пошли в погребок.
Радищеву сразу стало горько от всего, что он услышал. Слова о поборах заставили его вспомнить распоряжение исправника, запретившего рубить лиственничный и сосновый лес на строительство деревянных домов. И ему стало ясно, что это всего-навсего проявление лихоимства киренского исправника, занимавшегося тёмными поборами с жителей Илимска, вымогавшего деньги у звероловов.
Какой же рачительный хозяин будет строить избу из берёзы, ели или ольхи – некрепкого, нестойкого от гниения дерева, тем более, что вокруг больше сосны и лиственницы, чем берёзы и ольхи?
«Ах, негодяй! Какая мерзость! Чего не придумают живоглоты, лишь бы только лихоимствовать».
Александр Николаевич возвратился домой с испорченным настроением. Елизавета Васильевна, заметив это, спросила:
– Какая-нибудь неприятность, Александр?
– Касалась бы меня, стерпел, а то последнюю шкуру с бедных дерут.
– Кто? – спросила Рубановская, не понимая, о ком говорит Радищев.
– Исправник киренский, тот, что приезжал тогда в Илимск. – И рассказал Елизавете Васильевне всё, что сам услышал.
– Не потерплю лихоимца, напишу письмо губернатору…
– И тебя же опять обвинят. Такой негодный человек, обязательно выкрутится.
– Не-ет, не выкрутится, ежели я за него возьмусь!..
– Только сегодня не надо, ради праздника, – попросила Рубановская.
– Сегодня как раз и надо написать. Моим праздником и будет, что лихоимца всё же накажут…
– Бог с тобой, – смирилась с ним Рубановская, – поступай, как знаешь.
Радищев в этот же день написал иркутскому генерал-губернатору Пилю письмо, в котором рассказал о взимании незаконного штрафа с илимцев за непринятие ими святых тайн и о распоряжении земского исправника не рубить для строительства деревянных изб листвяжный и сосновый лес.
Александр Николаевич не знал, что всё это исходило из канцелярии Иркутского наместника.
9
Елизавета Васильевна всё это время много ходила по улице, хорошо кушала, крепко спала. Рубановская чувствовала себя вполне бодро, лишь одышка выдавала её состояние.
Александр Николаевич не только часто гулял с Елизаветой Васильевной, но и старался как можно больше быть возле неё, пристально следить за ней, оберегая здоровье, предупреждал желания.
Иногда ей хотелось покушать чего-нибудь то кислого, то солёного, то слишком сладкого, то чего-то острого. Тогда все в доме принимались искать то одно, то другое, то третье и, если нужного не оказывалось в погребке или кладовой, Настасья, познакомившаяся с илимскими женщинами, бежала занимать у них солёный огурчик, кислую капусту, груздочки или беляночки, засоленные с укропом. Чаще всего она забегала к купчихе Прейн.
Между женщинами, мимоходом, происходил разговор.
– Скоро ль хозяйка-то от тяжести избавится? – спрашивала Настасью любопытная Агния Фёдоровна.
– Теперь скоро.
– Первеньким? – прищурив глаза выпытывала та.
– Первеньким.
– Чрево-то большое? – любопытствовала Агния Фёдоровна.
– Аккуратное, – отвечала Настасья, – должно девчёночка будет..
– Может раньше родит раз не мальчонка… Принимать-то кто будет?
– Мне доведётся.
– А бывало?
– Бывало.
– А то бабку Лагашиху позовите, у неё лёгкая рука. Пашку-то она мне вызволила… Молитвы знает разные…
– Позвать можно будет…
– А рожать-то в бане надо, – советовала купчиха Настасье, – легче будет ей.
– Сам не дозволит…
– Неужто? – вскрикивала от удивления Агния Фёдоровна и добавляла. – В горячей баньке-то, у меня, слава богу, всё легко шло…
Настасья убегала от купчихи и приносила нужное – огурчики, капусту, грибочки, думая об одном: «скорее бы рожала она».
Елизавета Васильевна тоже ждала этого дня и внутренне готовила себя к нему. Ожидание её было полно трепета, счастливого волнения и вместе с тем той неизвестности, какая сопровождает роды. Она делилась своими чувствами, испытываемыми ею в эти дни, с Александром Николаевичем и лишь умалчивала об одном: её не покидали воспоминания о родах сестры Аннет.
И хотя Рубановская скрывала от Александра Николаевича тревожные мысли, Радищев, успокаивая Елизавету Васильевну и внушая ей веру в благополучный исход всего, тоже неоднократно думал о печальной участи Аннет. Всё могло случиться. Ему было обидно в такие минуты, что врачи бессильны предупредить смерть, не научились ещё управлять природой, подчинять её себе.
День родов настал для всех неожиданно, хотя все в доме, каждый по-своему, готовились к нему. В полдень Елизавета Васильевна ощутила заметное недомогание.
– Что-то мне плохо, – сказала она Дуняше, бывшей с ней в комнате. – Позови Настасью Ермолаевну…
Настасья, захваченная врасплох, вскрикнула:
– Помоги ей, царица небесная! – перекрестилась и тут же распорядилась. – Степан, затопи-ка баньку…
Радищев, работавший в кабинете, услышав Настасьин голос, встрепенулся и догадался, что он мог значить. Он прошёл да половину Елизаветы Васильевны и застал её сидящей на кровати с бледным лицом и глазами, выражавшими испуг.
– Лизанька, тебе нехорошо? – участливо спросил он и, волнуясь, подошёл к подруге, взял её за вспотевшие руки.
– Не беспокойся, пожалуйста, мне показалось, что… Но всё уже и прошло…
В комнату вошла Настасья, за ней Дуняша.
– Все собрались, – сказал Александр Николаевич, – Лизаньке приготовьте всё у меня в кабинете. Там она будет…
– Не позвать ли бабку Лагашиху, – робко начала Настасья, не зная, как отнесётся к её словам Радищев.
– Бабку Лагашиху?
– Соседка, Агния Фёдоровна, отзываются похвально…
– Позовите тогда, – сказал Радищев и предупредил, – но чтобы без знахарских причуд…
Настасья кивнула головой в знак согласия.
В кабинет Радищева перенесли постель для Рубановской. Александр Николаевич помог ей перейти туда, поцеловал, шепнул:
– Мужайся, моя дорогая, – и оставил женщин одних.
Радищев, чтобы успокоиться, позвал Катюшу с Павликом и пошёл с ними на Илим. В воздухе, напоённом ароматом хвойных лесов, пахло скипидаром. Дышалось легко и, словно с воздухом, в тело вливалось здоровье. Александр Николаевич чувствовал себя хорошо. Лишь внутреннее волнение, охватившее его, заставляло сосредоточиться на том, каково было в эту минуту Елизавете Васильевне.
В этом году уже в апреле наступило резкое потепление. Быстро таял снег и на глазах садилась побуревшая дорога. С гор стекали звонкие ручьи. Набухал Илим. На реке появились разводья. Термометр в полдень показывал 18 градусов тепла, к вечеру столбик ртути падал до 10 и так держался.
Дрозды, учуяв весенний сок в древесине, долбили кору деревьев. Неугомонный стук их за рекой, отчётливо слышался в Илимске.
Уже спустилось солнце за горы, а Радищев с детьми всё гулял и гулял по берегу. Особенно ярко и долго, как казалось Радищеву в этот вечер, горел на западе небосвод. Когда совсем погасла вечерняя заря, Александр Николаевич возвратился домой нетерпеливый и весь напряжённо взволнованный от мыслей и чувств, захвативших его.
Пока Радищев гулял с детьми, Елизавету Васильевну, по совету бабки Лагашихи, успели помыть в истопленной бане. У Рубановской временно приутихли боли, и она освежённая крепко заснула.
Бабка Лагашиха была первой, кого встретил Александр Николаевич. Она поздоровалась с ним, назвала его ласково «хозяин» и, предупредив возможные расспросы её «бабьих дел», о которых недолюбливала говорить, торопливо сказала:
– Баба она крепкая, всё ладно будет, – и прошла на кухню, чувствуя себя в доме просто, будто ранее была тут и прежде занималась своими делами.
И твёрдость в голосе, с какой бабка Лагашиха говорила с ним, и уверенность, какая была вложена ею в слова, и простота, с какой она держалась в незнакомом доме, не только успокоили Радищева, но возбудили в нём с первой встречи доверие к бабке Лагашихе. «На такую положиться можно», – подумал он, слышавший ещё раньше своей встречи с бабкой лестные отзывы о ней, как об умелой повитухе и лекарке, искусно складывающей переломленные кости рук и ног, вылечивающей всякие болячки на теле.
Людская молва о бабке Лагашихе была вполне заслужена её полезными и нужными делами, проводимыми в. Илимске.
Александр Николаевич знал совсем неграмотных старух в Немцеве, Аблязове и других деревнях, о мудром врачевании которых слыла молва, и слово их деревенские жители дорого ценили, окружали таких старух всеобщим уважением и почётом. Такой была и бабка Лагашиха. Её знали не только в Илимске, но ехали к ней за советом и травами от разных недугов из дальних деревень, раскиданных по Илиму.
Бабка Лагашиха, вызвавшая доверие Радищева, заинтересовала его. Ему захотелось ближе познакомиться с нею, вникнуть в её народные способы лечения, познать её лекарское умение.
Приближалась полночь. Дети уже спали крепким сном, а Александр Николаевич сидел задумчиво в спальне и прислушивался к тому, что происходило там, в его кабинете, где находилась Елизавета Васильевна.
«Скоро ли?» Он вышел на крыльцо подышать ночным воздухом, успокоить себя, остудить волновавшееся сердце. Сидеть без дела в спальне ему становилось невмоготу.
Тихая, тёплая весенняя ночь нависла над Илимском. Синее небо, усеянное звёздами, серебристая, бывшая на ущербе луна, с вышины глядевшая на сонную землю, не могли отвлечь внимание Радищева, рассеять его сосредоточенных всё на одном и том же беспокойных дум.
Александр Николаевич слышал, как в ночной тиши громко ухал филин, кричала сова, продолжали приветливо журчать ручьи, стекающие с гор. Но ночная жизнь в природе, её своеобразная прелесть, которой он любил наслаждаться в другое время, теперь проходили для него где-то стороной и почти не оставляли никакого следа.
Вдруг до его слуха донёсся отдалённый гул и треск. Это набухший Илим взломал лёд, освободился от зимнего покрова, сковавшего его движение.
– Илим трогается, – услышал Радищев сзади себя голос Степана, тоже охваченного ожиданием рождения нового человека и обеспокоенного тем, что сейчас происходило в кабинете.
– Не спишь? – спросил Радищев.
– Не спится, Александр Николаич, – задушевно сказал Степан. – Ледоход начался…
– Начался…
– Люблю такую пору. Слышишь, как идёт весна, видишь, как рождается жизнь на божьей земле… Красота-то диковинная, душу радующая!..
– Да-а! – рассеянно протянул Радищев, захваченный мыслями о Рубановской.
Они не заметили, как долго простояли, молча любуясь ночной красотой пробуждающейся природы. На востоке стали бледнеть звёзды, и небосвод как-то сразу побелел, и резко выделилась очерченная каёмка тёмных гор.
– Светает, – как бы очнувшись, с удивлением произнёс Александр Николаевич.
– Нарождается день на земле, – сказал Степан.
– Я и не заметил, как пришло утро, – произнёс Радищев и хотел ещё что-то сказать, но в эту минуту на крыльцо с шумом выбежала Настасья и радостно крикнула:
– С доченькой тебя, Александр Николаевич, с доченькой!
Настасья задыхалась от счастья.
– Такая крепышка бедовая, не успела появиться на свет божий, а уж заревела… В рубашке родилась… Счастливая будет…
Она высказала всё это разом и тут же смолкла.
– Спасибо тебе, Настасья, – проговорил Радищев, облегчённо вздохнул и направился в дом.
– Илим тронулся, – сказал Степан. – Слышь, Настасья, вода-то как шумит! Живая вода идёт…
Настасья вслушалась.
– Идёт, – тихо проговорила она.
Степан вдруг высказал свою заветную думку.
– Нам бы с тобой дитятю надо, ан нет…
– Нет, – виновато и тихо сказала Настасья, – Бог не осчастливил нас, должно согрешили…
– Эх-хе-хе! – протянул Степан, глубоко вздохнув.
– У чужого счастья, как у печки, греемся. Видать, так, горемыками, с тобой и век скоротаем…
Степан смолк. Настасья тоже молчала. Они оба смотрели, как над тайгой загорелась заря, и слушали шум ледохода, доносившийся с пробуждающегося Илима.
10
С очередной оказией были получены свежие газеты, журналы. Радищев с жадностью прочитал их и словно окунулся в мир событий, гремевших далеко от Илимска. С маленькой точки на земле, какой был «заштатный город» Илимск, он видел и представлял многое, что делается на земном шаре: в Санкт-Петербурге и Париже, Лондоне и Берлине.
В начале года Париж покинул русский посол Симолин, способствовавший бегству королевской семьи. Должно быть положение его после вмешательства во внутренние дела Франции было неважным. Французский посол Женэ ещё держался в Санкт-Петербурге, но поговаривали, что и ему предстоит скорое расставание с «Северной Семирамидой», как называли в Европе русскую императрицу. Этого следовало ожидать. Значит наступал полный разрыв России с Францией. И Радищев представлял, в каком напряжении и испуге жила Екатерина II, боявшаяся распространения французской заразы в России.
Но газетные сообщения слишком запаздывали, и Радищев не знал последних событий.
Екатерина II пережила первый испуг французской крамолы, и теперь все её помыслы были заняты тем, как бы быстрее раздавить эту «гидру с тысячью двухстами головами» – Генеральные штаты Франции. Русская императрица чувствовала себя прочно. Не без хвастовства она говорила, что ей достаточно десять тысяч человек, чтобы пройти Францию от одного конца до другого и освободить её «от разбойников, восстановить монархию, монарха, разогнать самозванцев, наказать злодеев». Она навязывала всем идею, что защита французского короля – дело всех государей Европы.
Французские эмигранты, находившиеся под крылышком Екатерины и пригретые ею, уверяли, что под покровительством русской императрицы восстанет из праха монархия в их отечестве, и Франция вернёт себе прежний блеск. Мария-Антуанетта, которой помогал бежать Симолин, умоляла Екатерину созвать конгресс в защиту королевской Франции.
Легко было вскружиться голове Екатерины, всей душой ненавидевшей французских крамольников, и возомнить себя щедрой матерью и заступницей обиженных беглецов из Франции. И русские посланники вели сговор в Англии, Швеции, Пруссии, Австрии и других государствах о совместном подавлении французской революции.
Радищев, размышляя над событиями, происходящими в России и за её рубежами, пытался предугадать, как они будут развёртываться дальше. Он знал из газет – Россия, далёкая от Франции, хотела, чтобы в первую очередь на парижских патриотов-повстанцев обрушились германские страны «ибо ближе других были к опасному очагу революционного пожара, пламя которого могло прежде всего переброситься к ним».
Так оно и получилось. Австрия и Пруссия заключили наступательный и оборонительный союз, направленный против Франции. Французский король хотел войны и надеялся, что интервенты помогут ему восстановить монархию. Но выступление интервентов предупредила сама Франция, она начала войну и в неё втянулись сначала Австрия, потом и Пруссия.
Мария-Антуанетта выдала военный план австрийцам, в войсках Франции началась измена. На защиту Парижа поднялись волонтёры. Они шли в столицу Франции с оружием и знамёнами. Из Марселя в Париж пришёл отряд волонтёров с новой революционной песней, составленной Ружэ де-Лилем. Эта песня была «Марсельеза» – гимн французских революционеров.
И Радищев повторял начальные слова этого гимна, отвечавшие его внутреннему настроению, выражавшие его личное убеждение.
Вперёд, сыны отчизны милой,
День нашей славы засверкал!
На нас, грозя кровавой силой,
Стяг самовластия восстал!
Это были слова, в которых содержалась частица его чувств, его надежд, его веры. Разве не об этом он возвещал в своей оде «Вольность», призывая народ привести царя на плаху, поднять знамя революции и свергнуть ненавистное свободному человечеству самодержавие?
Невольно вспомнился Тобольск, разговоры в доме Дохтуровых с Панкратием Платоновичем Сумароковым, учителем философии и красноречия Иваном Андреевичем Лафиновым о Франции, открывающей новую эру человечества. Каким огнём дышали слова Лафинова, как блестели глаза Сумарокова, когда они говорили о революционном Париже! Слова их будто звучали сейчас в ушах Радищева. Он пытался тогда остудить их пыл и внушал им – трезвее и глубже смотреть на события, не поддаваться первому чувству, а проверять всё разумом, брать на веру не сразу. Александр Николаевич даже теперь затруднился бы ответить, почему он был осторожным и сдержанным в разговоре с тобольскими друзьями, умалчивая о самом главном, что волновало их и попрежнему продолжает волновать его.
Радищев искал среди газет сообщения о Марате, но их почему-то не было. Судьба этого друга французского народа особенно интересовала Александра Николаевича. Что с Маратом? Как он отзовётся на происходящие события в Париже, какой предпримет шаг?
Радищев обдумывал всё сначала, анализировал все события и взвешивал их, пытаясь предугадать, куда их направит течение истории. И думая о Франции, он видел родную Россию, она приковывала его внимание, как мать своё дитя, вскормившая его молоком.
Расчёт, сделанный Екатериной, был правильным. Пока на Западе бушевало пламя войны парижан с интервентами, русская императрица успевала внутри страны душить всякую крамолу. Московский главнокомандующий Прозоровский получил её инструкцию – усилить наблюдения за масонами, за Николаем Ивановичем Новиковым. Было заведено дело о распространении запрещённой литературы, Екатерина, наученная горьким опытом, боялась, как бы не объявился второй Радищев со своим новым «Путешествием» – зловредным и крамольным сочинением. Императрица была убеждена, что Радищев имел своих сообщников и, сослав главаря в Илимский острог, она искала их всюду, и прежде всего в масонах.
Екатерина II боялась тайного заговора, к которому мог быть причастен и наследник престола Павел, покровительствовавший одному из масонских орденов.
В начале 1792 года был убит шведский король Густав III. Это могло повториться в России. Как только в руки Екатерины II попали доказательства, что Николай Новиков имеет сношения с наследником, незамедлительно последовал указ об аресте книгоиздателя. Поводом послужило издание им сочинения «История о страдальцах Соловецких». Указ гласил:
«Недавно появилась в продаже книга, церковными литерами напечатанная, содержащая разные собранные статьи из повествований раскольнических, как то: мнимую историю о страдальцах Соловецких… повесть о протопопе Аввакуме и прочие тому подобные, наполненные небывалыми происшествиями, ложными чудесами, а притом искажениями во многих местах дерзкими и как благочестивой нашей церкви противными, так и государственному правлению поносительными».
Екатерина II видела в масонах заговорщиков против церкви и государства Российского и вступила с ними в жестокую схватку.
Радищев не мог знать, что в это время Прозоровский производил обыск в доме Николая Ивановича Новикова, опечатывал книжные лавки, конфисковывал книги. Слухи об аресте неутомимого издателя просвещения россиян дошли до Илимска много позднее.
Но сейчас, читая русские и заграничные газеты, Радищев из разрозненных фактов и событий складывал общую картину и приходил к выводу – Екатерина повела беспощадное наступление на передовых людей отечества – истинных сынов – патриотов, желавших трудами своими помочь России сбросить с себя вековую отсталость и темноту, чтобы отечеству стать во главе цивилизованного мира.
Александр Николаевич, оторванный от большой и кипучей жизни, находясь в своём илимском уединении, не мог стоять в стороне. История не простила бы ему равнодушия к происходящим событиям. И перо Радищева оставляло на бумаге строку за строкой… Писатель-революционер не мог молчать и будучи в изгнании.
11
Рука Александра Николаевича писала. На одухотворённом лице, как в зеркале, отражались мысли, захватившие его. Оно то сияло, то делалось гневным, то суровело, то было спокойным. Самые тонкие волнения его души и сердца выражались на лице мимикой или неожиданными, порывистыми движениями рук, головы, всей его красиво сложенной фигуры, физически окрепшей в последнее время.
На Радищеве, поверх шёлковой рубахи, была одета тёплая меховая жилетка, плотно облегающая тело. Наклонённая голова его с посеребрёнными волосами, зачёсанными назад, с гордой посадкой на мускулисто-жилистой шее, своей красотой всегда задерживала взгляд Елизаветы Васильевны, любившей незаметно, со стороны, наблюдать за работой Радищева.
А Радищев, когда писал, забывал обо всём окружающем, часто даже не слышал, как входила Рубановская и, только чувствуя её пристальный, продолжительный взгляд на себе, догадывался о её присутствии, отрывался от работы, поворачивал голову в её сторону и молча, благодарно смотрел на неё своими счастливыми глазами. Она тоже молча поднимала руку, говоря своим жестом «понимаю тебя и не буду мешать», улыбаясь, тихо уходила из комнаты.
Александр Николаевич продолжал писать. Густые, чёрные брови его хмурились, словно переламываясь посредине, сдвигались, и оттого глаза Радищева становились строже. Иногда он закусывал нижнюю губу, будто сердясь на то, что из-под пера появляются не те слова, которые нужны.
Тогда Александр Николаевич, отложив перо, вставал и прохаживался по комнате, то быстро, то медленно, взвешивая написанное и думая, что ещё необходимо изложить ему.
Часто Елизавета Васильевна захватывала его тихо сидящим за столом, будто заснувшим от утомления, с лицом, закрытым руками. В такие минуты он над чем-то напряжённо думал, совсем не замечал и не слышал её появления, и Рубановская тихо удалялась. Были случаи, когда он просиживал в таком состоянии часы и, Елизавета Васильевна, заглянув раз, другой, наконец предлагала ему стакан горячего чая или кофе с тем, чтобы вывести его из этого напряжённо-сосредоточенного состояния.
Радищев молча исполнял всё, что она предлагала, не отвлекаясь от мысли, занимавшей и захватившей его до предела. Но были случаи, когда он, наоборот, обрадованный её внезапным появлением, горячо, страстно, увлекательно начинал излагать ей то, что занимало его, или вдохновенно читал уже написанное, и ей казалось в такие минуты чёрные глаза его искрились.
Порой Радищев хватался за голову, будто старался удержать внезапно осенившую его мысль или барабанил рукой по столу.
– Вот ведь появилась и спряталась тут же, как испуганная, – выражал он вслух то, о чём думал.
Александр Николаевич уходил от стола к книжной полке и там перелистывал то одну, то другую книгу, и, точно посоветовавшись со своими друзьями, возвращался к столу и быстро-быстро писал, боясь, чтобы вновь не прервалась мысль, не наступила минута творческой усталости и бессилия.
Были моменты, когда и книги не помогали ему.
Радищев одевался и шёл побродить по Илимску, подышать свежим воздухом, напоённым, зимой и летом, чудесным, бодрящим запахом тайги.
Однажды Елизавета Васильевна застала Радищева стоящим возле стола и громко перечитывающим написанное.
– Будто заучиваешь что-то, Александр, и так громко бубнишь, что тебя слышно в соседней комнате, – полушутливо сказала Рубановская.
– Увлёкся, Лизанька, увлёкся. Ты только послушай. Мысль, долго занимавшую меня, наконец-то кратко выложил, как хотелось мне. Страницы исписал, чтобы сжато передать её суть и, вот, нашёл. Радуюсь, что достойно отдал справедливость русскому народному характеру в назидание потомству.
– О чём ты? – спросила Рубановская.
Александр Николаевич шагнул ей навстречу, привлёк к себе, прошёл до диванчика и присел вместе с нею.
– Третий век пошёл, как русские открыли своему отечеству эту замечательную страну Сибирь, – с увлечением заговорил Радищев. – Шли сюда казаки и земледельцы, ремесленники и разный люд, несли в глухой и отдалённый край русскую жизнь. Начал великий поход от Московии на Восток Ермак Тимофеевич, продолжили его казаки, землепроходцы, а теперь завершают у берегов Нового Света мореходы Григория Ивановича. Какие гигантские шаги свершены, какая твёрдая поступь была!
Александр Николаевич прищурил свои глаза, словно так яснее видел и живее представлял то, о чём говорил.
– Хотелось мне, Лизанька, – он нежнее прижал её к себе, – сказать о подвиге, свершённом нашими людьми, выразить самое главное в их характере, самое отличительное в русском народе. И вот нашёл, понимаешь, нашёл, как можно было бы кратко сказать о большом и великом свершении в истории…
– Прочти скорее, – нетерпеливо попросила Елизавета Васильевна.
– Слушай, – и он стал читать:
«…Здесь имеем случай отдать справедливость народному характеру. Твёрдость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ Российский. И если бы место было здесь на рассуждении, то бы показать можно было, что предприимчивость и ненарушимость в последовании предпринятого есть и была первою причиною к успехам россиян: ибо при самой тяготе ига чужестранного, сие качества в них не воздремали. О народ, к величию и славе рождённый, если они обращены в тебе будут на снискание всего того, что сделать может блаженство общественное!»
Он прочитал и посмотрел на подругу счастливыми глазами.
– Каким-то новым светом всё озарено, – сказала Елизавета Васильевна, – а каким, выразить, право, даже не смогу. Сильным, ярким…
– Исконно русским, Лизанька. Только россиянам под силу подобные творения! Превращение пустых земель от Урала до Америки, в страну, где бьётся умная жизнь и множатся великие подвиги потомков товарищей Ермака, что может быть ещё краше и величественней в нашей отечественной истории! Ты не можешь представить себе, не представляю и я, как расцветёт сей край русский, когда раскрепостится народ наш, станет вольным от ига рабства! Какие дела совершат тут русские, какие подвиги ещё впишут в свою историю! Лизанька! Имя русских будет бессмертно в истории человечества.
– Бессмертно! – очарованно сказала она и повторила: – О, народ, к величию и славе рождённый!..








