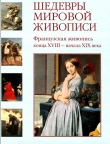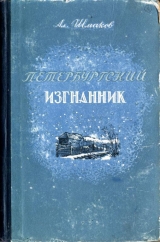
Текст книги "Петербургский изгнанник. Книга вторая"
Автор книги: Александр Шмаков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«Илимские всяких чинов люди, не стерпя от него, Богдана, налог и обид и разорения, ему, Богдану, от прихода отказали».
Как это всё походило на бунтарские круги, созывавшиеся Степаном Разиным на Волге и Дону?
Мирской сход после устранения воеводы Челищева от власти «сажать его в воду», вместо мучителя и душегуба, решил, что ведать делами казаков, посадских людей будут выборные «своей братией». Вместо прежнего воеводы избрали мирское управление, принявшее от старого целовальника по расписному списку всё казенное имущество – деньги и порох. Воеводский хлеб, хранившийся в амбарах, восставшие разделили между собой.
Три года продолжалась мирская власть, пока в Илимский уезд не приехал вновь назначенный сибирским приказом воевода Фёдор Качанов. Он учинил расправу над бунтарями – «воровскими людьми».
Зачинщики восстания Михаил Алексеев и Феодосий Матвеев были казнены, сложили свои буйные головы за мирское дело.
В своём донесении в Москву воевода Качанов писал:
«Красноярцев Мишку Алексеева и Федоску Матвеева за многие их воровские возмущения и за затейные дела велено в Илимске дать время на покаяние и учинить им смертную казнь, – читал Радищев, – и в народе велено мне, холопу твоему, сказать в Красноярской послать, чтоб впредь в Красноярске и повсюду всяких чинов люди жили смирно и никаких непотребных делов не касались, а за всякие злые дела, к чему они впредь касаться станут, опасались бы твоего, великого государя, жестокого наказания и казни…
Мишка и Федоска казнены смертью, и в народ твой великого государя указ в Илимску всякому чину тутошних людей и в Красноярской к стольнику и воеводе к Ивану Мусину-Пушкину писал, а свою отписку к тебе, великому государю, в Москву в Сибирский приказ послал я, холоп твой из Илимска».
Смелые повстанцы, как живые, стояли перед Радищевым и он словно только что беседовал с ними. Как близко было ему чувство народного возмущения и недовольства, чувство ненависти и мщения!
Александр Николаевич не заметил, как прошло время и в окошко ударил золотой луч вечернего солнца. Пора было возвращаться домой, он слишком продолжительно задержался на прогулке, и Елизавета Васильевна наверное уже обеспокоена его отсутствием. Но Радищев был ещё во власти этих важных для него документов, рассказывающих о событиях совершенно ему незнакомых и новых. Он видел, что народ всегда настойчиво искал правду и выход из своего тяжёлого положения находил в восстании.
«Восстание, думал Радищев, – это наивысший акт народного творчества, в нём скрываются несметные силы, помогающие народу не только сбросить вековую кабалу, но и найти формы мирского управления – зародыши будущей совершенно новой государственности».
Александр Николаевич всегда находил в истории подтверждения своим мыслям. Документы об илимском восстании подкрепляли в нём прочность сделанных им ранее выводов. «В трудных поисках правды народ одерживает победы и терпит поражения, но, накопив в себе силы, снова и снова поднимается на борьбу», – размышлял Радищев. – «Степан Разин со своей вольницей первым заложил камень непримиримой крестьянской борьбы с произволом царской власти. Илимское восстание было похоже на эхо той борьбы. Провозвестником грозных событий, которые могли вновь повториться, было движение, поднятое Емельяном Пугачёвым».
А мысли всё рождались и рождались. Александр Николаевич находился под впечатлением прочитанного.
«Восстание Пугачёва – крестьянская не корыстолюбивая война», – рассуждал он и оправдывал её, эту войну как справедливую, ибо в ней возмущённый народ боролся против притеснителей, добиваясь желанной цели.
– Видать бумаги-то о воровских людишках пришлись по душе? – прервал глубокую задумчивость Радищева Кирилл Хомутов, давно ждавший момента, чтобы заговорить с ним.
– По душе, Кирилл Егорович, – сказал Александр Николаевич с такой тёплой проникновенностью и благодарностью, что канцелярист был поставлен Радищевым втупик.
Он ожидал услышать осудительное слово делам воровских людишек, взбунтовавшихся против воеводы, а уловил в голосе этого странного столичного чиновника одобрение их поступкам. Кирилл Хомутов, пытавшийся всё это время понять и по-своему определить Радищева, так и не мог дойти до той истины, которая бы ему объяснила всё в этом человеке. Государственный преступник оставался попрежнему загадочной и непонятной личностью для Хомутова и он силился разгадать Радищева.
Когда Хомутов показал ему старые бумаги про Берингову экспедицию, Радищев отозвался об её участниках, как людях, делающих большое и нужное дело, а о царе Петре сказал с похвалой. Заглянул он в сорокаалтынную книгу и вроде с недовольством стал говорить о штрафах, осудительно высказался о распоряжении земского исправника, запретившего рубить листвяжный и сосновый лес. Теперь, сбитый с толку, канцелярист Хомутов не знал, как заговорить с Радищевым о повстанцах, чтобы не попасть самому впросак.
– Прочитал я, Кирилл Егорович, бумаги и задумался над тем, как жестокая печаль возжигает свет разума в душах русских крестьян и заставляет их не токмо проклинать своё бедственное состояние, а искать ему конца…
– Затрудняюсь, что и молвить мне, – развёл руками Хомутов.
– Как думаешь, хорошие или плохие дела творили твои деды и прадеды, а? – спросил прямо Радищев.
– Не моего ума рассуждение, – хитровато сощурив глаза, ответил канцелярист.
– Так ли?
Хомутову стало нестерпимо душно от такого щекотливого разговора. Он вытер рукавом посконной рубахи пот на лбу и решил, что ему лучше всего пока промолчать.
– Подумай Кирилл Егорыч, – уходя сказал Радищев, – а в следующий разок загляну и поговорим с тобой…
Хомутов, чтобы скрыть растерянность и притти в себя, подошёл к кадушке, выпил ковш студёной воды, протёр рукой усы и бороду.
– Ну-у и загадку заганул, – сказал он, покачивая головой. Он насыпал на ноготь большого пальца табаку из берестяного рожка и нюхнул его. – Мотай на ус, Аверка, как с большим человеком-то трудненько разговаривать. А-апп-чхи! Башковитый, себе на уме. С ним не заметишь, где упадёшь, а где станешь… А-ап-чхи! Ухо востро держи… А-ап-чхи!
4
Документы об илимском восстании крестьян явились первым толчком к творческой работе Радищева над историческим сочинением «Слово о Ермаке». Многое, что ещё было не ясно вчера, теперь прояснилось, всё, о чём он подолгу размышлял в последнее время, выкристаллизировалось в его сознании, и весь жизненный материал, который Александр Николаевич наблюдал и отбирал из тысячи, казалось бы, самых обыденных и ничем не выделяющихся фактов и явлений, приобрёл своё звучание. Наблюдения над людьми, разговоры с ними, примечательные факты, вычитанные из разных книг или почерпнутые им из незнакомых архивных бумаг, всё-всё теперь имело для него огромное значение.
После продолжительного перерыва Радищев взялся за перо, чтобы написать о том, что вынашивал все эти дни. И он знал хорошо, что до тех пор пока не выложит на бумагу всего того, что волновало, он не сможет быть спокойным.
Многое из того, о чём он раньше думал совсем по-иному, силою фактов, обнаруженных им в архивных бумагах илимской земской канцелярии, приобрело для него совершенно новое значение. Глубокий смысл этих фактов помогло уяснить его невольное путешествие из Санкт-Петербурга в Илимск, его жизнь изгнанника, знакомства и встречи с людьми, стоящими у кормила этой жизни, – простыми земледельцами, охотниками-промысловиками, купцами, чиновниками, встречи с такими же «несчастными» – ссыльными, как и он, людьми.
Теперь, когда внутренний творческий процесс, не дававший ему покоя, достиг своего высшего напряжения и зрелости, Радищев сел за сочинение «Слово о Ермаке». В этом сочинении ему хотелось последовательно изложить героические страницы истории замечательного края России, куда его забросила судьба, края, куда он охотно поехал бы добровольно, чтобы познать его людей – потомков Ермака, покрывших себя неувядаемой славой.
Что двигало их самоотверженностью? Какая могучая сила толкала их в глубь неизведанных окраинных земель Сибири? Нажива? Да, одни из них хотели разбогатеть. Край изобиловал несметными богатствами, которые манили людей, но лишь немногим удачникам богатство давалось в руки, а остальные гибли. Других влекло иное чувство, отнюдь не корысть. Ими владело ненасытное любопытство познания – что же за люди там живут, каковы они собой, что за земли простираются за степями, тайгой у неизвестных морей и рек? Это было очень сильное чувство, заложенное в природе русских людей, и противостоять ему не хватало сил. Душа рвалась вперёд и жаждала неузнанного и неизведанного, покрытого тайной, пути к которому были трудны, но привлекательны своей трудностью.
Третьими же, которых было большинство, руководило сознание, что, открывая новые земли, они расширяют владения своего отечества, делают тем самым благое и полезное дело.
Как бы там ни было, от всех, кто пробирался в эти далёкие края, в большинстве своём неграмотных людей, дальние походы, полные лишений, грозящие на каждом шагу гибелью, требовали отчаянной смелости, чудесной мудрости и богатырской выносливости. Надо было уметь жить, закладывать остроги, строить города в крайнем напряжении своих сил, сочетать ратные и трудовые подвиги.
Первыми шли казаки. Уходя в походы, они обрекали себя заранее на лишения и невзгоды, подвергались всевозможным испытаниям, проверяли своё мужество, приобретали новую закалку своего характера.
И Александр Николаевич думал, что казакам могло по справедливости казаться, что те, кто из России пойдёт вслед за ними, не будет иметь тех препятствий в пути, которые имели они: ибо, если в новом деле труден первый шаг, второй и все последующие за ним представляются уже легче. Колумбу для открытия Америки нужно было счастливое сочетание многих великих качеств и дарований. Теперь всякий простой кормчий ведёт свой корабль к берегам Нового света беспрепятственно и смело, зная, что курс его правильный и в назначенный срок он будет в желанном месте.
За казаками шли смелее на Восток пашенные крестьяне, ремесленники, устремлялся беглый люд. Все искали там своей новой доли, своего счастья, своей воли.
И всё же нельзя было не заметить главного стремления землепроходцев – найти и разведать в тех землях, куда они приходили, – новые промыслы, на плодородных землях разбить поля, посадить огороды. Они шли в незнакомые края, как добрые и сильные соседи, стремясь прежде всего установить дружеские связи с местными коренными жителями, передать им свои знания, привить любовь к неизвестным им промыслам, земледелию и культуре. Не так ли поступают старшие братья в большой семье, делясь накопленным опытом с младшими братьями?
Путь на Восток от Урала До Курильских островов представлялся Радищеву трудовым подвигом русского народа, показавшего не только своё упорство в достижении поставленной цели, но и свою кипучую энергию, своё трудолюбие, свою талантливость!
Славную страницу истории края открывал поход Ермака, который старался победу над поработителями народов Сибири, приобретённую в жестоких схватках, закрепить своим мягкосердечием. Освобождённым народам он оставлял полную свободу жить попрежнему, ни в чём не стесняя их, и довольствовался тем, что обязывал платить их небольшую дань пушниной и съестными припасами, необходимыми для пропитания его воинов. Владычество Кучума, державшееся на насильственном порабощении народов, рассыпалось с приходом Ермака.
Образ смелого и твёрдого в своих предприятиях мужа стоял перед ним теперь во всём величии и славе, как умного и дальнозоркого вождя из народа.
Значение Ермака состояло в том, что после его походов в глубь страны устремились безымянные землепроходцы. Брешь была пробита. Дикая Сибирь обживалась и превращалась в русский край, в неотъемлемую часть могущественной России.
5
В комнате Рубановской находились Дуняша и Настасья. Женщины сидели за работой. Елизавета Васильевна – за вышивкой, Дуняша – за шитьём распашонки, Настасья, постукивая спицами, вязала из заячьего пуха тёпленькие чулочки.
Между женщинами шёл задушевный разговор о том, что тревожило каждую из них. Больше всего слышался настойчивый, убеждающий голос Настасьи.
– Как там ни судите, голубушка моя, а обзакониться надо было…
Настасья нарочито растягивала слова, осторожно подбирала их, чтобы не обидеть Елизавету Васильевну. Но какие бы слова не были ею выбраны и, как бы мягко, осторожно и дружественно не были сказаны, они болью отзывались в сердце Рубановской. Елизавета Васильевна и сама много думала о своём браке с Радищевым.
– Настасья Ермолаевна, с того дня, как я полюбила Александра Николаевича, – говорила спокойно она, – всё переменилось для меня…
– И всё же без церковного благословения, – настаивала на своём Настасья, – нет святой любви. Такова уж наша бабья доля…
– Почему же?
– Не хорошо, Лизавета Васильевна, нам, бабам, без венца жить. Грешно…
– Один бог без греха, – вставила нетерпеливо Дуняша, во всём сочувствовавшая Елизавете Васильевне с того самого памятного утреннего разговора в Санкт-Петербурге, когда Рубановская спросила её, Дуняшу, не побоится ли она вместе с нею поехать в далёкий край за Александром Николаевичем.
– Помолчи, бедовая, послушай, – наставительно и строго сказала Настасья.
– Надоело уж слушать всё одно и то же… По-старому судите…
– А ты, бойкая, по-новому?
– По-новому!
Елизавета Васильевна глубоко вздохнула.
– Может и грешно, Настасья Ермолаевна, – сказала она, – но всё же для меня нет ничего превыше моей любви…
– Не пойму я такой любви, – отложив чулочек со спицами на колени, сказала Настасья.
– Где уж понять! – опять вставила Дуняша, – небось обвенчали вас со Степаном-то Алексеевичем, а вы может друг дружку не знали до того…
– Свыклись-слюбились, – сказала Настасья, – а всё же венчаны.
– Разве то любовь? – горячо проговорила Дуняша, и тоже, отложив шитьё в сторону, мечтательно продолжала. – А я бы ежели встретила такого человека, как Александр Николаевич, и не подумала бы о венце… На край света за ним побежала бы. Одно счастье глядеть на такого, а не то, что жить с ним…
– Срамница ты, – безобидно сказала Настасья, – тебя не переговоришь и не переспоришь…
Елизавета Васильевна встала, отошла к окну. Ей надо было погасить вспыхнувшую внутри боль, не показать её. Александр Николаевич всегда учил её быть спокойной, твёрдой и она искренне хотела быть такой не только в его глазах, но и перед Настасьей с Дуняшей.
– Я чувствую, – сказала она, – что и бог простит меня. Ведь я пришла со своей любовью в тяжкие для него годы и помогла ему перенести горе несправедливого наказания, поддержала в нём мужество!… Разве так я против бога поступила, а?
– Я не осуждаю вас, Лизавета Васильевна, – смирясь, сказала Настасья. – Бог с вами, живите на радость и счастье… Я как бы про себя говорила. Доведись мне, я не смогла бы так…
– А я смогла бы! Ей-богу, смогла бы…
– Смогла бы! – повторила Настасья, – молода-а ещё рассуждать-то так…
Разговор оборвался. Опять застучали спицы Настасьи. Продолжала шить распашонку Дуняша. И, если Настасья не догадывалась, какое смятение в душе Елизаветы Васильевны произвели её слова, то Дуняша, глубоко изучившая Рубановскую, знала, что разговор этот не остался для той бесследным.
Дуняша пристально взглянула на Елизавету Васильевну. Она старалась по выражению лица уловить, как Рубановская приняла Настасьины слова, но, кроме задумчивости на смугловатом лице её, Дуняша ничего не уловила. Глубоко сочувствуя Рубановской и считая, что она во всём права, хотя и поступает не так как другие, а наперекор всем и всему, Дуняша называла про себя Елизавету Васильевну счастливой и одновременно несчастной. Счастливой, по Дуняшиному представлению, Елизавета Васильевна была потому, что горячо любила Радищева, а он отвечал на её любовь глубокой привязанностью. Несчастной она была потому, что полюбила Александра Николаевича, связала себя с ним без церковного благословения, без венца, как сказала Настасья.
Дуняша, только что защищавшая Рубановскую, в то же время чувствовала, что доводы её против Настасьи были неубедительны. Ей всегда было жаль Елизавету Васильевну, а сейчас эта жалость наполнила всё существо Дуняши. «Вот, ведь, сложится так жизнь, – думала она. – Снаружи хорошо, а внутри полным-полно боли».
Но вместе с чувством жалости к Рубановской, Дуняша оправдывала всё в жизни Елизаветы Васильевны ради её любви к Александру Николаевичу, которого Дуняша считала необыкновенно умным и самым хорошим человеком, какого только она знала. Если Радищев находит, что надо поступать, как повелевает сердце, и без венца живёт с Рубановской, значит так надо. Дуняша знала, что любовь их сильна и без церковного благословения, значит так тоже можно любить и жить.
Елизавета Васильевна тоже думала, что любовь её к Александру Николаевичу сильнее всего на свете и ради этого можно и не вступать в церковный брак. Не будь изгнания Радищева, вероятно, и она, в обычных условиях жизни не решилась бы на шаг, который будет осуждён в обществе.
Пусть она нарушила своей любовью установившиеся веками понятия о браке, но кто мог бы предусмотреть то, что заставило пойти её на такой шаг? Кто может осуждать её за любовь к человеку с прекрасными качествами ума и сердца, которых она никогда и нигде не встретила бы в другом своём избраннике? Она полюбила Александра Николаевича в несчастье его и готова принять за свою жертвенную и самозабвенную любовь самое строгое осуждение, если она его заслуживает.
До разговора, затеянного Настасьей, Рубановская не так остро чувствовала, что вопрос о их браке с Радищевым касается не только их лично, но и приобретает ещё и общественное звучание.
Елизавета Васильевна была благодарна Настасье за весь разговор. Это был первый гласный суд, первое испытание твёрдости её духа. Рубановская теперь наверняка знала, что вот так же о ней скажут не только близкие и родные ей люди, скажут все, в чьих глазах поступок её заслуживает осуждения.
Как не тяжело было сознавать это, но Елизавета Васильевна должна была быть готовой к ответу перед всеми, кто может спросить её, почему она поступила против установившегося мнения, обряда, закона. Она ещё глубже поняла, что всё самое лучшее и сильное и заставившее полюбить Радищева, как раз и заключалось в том, что она, связывая навсегда свою жизнь с его жизнью, становится безвозвратно на его дорогу отрицания всего представляющегося до сих пор незыблемым, святым, вселявшим в людях вечную покорность и преклонение. Она восстаёт вместе с ним против ненавистных Радищеву нынешних порядков.
Её ещё пугало то, что, отрешась от старого, она навсегда порывала с привычным ей высшим светом, но Рубановскую радовало другое – она становилась достойной подругой Радищева.
Елизавета Васильевна обрадовалась этому простому и единственному выводу, к которому пришла после раздумий, как неизбежному концу. По-другому и быть не могло. Это её живительный источник, из которого предстоит черпать теперь энергию, подкрепляющую её во всём.
Рубановская подошла к Настасье и молча поцеловала её в суховатые тонкие губы.
– Что вы, Лизавета Васильевна?
– Спасибо тебе, Настасья Ермолаевна, за урок.
– Славу богу, – облегчённо произнесла обрадованная Настасья, – я уж подумала и впрямь, не обидела ли вас, по своей глупости да неразумию.
– Слова твои многое открыли для меня…
– Обиду причинить другому, Лизавета Васильевна, грех на душу взять…
– Бог рассудит, Настасья Ермолаевна, – сказала Елизавета Васильевна, – права я или не права, если люди осудят меня за любовь мою к Александру Николаевичу.
Успокоенная Настасья неожиданно встрепенулась.
– Пойду-ка я заготовлю четверговую соль…
– Какую? – не поняв о чём говорит Настасья, спросила Рубановская.
– Четверговую. Её хранят, как лекарство, от дурного глаза, поят ею коров и телят, когда они больны. Четверговая соль от разных недугов помогает…
– Соль-то?
– Только четверговая, голубушка моя.
– А как её готовят?
– Завяжут в узелок и положат в печь на великий четверг.
– Предрассудки какие-то…
– И правда предрассудки, – поддакнула Дуняша.
– Ни к чему, – оказала Рубановская.
– В старину так поступали. И золу четверговую из загнетки сохранить надо, хорошо спасает овощи в огороде от всякой напасти…
– Не дай бог, Александр Николаевич узнает, посмеётся над нами…
– Я тихонечко сделаю…
Настасья вышла и осторожно прикрыла за собой дверь.
– Неугомонная Настасья Ермолаевна, – заметила Дуняша, – то разговор такой заведёт, то опять со своей солью или золой…
– А всё же она хорошая женщина, Дуняша, – сказала Рубановская, – у неё доброе сердце. Она желает людям лучшего…
6
Наряду с творческими трудами у Радищева было немало заботы и по дому. Степан рачительно вёл небольшое хозяйство, но предстояло жить, хозяйство разрасталось и разрасталось. Надо было заглядывать вперёд, предвидеть, что потребуется завтра.
Александр Николаевич советовался со Степаном. Степан доказывал, что надо непременно завести ещё корову, лошадь. Значит надо было думать о корме для скота на будущую зиму. Покупать сено на базаре было дороговато, и Радищев заранее договорился арендовать свободные церковные луга.
Степан предложил:
– Аренда дело хорошее, надо нам, Александр Николаич, свои поля и луга завести.
– Возни много с ними.
– Зато надёжнее.
Александр Николаевич согласился со Степаном. Они решили, что с весной расчистят где-нибудь по долине Илима десятинки три-четыре земли да приарендуют столько же, чтобы можно было поочередно разбивать поля и луга и быть в состоянии содержать рогатый скот и лошадь. Сделать это не составляло большого труда; вместо одного лета на церковных угодьях, расположенных в долине, можно было арендовать земли и на несколько лет.
– Положитесь на меня, Александр Николаич. Всё сделаю. Мне-то такое дело сподручнее, а вам привычнее с бумагами возиться, мудрёные сочинения писать.
И всё же «возясь с бумагами», Радищев находил время заниматься хозяйством.
Надвигалась весна, и надо было подумать об огороде и саде. Занятие в огороде и саду привлекало его с многих сторон: будут свои овощи, ягоды, но самое главное – он глубже сможет вникнуть в жизнь растений, наблюдать за ними, если надо вмешиваться в их природу, приучая растения к жизни в разных условиях.
Радищев сожалел, что в молодости пренебрежительно относился к естественным наукам, особенно, к ботанике и минералогии. Он радовался, что недалеко от него, в Иркутске, жил замечательный естественник Эрик Лаксман и переписка с ним, советы его, помогут ему пополнить знания в этой области.
Александр Николаевич заранее обдумал, какие экскурсии он сможет совершить по Илиму, с чего начнёт своё знакомство с этим глухим уголком сибирского края. Размышляя об экскурсиях, он не подумал, дозволят ли ему совершить поездки по Илиму местные власти – Киренский земский исправник и заседатель Киренского земского суда.
Ему и в голову не приходило, что кто-то запретит совершать отдалённые поездки по Илиму, усмотрит в них «недозволенное занятие» для государственного преступника.
А пока ничего не омрачало его будущего. Радищев спокойно строил свои планы, намечал экскурсии и верил, что они дадут ему много интересного и нужного материала для его философских и экономических сочинений.
Александр Николаевич составил для себя твёрдый распорядок: с утра занимался с детьми, после обеда совершал недалёкие прогулки или трудился по хозяйству, а остальное время посвящал творческой работе. Свободные вечера поглощало чтение, помогавшее забывать об илимской жизни. Из книг, которые он привёз, и продолжал получать от друзей, Радищев пополнял свои знания во всех отраслях наук. Такой дружбы с книгами у него не было с лейпцигских лет его студенческой жизни.
Приобретаемые знания он тут же стремился претворить в жизнь, применить на практике или углубить их наблюдениями за природой, изучением пород, образующих Илимские горы. Совершая прогулки, Александр Николаевич пытался взобраться на ближнюю гору. Он хотел обозреть горизонт, узнать, из чего слагаются каменные громады, сурово выглядывающие из-под снега, чтобы раздвинуть свои понятия о природе края.
Взбираясь на гору, Радищев проваливался в глубокий снег. Без лыж невозможно было подняться на вершину, но Александр Николаевич делал несколько попыток, пока не убедился, что усилия напрасны, и не отложил своей затеи до лета.
На лето Радищев возлагал большие надежды, но их сорвали. Царские власти и тут, в изгнании, напоминали о себе. Они следили из Санкт-Петербурга за «государственным преступником», боясь, как бы и в ссылке, Радищев не был опасным для соблюдения всеобщей тишины и спокойствия Российского самодержавия.
7
Елизавета Васильевна читала молитву, заученную с детства, громко повторяла её слова, но того чувства облегчения, которое раньше приносили ей знакомые слова молитвы, теперь у неё не было. Молитва словно утратила прежнее воздействие, и мысленно Рубановская была далека от того, к чему взывала молитва.
«Что бы это значило? – спрашивала себя Елизавета Васильевна. – Неужели вера моя поколеблена?» – и пуще прежнего принималась молиться, чаще осеняя себя крестным знамением и отвешивая поясные поклоны.
– Господи, прости меня…
Раньше, после того, как она кончала читать молитву, к ней приходило облегчение. Сейчас на душе Елизаветы Васильевны была прежняя тяжесть: молитва не помогала ей.
– Значит я грешна. Грехи мои мне не прощаются, – сказала она вслух.
Рубановская села на стул и опять задумалась. Она спрашивала себя: отчего всё это происходит, почему у неё исчезло восприятие молитвы, исчезла непонятная ей сила воздействия знакомых слов? Что же произошло с нею за последние полтора-два года, изменившее её душу?
Мысли её были противоречивы. В конце концов Елизавета Васильевна не в силах была разобраться в них. Всё, что раньше казалось для неё ясным, теперь после того, как она глубже задумывалась над своей жизнью, становилось сложным, запутывалось в непонятный клубок. В этом клубке всё было связано воедино: её любовь к Александру Николаевичу и людское осуждение, которого она боялась, пробуждение сознания, что она поступила правильно, и угрызение совести, что ею нарушен церковный обряд.
Это были минуты слабости, и разум её отказывался совсем понимать: так ли предосудителен её шаг и может ли он осуждаться светом?
Недавний разговор с Настасьей вновь всплыл в памяти, и она опять переживала всё, что было ею пережито тогда. Она говорила Настасье о своей любви к Александру Николаевичу страстно, убеждённо. Так это и было на самом деле.
«Я больше, чем люблю его, – думала Рубановская, – не будь его, не будет у меня и жизни».
И опять Елизавета Васильевна задавала себе вопрос, что скрепляло так прочно их союз, отчего любовь её к Александру Николаевичу с каждым днём становилась всё богаче и краше, открывала какие-то новые стороны, незнакомые для неё, не испытанные ею.
С тех пор, как Рубановская стала всё больше и больше задумываться о приверженности Радищева к своему делу, она становилась его единомышленницей. Могла ли она теперь стоять в стороне от всего, чем был занят Радищев, чему посвятил он, жизнь и отдал всего себя?
«Ты чувствуешь, ты начинаешь испытывать родство душ с ним», – сказал ей внутренний голос, который молчал в ней ещё несколькими минутами раньше.
– Да, да, родство души, – повторила она вслух. Это было для неё теперь самым важным и главным в жизни. Может быть это родство душ уже давно зарождалось в ней, ещё там, в Санкт-Петербурге, когда Радищев всё свободное от службы время посвящал своей книге, за которую теперь сослан? Рубановская припомнила, как он сначала упорно, настойчиво писал книгу, потом с таким же упорством и настойчивостью приобретал домашнюю типографию, затем печатал книгу, недосыпая ночами, и был счастлив тем, что делал.
Елизавета Васильевна тогда уже понимала, что Радищев – человек великой цели и все люди, свято приверженные своему делу, должны быть вот такие же твёрдые, упорные, настойчивые и мужественные.
Из всего, что ей запомнилось тогда, были вдохновенные и счастливые глаза Радищева. Они говорили ей: «жить для блага народа, нет более высшего счастья для человека».
И сейчас, с новой силой пережив чувства, испытанные Рубановской ещё в Санкт-Петербурге, когда они не были связаны узами брака, как теперь, она мысленно повторила:
«Жить, жить, жить ради такого замечательного человека!» Она любила Радищева, уважала его и дорожила им именно за высокие качества его характера. Не будь их в нём, она не решилась бы на тот шаг, который сделала, не последовала бы за ним в ссылку и навсегда не связала бы свою жизнь с его жизнью изгнанника в родном отечестве.
8
Весна запаздывала. Наступил апрель, а в тайге лежали глубокие нетронутые солнцем снега, и лишь почерневшая дорога да улочки Илимска указывали на признаки весеннего месяца. На полянках, у корней берёз, ёлок, осин появились лунки в подтаявшем мягком снегу.
Днём заметно потеплело, но тихими ночами землю сковывал всё ещё крепкий морозец, и луна с высоты неба заливала тайгу холодным светом.
Пришла пасха, ранняя в этом году, а в природе словно было рождество – всё белело вокруг, только вороны в неба устраивали свадебную игру и заполняли всё своим страстным карканьем. Прямо за садом, на огромной ёлке, было воронье гнездо, и Радищев заметил, что ворониха снесла яйцо.
Ранним утром в саду, как чёрные бусы, облепили берёзки прилетевшие тетерева и стали клевать почки, словно проголодавшиеся после дальнего перелёта. А где-то рядом, в тайте, запоздало токовал косач, должно быть ещё не опытный, молодой. Первый день пасхи Радищев встретил выстрелом в саду и принёс в подарок Елизавете Васильевне убитую тетёрку.
– В святой праздник не делал бы сего, – строго заметила она.
– Каюсь, не утерпел, – признался он.
Александр Николаевич подошёл ближе к Рубановской и, улыбаясь, поздравил:
– Христос воскресе, дорогая моя! – и крепко, страстно поцеловал в губы подругу. Рубановская чуть обиженно сказала:
– Так не целуются в христово воскресенье…
– Целуются ещё крепче, когда пасха не в церкви, а на сердце человека.
В этот первый пасхальный день в доме Радищева всем было легко, все чувствовали большой праздник.
С утра у церкви было особенно оживлённо. В воздухе разносился жиденький благовест колоколов. Степан с Настасьей ушли к заутрени с куличами и крашеными яйцами. Елизавета Васильевна, чувствуя, что ей будет тяжело простоять всю службу, не пошла в церковь. Радищев после удачного выстрела и подстреленной тетёрки решил прогуляться по улице, понаблюдать за илимцами. Только что кончилась обедня, а возле винного погребка Прейна уже буянили и шумели подвыпившие звероловы и охотники, приехавшие с семьями в церковь из отдалённых деревушек по Илиму.