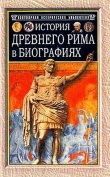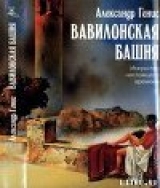
Текст книги "Вавилонская башня"
Автор книги: Александр Генис
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Эпилог
Высшим достижением демократии называют пульт дистанционного управления, который позволяет переключать каналы, не вставая с кресла. Благодаря этому маленькому аппарату зритель вернул себе контроль над голубоглазым монстром. Он, например, не позволяет подвергать себя демонстрации «коммершлс», перепрыгивая с рекламы на другой канал, которых уже сейчас в Америке с полсотни, а скоро будет с полтысячи. Вот на этом бескрайнем видеополе и резвится зритель с пультом в руках. Это называется «зэппинг» – порхать с канала на канал, нигде надолго не задерживаясь.
В безумии «зэппинга» есть своя система: вместо реки с сильным течением зритель как бы погружается в океан, в море, обтекающее его со всех сторон. Так зритель вырывается из рук автора – зрелище отобрали у его создателя.
Произошел демократический переворот, и истинным автором программы стал ее зритель. Манипулируя переключателем каналов, он из обрывков и фрагментов собирает сам себе персональное развлечение.
Конечно, тут важен не результат, который вряд ли будет вразумительным, а сам бунт против чужой, авторской, воли, важен протест против насилия формы.
«Зэппинг» в литературе – чтение ста книг разом, что, в сущности, равнозначно толстой газете, вроде воскресной «Нью-Йорк тайме». Другой вариант– книга, которая задумана так, что ее можно и нужно читать не подряд, а как попало. Все тот же Павич, недаром уже названный писателем XXI века, сумел превратить роман в самый подходящий объект для читательского «зэппинга», написав «Хазарский словарь», книгу без конца и начала.
Разрушая ставшую ложной целостность, мы разнимаем мир на фрагменты, элементы, «фантики», обращаем вазу в черепки, храм в руины, книги в отрывки. Пафос этого вандализма – созидательный, ибо за ним – надежда на новую цельность, такую, которая упразднит пагубное противостояние поэта и толпы и объединит их в творческом акте.
Гете, описывая римский амфитеатр в Вероне, говорил, что ее архитектура рассчитана на зрителей – они главное украшение. Толпа, выполняя декоративную функцию, создает из себя произведение искусства, которым сама же и любуется. Такая игра с массами, воспринятыми как эстетическое сырье, стала особенно популярной на последних олимпиадах, где зрители превращают стадион в сложные многоцветные картины. Массовое общество повсюду, где его собирается достаточно много, производит эстетические эффекты – будь то рок-концерт, праздничные шествия, фестивали, стадион или марафонский бег, собирающий миллионы горожан. «Хоровое» начало – непременная данность массового искусства. Так, в самой универсальности успеха американского кино чувствуется таинственная сила, источник которой прячется вдыхании мировой толпы. Голливуд, возвышающийся над языками, странами и народами, предстает посланцем третьей из тех могучих сил, что объединяют мир, – вслед за церковью и наукой приходит черед искусства. Первые две уже устроили свои революции в области духа и тела; может быть, пришла пора третьей революции – революции искусства?
Арнольд Тойнби, предваряя свое монументальное «Постижение истории», напоминает читателю, что процесс «постижения» состоит из двух фаз: собирание эмпирических данных и их обобщение, которое неизбежно опровергнут новые факты. В этом заколдованном колесе мы обречены крутиться вечно, потому что Вселенная разомкнута в бесконечность. Однако вселенная искусства отнюдь не разомкнута, художник только и делает, что замыкает вселенную, стараясь, чтобы концы не болтались. Чем больше этих болтающихся концов, тем ущербнее выходит картина мира. И так продолжается до тех пор, пока искусство не сдается. Тут-то и происходит великий раскол между художником, опустившим руки перед хаосом, и художником, прикрывающим нам руками глаза, чтобы мы этого самого хаоса не видели.
Покончить с этим расколом призвана новая целостность искусства, которую оно сможет обрести, преодолев на новом витке спирали и насилие гармонии, и свободу хаоса.
Что-то подобное уже происходит в кино, искусстве, по Сюзан Зонтаг, закрытом для интерпретации и потому с непонятной легкостью распоряжающемся в нашей душе. Кино, еще слишком молодое, чтобы страдать рефлексией, не изучает мифы, а творит их. Попадая в мифологическое поле кинематографа, мы ощущаем на себе живительные токи архаического синкретизма, умеющего властвовать, не разделяя высокое и низкое, вымысел и факт, сон и явь, форму и содержание, толпу и поэта.
Кино, пожалуй, приблизилось ближе других к главным эстетическим конфликтам нашего века, готовясь разрешить их не ответом, а примером, не мыслью, а чувством, не компромиссом, а парадоксом. Именно таким финальным парадоксом современной культуры мне представляется творчество Феллини, сумевшего дальше многих пройти и по пути хаоса, и по пути космоса.
Первая дорога завела его в «Сатирикон». В этом фильме все снято без перспективы: кадры – как плоские фрески на манер помпейских, взор постоянно упирается в стену – тут не существует будущего. Феллини отрезал античность от христианства с его эсхатологическим измерением, предусматривающим целенаправленный путь к эпилогу Страшного Суда. Мир «Сатирикона» живет без надежды на осмысление, по которому он, впрочем, и не тоскует, не зная, что потерял. Это нам, зрителям, жутко следить за долгой чередой эпизодов-приключений, за невнятной и бесцельной игрой фортуны, которая – единственная – управляет жизнью. Нам страшно жить в таком мире, и в этом победа Феллини, который, изобразив античность враждебной и чуждой, оправдал свой – наш – мир.
Хаотической вселенной «Сатирикона», где все говорят на непонятных языках, где жизнь – фрагмент без конца и начала, Феллини в своих исповедальных картинах – от кризисного «Восьми с половиной» до почти прощального «Интервью» – противопоставляет ироническую, ущербную, незначительную, пустячную, но все-таки цельность.
Если «Сатирикон» – монументальный портрет хаоса, то «Интервью» – застенчивая попытка гармонии. Чтобы пробиться к ней, Феллини бросил свое искусство вместе с героями, образами, сюжетами. Само кино принесено тут в жертву одной затаенной, робкой страсти: срастить экран с залом, найти, изобразить, воплотить душевную общность, соединяющую режиссера со зрителями. Это теплое чувство родственной близости, которая ни к чему не ведет и ничему не служит, возникает в чеховских пьесах, смягчая духовный разлад героев душевным родством их с автором. Но у Феллини автора уже нет – отказываясь от своей роли, от прав и обязанностей художника, маэстро нисходит в кадр. Он наравне со всеми вступает в хоровод, которым так триумфально и трогательно завершается «Восемь с половиной» и который так бесхитростно и отчаянно занял собой всю картину «Интервью». Встав в общий круг, Феллини зовет и нас, зрителей, занять место в хороводе, чтобы замкнуть собой Вселенную – отгородить своими спинами от хаоса теплый космос искусства.
1993
ЛУК И КАПУСТА

Во время Второй мировой войны Юнг писал, что перерождение Германии для него не было сюрпризом, потому что он знал сны немцев.
Мы не знаем русских снов (хотя, говорят, уже появился первый журнал, скупающий и изучающий сновидения соотечественников), но в нашем распоряжении есть нечто другое – искусство, которое, как утверждает тот же Юнг, «интуитивно постигает перемены в коллективном бессознательном».[8]8
Юнг К. Г. Проблемы души современного человека. //Архетип и символ. М., Renaissance, 1991. С.212.
[Закрыть] Сегодня стал очевидной неизбежностью такой «тектонический» сдвиг, вызывающий смену парадигм, а значит, наборов ценностей, типов сознания, мировоззренческих стратегий и метафизических установок. Попробуем разобраться в происходящем, прибегая к свидетельству культуры и жизни не только художников и писателей, но и зрителей и читателей, ибо не меньше поэтов в формировании «картины мира» участвует толпа, выбирающая именно те произведения искусства, на которых играют блики времени. Книжный развал – это тоже портрет эпохи.
Советская метафизика
Коммунизм чрезвычайно похож на язык. Как любой язык, он состоит из элементов, расположенных на двух уровнях, на двух этажах. Нижний (означающее) – это цвет светофора, верхний (означаемое) – смысл, который светофор вкладывает в этот цвет.
Если сравнить в этих терминах коммунизм с демократическим обществом, то получится, что демократия – это общество возможного, а коммунизм – царство должного: одна – плод случайных связей, другой явился на свет благодаря расчету и умыслу. Поэтому язык демократии – нестройный, случайный, необязательный и невнятный уличный говор. Источник организации, «грамматики» общества – свободнорожденный знак. Демократия хранит родовую память о том первоначальном моменте, когда в результате свободного волеизъявления знаки получили свою маркировку (продолжая аналогию со светофором, это момент, когда красный цвет назначили запретительным, а зеленый – разрешительным сигналом).
Как в космологическом «большом взрыве», «родившем» пространство и время, так и в этой своей отправной точке демократия раздала знакам их смыслы, их означающие и означаемые. Демократия постоянно сверяется с начальными условиями игры, которые были заключены в результате общественного договора (в США эту роль играет конституция). Этот кардинальный «нулевой» момент ограничивает демократию в прошлом, но в будущее она разомкнута до бесконечности. Поэтому «книга», написанная языком демократии, лишена сюжета. Это язык, существующий на уровне словаря как совокупность всех возможных слов, которые актуализируются, реализуются только в конкретной и неповторимой речевой ситуации.
Коммунизм строился от конца. Историческая необходимость лишала его свободного выбора, без которого вообще невозможно будущее. История, в сущности, уже свершилась, исполнилась, а произвол, каприз, случай – всего лишь псевдонимы нашего невежества, продукт неполного знания или непонимания мироздания, где все учтено неодолимой силой эволюции. Для фаталиста, как для свиньи, естественная, не предопределенная смерть-непостижимая абстракция.
Космологическая «нулевая» точка коммунизма помешалась не в прошлом и не в будущем, а в вечном. Поскольку финал был известен заранее, история приобретала телеологический характер, а все жизненные коллизии становились сюжетными ходами, обеспечивающими неминуемую развязку.[9]9
Вот яркое описание такого сознания:« Религиозное чувство заключается в том, что за явлениями зримого мира человек пытается угадать реальность иного, высшего порядка. Мир выглядит ареной действия тайных, глубоко спрятанных, невероятно могущественных сил». Быков Дм. Персонажи в поисках автора: К типологии советской религиозности. – « Литературная газета», 1993, 1 февраля.
[Закрыть]
Тут, как в хорошем детективе, не было ничего лишнего – все пути, даже обратные, неизбежно вели в Рим. В таких парадоксальных координатах уже непонятно, какой маршрут приближает, а какой – отдаляет от цели.
Коммунизм – это светофор-параноик, одержимый манией преследования и бредом сверх ценных идей: какой бы свет на нем ни загорался, он всегда означает одно и то же.
На этой параноидальной основе и строилась советская метафизика, позволявшая осуществлять повседневную и повсеместную трансценденцию вещей и явлений. Каждый шаг по «земле» – вспаханный гектар или забитый гвоздь, прогул или опечатка – отражался на «небе». Жизнь превращалась в тотальную метафору, не имеющую ценности без своей скрытой в вечности сакральной пары.
Подобное мироощущение близко к средневековому:
«Представление о небесной иерархии сковывало волю людей, мешало им касаться здания земного общества, не расшатывая одновременно общество небесное ‹…›. Ведь реальностью для него было не только представление о том, что небесный мир столь же реален, как и земной, но и о том, что оба они составляют единое целое – нечто запутанное, заманивающее людей в тенета сверхъестественной жизни»[10]10
Ле Гоф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., Прогресс-Академия, 1992. С.15.
[Закрыть]
В системе советской метафизики любое слово наделялось переносным значением, любой жест делался двусмысленным, любая деталь превращалась в улику. Жизнь протекала сразу в двух взаимопроникающих измерениях: сакральном и профанном. Вечное пропитывало сиюминутное, делая его одновременно и бессмысленно суетным и ритуально значимым. История перетекала в священную историю, физика – в метафизику, проза – в поэзию, философия – в теологию, человек – в персонаж, биография – в фабулу, судьба – в притчу.
В эсхатологических координатах коммунизма не было ничего постороннего Концу, той «нулевой точке», которая раздавала знакам смысл. Поэтому в языке коммунизма существовало только одно означаемое, у которого были мириады означающих.
Собственно, вся партийная система, дублирующая хозяйственную администрацию, занималась тем, что осуществляла коммунистическую трансценденцию – отыскивала связь любых означающих с этим единственным означаемым. Миллионы профессиональных толкователей приводили жизнь к общему метафизическому знаменателю, переводя тайное в явное, случайное в закономерное, временное в вечное, профанное в сакральное, хаос в порядок.
При этом само означаемое уже не имело собственного смысла. Это был окончательный, неразложимый, утративший свою знаковую бинарность абсолют. Поскольку о нем нельзя было сказать ничего определенного, он и воспринимался как «запредельная» земному бытию данность, не нуждающаяся да и не терпящая определенности.
Конечно, в разное время и в разных кругах у «абсолюта» были свои имена: коммунизм, коммунизм с человеческим лицом, правда, народ, демократия, родина. Важно не содержание всех этих часто взаимоисключающих трактовок абсолюта, а готовность считаться с ним. Главное _ вера в нечто несоразмерное личности, нечто заведомо большее, чем она, нечто такое, что наделяет смыслом слова и поступки, жизнь и историю.
До тех пор пока коммунизм был закрытой тоталитарной системой, он обеспечивал не только друзей, но и врагов таким метафизическим обоснованием, позволяя и вынуждая каждого сражаться – либо с собой, либо за себя.
Разоблачения тоталитарного режима не становились для него роковыми, потому что они одновременно увеличивали его мифотворческий потенциал, преумножая количество означающих для все того же одинокого, уникального в своей неописуемости означаемого.
Эмпирическая реальность считалась состоявшейся только после того, как она соотносилась с реальностью идеальной, вечной, параметры которой определяла конечная цель. Как сказал молодой философ И.Дичев, «прошлое тут заменял отчет, а будущее – план».[11]11
Дичев И. Шесть размышлений о постмодернизме. //Сознание в социокультурном измерении. М., 1990. С. З.
[Закрыть] Факт приобретал подлинное существование благодаря воссоединению со своим обозначаемым, когда обнаруживал скрытый смысл, то есть когда становился метафорой.
Главное в советской метафизике – методика метафоризации бытия. Истинной признавалась только реальность, «описанная» в планах и отчетах или романах и стихах.
В этом заключалась демиургическая претензия социалистического реализма, стремившегося «записать» мир, заменив его собой. Мечта соцреализма – знаменитая карта из рассказа Борхеса, которая изготавливается настолько полной и точной, что в конце концов заменяет собой страну, изображением которой она задумывалась.
Соцреализм, как и соответствующий ему тип сельского хозяйства, признавал лишь экстенсивное развитие, поэтому он вынужден был лихорадочно догонять жизнь, «записывая» все новые ее ареалы. Любая «незаписанная» тема ощущалась прорехой в самой ткани бытия.
Показательна история гласности, успехи которой отсчитывались по тому, насколько успешно покрывались текстом «голые» участки эмпирической реальности. Охота за тематической целиной, будучи особой формой спекуляции недвижимостью, создавала ощущение бума, ложность которого обнаружилась, когда стремительно канули в Лету многочисленные бестселлеры перестройки.
Не критика режима, а открытие его границ привело к краху советскую метафизику, которая могла функционировать лишь в закрытой системе. Эту замкнутость гарантировала цензура, причем не ее конкретные проявления, а сам факт существования запретов. Табу ограничивают пространство мифа, создавая необходимое напряжение между верхом и низом – между имманентной и трансцендентной реальностью.
Сколь бы «дырявыми» ни были цензурные границы, пока их можно было нарушать, советская метафизика сохраняла способность к воспроизводству. Так, уже в 1990 году тот же И. Дичев спрашивал: «Что будет, если нам скажут, что о всем можно писать? Тогда реальность в книгах самых смелых писателей испарится, иерархия ценностей распадется и кучи целлюлозы повиснут в бытийном вакууме. Значит, даже наиболее смелые не заинтересованы в снятии табу».[12]12
Там же. С.37.
[Закрыть]
Понятно, почему понуждаемая инстинктом самосохранения советская метафизика тщилась либо не заметить падения цензуры, продолжая разоблачения павшего режима, либо вынуждена была нарушать другие табу (секс, мат, насилие, расизм). Здесь же следует, видимо, искать и причину идейного перерождения многих диссидентов, не вынесших пребывания в «бытийном вакууме».
Перестройку можно сравнить с Реформацией, которая, как писал Юнг, оставила человека наедине с «десимволизированным миром». Крушение коммунизма лишило общество наработанного им символического арсенала и обрекло его на метафизическое сиротство. Из аксиологической[13]13
Аксиология – учение о ценностях
[Закрыть] бездны доносится мучительный вопрос: «Во имя чего?»,[14]14
См., напр., статью Г. Померанца « Из чаши стыда», в которой автор предлагает интеллигенции заняться моделированием нового универсального означаемого для постсоветского общества. Один из вариантов – « русская культура».– « Сегодня», 1994, 15 января.
[Закрыть] подразумевающий, что жизнь без ответа на него не стоит продолжения.
Утратив свое означаемое, коммунистический язык умер. Знаки, став одномерными, потеряли способность выражать что-либо стоящее за ними. Светофор опять сошел сума, но на этот раз у него шизофрения: в его расщепленном сознании красный цвет может в любую секунду поменяться смыслом с зеленым, а значит, связь означающего с означаемым становится произвольной.
В качестве примера такой «шизофренической» знаковой «системы, сконструированной на единственном уровне обозначения», отец структурализма К. Леви-Строс приводил нефигуративную живопись. Поэтому можно сказать, что постсоветское общество из картины Лактионова переехало в картину Кандинского.
В литературе такую «шизореальность» воссоздает Владимир Сорокин. Так, один из его нескольких неопубликованных романов – «Норма» – целиком посвящен миру распавшихся знаков.
Первая часть книги – монотонные зарисовки банальной советской жизни. В каждой из них есть сцена поедания таинственной «нормы», которая при ближайшем рассмотрении оказывается человеческими экскрементами. Естественно, что читатель тут же прибегает к неизбежному в рамках советской метафизики аллегорическому уравнению: если обозначающее – испражнения, а обозначаемое – условно говоря, советская власть, то содержание текста – общеизвестная скатологическая метафора: «Чтобы тут выжить, надо дерьма нажраться».
Но тут-то Сорокин и применяет трюк: метафора овеществляется настолько буквально, что перестает ею быть: означающее – норма, обозначаемое – экскременты, никакого подспудного, то есть «настоящего», смысла в тексте не остается.
В других частях этого объемистого романа происходят новые приключения того же героя – утратившего универсальное означаемое знака. Например, Сорокин с той же настойчивостью материализует метафоры из хрестоматии советских стихов, лишая ключевые слова переносного, фигурального значения. Вот отрывок «В походе»: «Конспектирующий « Манифест коммунистической партии» мичман Рюхов поднял голову: – И корабли, штурмуя мили, несут ракет такой заряд, что нет для их ударной силы ни расстояний, ни преград. Головко сел рядом, вытянул из-за пояса « Анти-Дюринг»: – И стратегической орбитой весь опоясав шар земной, мы не дадим тебя в обиду, народ планеты трудовой. Рюхов перелистнул страницу: – Когда же нелегко бывает не видеть неба много дней и кислорода не хватает, мы дышим Родиной своей.
Вечером, когда во всех отсеках горело традиционное « ВНИМАНИЕ! НЕХВАТКА КИСЛОРОДА!», экипаж подлодки сосредоточенно дышал Родиной. Каждый прижимал ко рту карту своей области и дышал, дышал, дышал. Головко– Львовской, Карпенко– Житомирской, Саюшев – Московской, Арутюнян – Ереванской…»[15]15
Леви-Строс К. Мифологичные. 1. Сырое и вареное. Цит. по: Семиотика и искусствометрия. М., 1972. С.40.
[Закрыть]
Это не соцартовский китч. Сорокин вовсе не стремится к комическим эффектам. Его тексты посвящены не пародированию, а исследованию советской метафизики. Он изучает ее устройство, механизмы ее функционирования, испытывает пределы ее прочности.
Пример такого опыта – написанный под классиков фрагмент «Нормы». По отношению к остальному, специфически советскому тексту этот «красивый отрывок», воскрешающий чеховский быт, тургеневскую любовь и бунинскую ностальгию, должен был бы исполнять роль подлинной жизни, являть собой естественное, исходное, нормальное положение вещей, отпадение от которого и привело к появлению кошмарной «нормы». Но тут Сорокин искусным маневром вновь разрушает им же созданную иллюзию. Неожиданно без всякой мотивировки в этот точно стилизованный под классиков текст прорывается грубая матерная реплика. Она «протыкает», как воздушный шарик, фальшивую целостность этой якобы истинной вселенной.
Так, последовательно до педантизма и изобретательно до отвращения Сорокин разоблачает ложные обозначаемые, демонстрируя метафизическую пустоту, оставшуюся на месте распавшегося знака. Этой пустоте в романе соответствуют либо строчки бесконечно повторяющейся буквы «а», либо абракадабра, либо просто чистые страницы.
Проследив за истощением и исчезновением метафизического обоснования из советской жизни, Сорокин оставляет читателя наедине со столь невыносимой смысловой пустотой, что выжить в ней уже не представляется возможным.