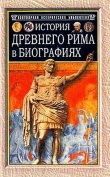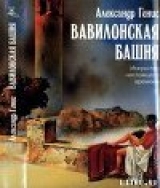
Текст книги "Вавилонская башня"
Автор книги: Александр Генис
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Конь в кармане
Третий фараон XIX династии Рамзес II, прозванный египтологами Великим, правил своей страной в XIII веке до н. э. До нас дошла не только его слава, но и его тело. Но как только оно было выставлено на показ в музее, мумия, хранившаяся тридцать с лишним столетий, стала стремительно разрушаться. Ученым пришлось принимать отчаянные меры, чтобы хоть приостановить процесс разложения мумии.
Размышляя над этой наделавшей много шума историей, Жан Бодрийар приходит к выводу: всему виной наше неуважение к тайне. Именно она так долго хранила тело фараона. И именно неуважение к ней оказалось столь разрушительным для мумии.[91]91
Малявин В. Язык сердца: афоризм и китайская традиция. //Афоризмы старого Китая. М., Наука, 1991. С. 7.
[Закрыть]
Построенная на позитивистской парадигме, цивилизация не умеет обращаться с тайнами – она путает их с загадками.
Однако сегодняшняя наука вынуждена считаться с фундаментальным различием между загадками и тайнами, ибо прогресс не только расширяет наши знания, но и яснее ограничивает их пределы.
Этот парадокс наглядно демонстрируется «открытием» хаоса. Ученые надеялись, что внедрение компьютеров позволит строить надежные математические модели всевозможных физических, социальных, экономических процессов, что, в свою очередь, даст возможность предсказывать будущее. Сотрудничество с электронным мозгом должно было упрочить каузальность нашего мира, включить в зону жесткого детерминизма все более широкие области жизни. Среди жертв этой иллюзии была и советская власть. Отказавшись от борьбы с кибернетикой, она с ее помощью тщетно пыталась решить свою центральную проблему – всеобщее планирование.
На самом деле развитие компьютеров как раз и вынулило науку осознать, сколь огромную роль в нашей жизни играют так называемые «нелинейные» системы. Внутри них прогнозирование возможно лишь на очень короткий срок, причем чем детальнее предсказание, тем больше ошибка.
Эта ограниченность не следствие несовершенства нашей науки и техники, а фундаментальное свойство природы. Просто так устроен мир, по которому нам остается передвигаться короткими перебежками, чаще оглядываясь назад, чем заглядывая вперед.
Все это больше напоминает бег на месте, чем знаменитые «большие скачки», которыми грезила индустриальная эпоха. Ее утопии строились на мифе научной организации жизни, избавлявшей от всего иррационального, случайного, непредсказуемого. Новая наука, вместо того чтобы справиться с хаосом, декларирует его неизбежность. Сегодняшняя наука учится скромности.
Получается, что прежде мы жили с нерешенными проблемами, теперь – с нерешаемыми.
Концепция принципиальной непознаваемости мира вновь обрекает нас на сосуществование с тайной. Ее вторжение не только в физику и математику, но и в политику, социологию, психологию, искусство вынуждает западную цивилизацию заново осваивать забытое умение жить в таинственном, а не просто загадочном мире. Как писал Юнг, в сознании современного человека «возникает новая установка, которая приемлет также иррациональное и непонятное – просто потому что они происходят».[92]92
Сарга F. The Turning Point. Bantam Books, 1988. P. 413.
[Закрыть]
Возвращение тайны вновь придает нашей светской цивилизации религиозное измерение. Ведь тайна, как (вслед за мириадами других) говорил Честертон, – имя Бога.
Такое предельно широкое определение ограждает рождаюшуся культуру от всякой конфессиональной узости. Ее религиозность проявляется в готовности ввести в свой состав элемент непознаваемого – случай, абсурд, хаос.
Рецепт постиндустриального искусства – сплав явного с тайным.
Шутки ради гроссмейстеры любят играть в шахматы с «конем в кармане». По этим изуверским для дилетанта правилам игрок имеет право поставить коня на любую клетку доски. Партнеры все время держат в уме вторжение лишней фигуры, постоянно грозящей смешать планы.
«Конь в кармане» – разрушитель предопределенности, посланец случая, генератор хаоса. Как и настоящий конь, он становится символом свободной стихии.
Таким «конем в кармане» служит искусству тайна. Речь идет, конечно, о настоящей тайне, а не игрушечной, о «мистической» тайне, а не «детективной» загадке.
Тайна – это не абракадабра. Тайна – это тайна.
А искусство – это уравнение с иксом, значение которого известно, но не нам.
Выше всех искусств в Китае ценили живопись, потому что здесь художник достиг совершенства в обращении с тайной, которую даосы называли «сюй» – «пустотой».
Китайский пейзаж часто занимает лишь четверть листа.[93]93
BaudrillardJ. Precession of Simulacra.//Simulations. N.Y.,Columbia University, 1983. P. 18–22.
[Закрыть] Оставляя незаписанной большую, а иногда и большую часть работы, художник заменяет фрагмент, которым является любая картина, целым, которым является каждый ландшафт. Пустота возвращает нарисованный пейзаж к его источнику.
Пустота в картине – устройство, позволяющее преодолеть «квантовый» коан искусства. Чтобы изобразить непрерывную природу, мы должны ее остановить. Но китайский художник не вычленяет пейзаж из природы, а оставляет его в ней. Пустота заменяет ему раму, которая на западной картине ограничивает культуру от природы.
Художник Нисикава Сукэнобу наставлял коллег: «Когда пишут траву и деревья, рисуют ветви, густо сажают листву, но изображают только то, что мы видим, – получается не настоящее дерево или цветок, а что-то полобное узору на женском платье, и это до крайности низкопробно».[94]94
Юнг К. Г. Комментарий к « Золотому цветку». // О психологии восточных религий. М., 1994. С.167.
[Закрыть]
На Востоке только недописанная картина может считаться законченной. Тайна недосказанности – соединительная ткань, которая позволяет искусству не противопоставлять культуру природе, а сотрудничать с ней.
При этом восточный художник помнит и о той природе, которая окружает нас, и о той, что содержится в нас. Пустота входит в его живопись, как природа в его тело.
В композиции картины пустота – либо невидимое продолжение видимого, либо его источник. В последнем случае это «дырка от бублика», та конструктивная пустота, о которой говорил Лао-цзы: «Формуя глину, делают сосуд: от пустоты его зависит его применение» (гл. 11).
Другая пустота – та, что осталась от того, что было. Китайский художник непременно скроет от зрителя часть изображенного. Пейзаж тут невозможен без скрадывающего его тумана. Художник Фу Дао, как утверждает легенда, даже растворился в изображенном им тумане.
Тайна – это вычитание, а вычитание – способ познания мира за счет его изменения, преобразования. Это не бердяевское «творчество из ничто», а творчество при помощи ничто.
Одна из самых известных дзэн-буддистских притч рассказывает о соперничестве двух садовников. Проигравший вырастил прекрасный сад; зато победитель сорвал все цветы, кроме одного стебля повилики.
Мастерство тайны – это манипуляция ограничениями. Ради углубления зрительского переживания автор ампутирует одни наши чувства, парализует другие и связывает третьи. (Говорят, лучшие любовники – слепые.)
Введение тайны в искусство переворачивает обычную логику: меньше тут больше. Мы меняем восприятие мира, не только обогащая свои ощущения, но и обедняя их.
Тайна – это шоры, которые зоркостью компенсируют ограниченность кругозора.
Тайна – это вериги, которыми искусство укрепляет свой дух и изощряет свое мастерство.
Такими «веригами лица» служат маски в японском театре Но. Они лишают актера самого важного изобразительного средства – мимики. Изъятие из театрального арсенала такого сильнодействующего орудия, как лицо актера, переводит представление с психологического на метафизический уровень. Театр, лишенный возможности создавать достоверные психологические портреты, заменяет их другими средствами – движением, звуками, декорациями.[95]95
Cheng F. Empty and Full. The Language of Chinese Painting. Boston amp; London, 1994.
[Закрыть] Поэтому Запад, уставший от психологического реализма, увидел в театре Но долгожданную гиперболу театральности.
Окольные пути вернее ведут вглубь. Тайна не только вводит в искусство недосказанность, но и культивирует всякую неразрешимую неясность, неоднозначность, неточность.
Если загадка – это преграда перед развязкой, то тайна – ее замена.
Как это делается, лучше всех показал Беккет. Его искусство «беременного молчания» напоминает не только о китайских даосах, призывавших «забыть слова», но и о принципиальной неопределенности квантовой механики. Чем пристальнее мы вглядываемся в беккетовскую драму, тем меньше способны ухватить ее смысл. Чем больше говорят его персонажи, тем меньше мы понимаем-о чем. Тот же эффект производит проза Кафки: чем ярче и четче детали, тем более расплывчатым становится общий смысл происходящего. Искусство тут ушло так далеко вглубь, что достигло квантового порога, за которым уже нет ничего, кроме тайны.
Западные мастера абсурда, включая тайну в текст так же, как впускавший пустоту в свою картину восточный художник, не копировали природу, а соревновались с ней. Сотрудничество с тайной меняет сущность искусства – вместо того чтобы подражать жизни, оно само становится живым. Су Ши писал:
Восточная концепция искусства сохраняет архаический взгляд на целостную Вселенную, в которой нет деления на естественное и сверхъестественное, настоящее и ненастоящее, подлинное и вымышленное, оригинал и копию, искусство и не искусство.
Художественное произведение, как все живое, замкнуто на самом себе. Его смысл – оно само. «Идея» такого произведения та же, что у каждого из нас, – это тайна существования.
Искусственная, созданная художником вещь не отличается от любой другой. Все они, пишет Судзуки, «появляются из неизвестной пропасти таинственного, и через каждую из них мы можем заглянуть в эту пропасть».
Тайна в вещи – дыра, что позволяет глядеть в пропасть.
«Вещи с дырой» – это знаки иного языка, принципиально чуждого тому, на котором мы говорим. Наши слова складываются из букв, каждая из которых – чистая условность, лишенная всякой предметности абстрактность. Из-за слов мы путаем названия вещей с вещами, но в словах не осталось ничего от тех вещей, которые они обозначают.
Другое дело– иероглифы.
Иероглиф – это наглядный результат обобщения окружающего до символа, в котором все еще можно распознать его вещественный источник. Западная этимология кончается либо мифом, либо заимствованием. Восточная идет до предмета, породившего знак.
Иероглиф – незарастающий колодец в древность. Это машина времени, которая позволяет связаться с ее изобретателями, проникнув в их ментальность.
Став письменностью, иероглифы сохранили свою более древнюю ипостась мнемонических знаков. Они не столько заменяют предмет, сколько о нем напоминают.
Поэтому чтение стихов требует от китайцев несравненно большего, чем от нас, усердия, подготовки и мастерства. Прежде чем прочесть стихотворение, надо его перевести с письменного языка на устный. О буквальном переводе тут не может идти и речи. Каждый читатель создает свою, сугубо индивидуальную версию. Грандиозная, не идущая в сравнение с западной полисемия иероглифического письма делает текст лишь смутной тенью стихотворения. Навести его на резкость может только сам читатель.
Китайские стихи, в сущности, не поддаются тиражированию – тут ведь нет пригодного к размножению оригинала. Стихотворение как бы рождается заново в момент чтения или, точнее, в процессе переписывания.
Традиция китайского образования обязательно включала переписывание классических текстов. Такая практика сродни копированию известных полотен художниками или переписыванию нот композиторами. Бах от руки, ноту за нотой переписал почти всего Вивальди.
Фундаментальная неточность иероглифа теснее связывает слово с вещью. Он содержит ту же тайну, что и вещи, им обозначаемые, поэтому иероглиф и неисчерпаем, как они. Иероглиф ведь и сам по себе вещь – его можно повесить на стенку.
Маклюэн говорил: если речь – это остановленные мысли, то письмо – это остановленная речь. Но архаическая предметность восточной письменности не дает иероглифу окостенеть в неподвижности. Принадлежа и миру знаков, и миру вещей, он передает текучесть, изменчивость Вселенной.
Иероглиф – пример, если не ключ к постиндустриальной культуре. Чтобы научиться жить во вновь ставшем зыбким и безнадежно таинственном мире, она должна освоить его язык.
Стремление передать цельность и неисчерпаемость мира требует другого языка – того, которым пользуется сама природа.
В 80-х годах опытами такого рода прославился Ансельм Кифер, ученик основателя «зеленого» движения знаменитого немецкого художника Йозефа Бойса. Кифер соединил экологическую поэтику своего учителя с языческой мифологией своей родины. Пафос его искусства – в отрицании культуры как насилия над естественным.
Культура – искусственна, природа – органична. Культуру строят, лес – растет. Все, что производится вопреки природе, – ложно, в том числе и творчество, если оно ведет к преобразованию мира. Следуя за природой, Кифер мечтает о творчестве свободном и неизбежном, случайном и неповторимом.
Образцы такого искусства – его «книги бытия», как бы написанные самой природой. Их страницы покрыты пеплом, глиной, песком, землей. По сути, в них изображен сам мир, а не его отражение в зеркале культуры. Эти книги нельзя читать, так же как мы неспособны «прочесть» долину, гору, реку, лес.
Кифер работает не столько кистью и красками, сколько стихиями. Например, прибегает к «тактике выжженной земли»: сжигает вещи и выставляет на обозрение результат – угли, пепел, головешки. Художник тут не раб или соперник природы, а ее соавтор: объединившись, как мужчина с женщиной, они создают нечто новое и неповторимое.
Индустриальной эпохе присущ пафос тиража. Сама по себе способность к механическому копированию может быть объектом рефлексии ее культуры.
Бодрийар замечает, что архитектурная изюминка нью-йоркского Всемирного торгового центра в том, что его составляют сразу два небоскреба.[97]97
Дзэами Мотокие. Предание о цветке стиля. М., Наука,1989.
[Закрыть] Они настолько неотличимы, что нельзя было решить, на крышу какого из них установить телевизионную антенну. Чтобы выйти из этого «буриданового» затруднения, пришлось один надстроить на тридцать футов. Отражаясь друг в друге, эти самые высокие, а может быть, и самые красивые здания Нью-Йорка прославляют демократический принцип серийного искусства, упраздняющего оригинал.
Постиндустриальная культура, пресытившаяся таким самоповторяющимся искусством, ищет выход из зеркального лабиринта симулякров. Эти копии без оригиналов, как компьютерный вирус, заполняют собой пространство культуры бесконтрольно размножающимися образами.
Лекарство от симулякров, заразивших собой наш мир, – живое искусство. Чтобы освободиться от их власти, на смену копиям без оригинала должны прийти оригиналы без копий.
Постиндустриальную уникальность не следует путать с музейным раритетом, который как раз легко поддается фальсификации. Скорее тут надо говорить о первобытной оригинальности, которая препятствует тиражированию естественным образом. Тот же Бодрийар рассказывает, что больше всех вещей, увиденных у белых путешественников, африканцев поразили два экземпляра одной книги – они никогда не видели совершенно одинаковых вещей.[98]98
Из китайской лирики VIII–XIV веков. М., Наука, Главная редакция восточной литературы, 1979. С. 106. Перевод Е. Витковского.
[Закрыть]
Кино, в котором вообще не существует оригинала, всегда было заворожено эффектом двойников. Отсюда тема близнецов, от которой никогда не уставал кинематограф.
Но именно потому, что кино недоступна аристократическая уникальность театрального представления, оно открыло для себя иной источник неповторимости – актера.
Об этом, объясняя, чем ему нравятся американские фильмы, пишет Ортега-и-Гасет: «Кинофильм с красивыми исполнителями можно смотреть бесконечно, не испытывая ни малейшей скуки. Неважно, что происходит, – нам нравится, как эти люди входят, уходят, передвигаются по экрану. Неважно, что они делают, – наоборот, все важно, лишь поскольку это делают они».[99]99
Baudrillard J. The Orders of Simulacra. // Simulations. N.Y., Columbia University, 1983. P. 135–136.
[Закрыть]
Кинозвезда сильнее амплуа – она «съедает» и жанр и сюжет. Роль всегда вынуждена выгибаться под актера. Кино – это мозаика из лиц, каждое из которых может рассказать свою, независимую от сюжета историю, даже не открывая рта. «Я выбираю нужное мне лицо, – признавался Феллини, – потому что именно оно станет персонажем. Это все равно что взять кота на роль кота, а он вдруг станет спрашивать, что и как ему делать. Но он ведь кот!».[100]100
Там же. Р.99.
[Закрыть]
У Феллини, собравшего в своих фильмах непревзойденную коллекцию лиц, каждый актер – живой иероглиф, полисемический символ, в котором вибрируют неисчерпаемые и потому таинственные смыслы.
Залог успеха символа – его органическая природа. Это семя смысла, которое прорастает в нашем сознании. Символы неадекватны самим себе, ибо, как все живое, они подвержены непрестанным изменениям.
Создать символ – значит обратить вещь в процесс и тем спасти ее от повторения. Размножить нельзя только то, что беспрестанно меняется, – например стареет.
Мы привыкли считать, что создающее нетленные шедевры искусство спасает от бега времени. Но стоит убрать установку на вечность, как различие между процессом и вещью становится весьма условным.
Упразднив результат, можно обратить искусство в ритуал.
В 1989 году в Нью-Йорке впервые на Западе состоялась презентация «Калачакры» – песчаной мандалы. В течение двух недель монахи в соответствии с детально разработанными правилами древнего обряда насыпали из разноцветного песка огромную буддийскую «икону», богатую не только философскими, но и красочными оттенками. Как только этот вдохновенный и кропотливый труд был завершен, мандалу смешали, а пошедший на ее изготовление песок ссыпали в Гудзон.
С западной точки зрения это равнозначно уничтожению произведения искусства, с восточной – шедевром был не результат, а процесс.
Смертное искусство вписывается в органическую парадигму– ведь умереть может только живое. Открыв свое произведение ходу времени, воздействию среды, произволу случая, художник берет в союзники жизнь. Следы изношенности – трещины, патина, ржавчина – придают вещи неповторимость. Ведь только естественное, как учил Чжуан-цзы, нельзя изменить.
Вещь, обращенная в процесс, расплывается, теряет твердость, жесткость своих контуров. Перестав быть окончательной, она «размазывается» по времени, не обретая себе в нем окончательного пристанища.
Стремительность технического прогресса сделала всякую вещь «живой», «текучей», лишив ее основательности и стабильности.
Скажем, наши персональные компьютеры так быстро устаревают, что владелец вынужден их постоянно достраивать и обновлять. Компьютер открыт в будущее. У него нет набора неизменных качеств и свойств. Мы не знаем, на что он окажется способным завтра, более того, мы даже не знаем, на что он будет похож. Поэтому мы вынуждены описывать компьютер не как вещь, а как процесс.
Достигнув постиндустриального этапа, прогресс не удаляет технологию от природы, а приближает к ней. Наша среда становится все более живой, в том числе и в прямом смысле.
Так, многие сегодня предсказывают великое будущее биоиндустрии, основанной на эксплуатации биологических ресурсов, то есть жизни напрямую. Например, американцы рассчитывают приспособить питающиеся нефтью бактерии для очищения загрязненного океана. Другие микроорганизмы японцы используют в качестве катализатора при изготовлении пластмасс. Третьи – за их внедрение была присуждена Нобелевская премия 1993 года по медицине – стали незаменимыми в диагностике.
Перспективы тут такие, что советник Смитсоновского института Томас Лавджой пишет: «В XXI веке экономическое могущество страны будет оцениваться не по запасам ее полезных ископаемых, а по богатству и разнообразию ее биологических ресурсов».[101]101
Ортега-и-Гасет X. Мысли о романе. // Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С.268.
[Закрыть]
Биоиндустрия не самая новая, а самая старая отрасль хозяйства, благодаря которой на свет появились хлеб и вино. Эта технология учит нас обходиться с природой как раньше: не покорять и даже не подражать, а сотрудничать с ней.
Мы не знаем, что такое жизнь. Мы не умеем ее изготовлять, но это вовсе не мешает нам пользоваться живым, не понимая его устройства.
Научная парадигма приучила нас к машинам, принципы работы которых ей известны. Но до того как человек построил машину, он уже умел пользоваться тем, чье таинственное устройство он не понимал, – например, кошкой.
Искусство настоящего времени
Один режиссер говорил мне, что берется экранизировать любое китайское стихотворение. В это легко поверить. Дело в том, что восточному поэту показалось бы бессмысленным обычное для его западных коллег описание чувств. Вместо эпитетов, которые прилагаются к тому или иному эмоциональному состоянию, китайский поэт изобразит обстоятельства, вызывающие это чувство.
Китайское стихотворение написано не звуками (иероглифы можно читать на разных языках) и не словами, а обстоятельствами места и времени, эмоциональными «натюрмортами», составленными из предметов, которые можно услышать и увидеть. Композицию такого стихотворения образует своего рода монтажная рифма перекликающихся образов.
Вот шедевр танского поэта Ван Вэя (701–761) «Осеннее»:
Стихотворение построено на цепочке внутренних «водяных» рифм. С водой последовательно сравниваются время – капли водяных часов, звезды Млечного Пути «Небесная Река», свет – «россыпь росы» и, наконец, листья – «ливнем летит листва».
Так в стихотворении совершается, если употребить формулу из учебников моего детства, «круговорот воды в природе». Водная стихия – то настоящая, то метафорическая, то одинокими каплями, то целой рекой – омывает изображенную им картину, замыкая и растворяя ее в себе. В поэзии Ван Вэя общий, взаимопроникающий ассоциативный ряд – манифестация единства природы с человеком. Он вписывает духовный микрокосм своей тоскующей героини в физический макрокосм мироздания.
Если бы речь шла о Тургеневе, мы бы сказали: пейзаж соответствует эмоциональному состоянию персонажа, «сопереживает» ему. Но на Востоке человек и есть природа – она грустит в нем, а не с ним. Тут нет человека вне природы, нет и природы вне человека. Су Ши пишет:
В старом Китае мир засыпал и просыпался вместе с людьми. Тот же Су Ши:
Метафорически рифмующийся монтаж, причем часто с теми же «водяными» образами, постоянно применял в своих фильмах Андрей Тарковский. Вода – то речная, то дождевая, то замерзшая – появляется у него всякий раз, когда режиссер изображает то, чего нельзя увидеть, и то, что нельзя сказать.
Этот «восточный» прием характерен не только для часто цитировавшего хокку и Лао-цзы Тарковского. В кино все невидимое и немое говорит на языке природы, на языке стихий. Поэтому китайское искусство, изъясняющееся не словами, а предметами и пейзажами, принципиально близко кинематографу, наиболее синкретическому и в этом смысле наиболее архаическому виду искусства.
Кино работает с довербальной, не опосредованной языком реальностью. Кино строится не из «универсальных атомов», таких, как буквы нашего языка, а из готовых, причем не нами созданных объектов. Кино – утилизация вторсырья: оно имеет дело с материалом, уже бывшим в употреблении, – с вещами, пейзажами, людьми.
Эйзенштейн писал, что кино «заставляет участвовать в действии самую реальную действительность. « У нас запляшут лес и горы» – уже не просто забавная строчка из крыловской басни, но строка из « роли» пейзажа, обладающего такой же партией в фильме, как все остальные».[105]105
Су Дунпо (Су Ши). Стихи. Мелодии. Поэмы. М., Художественная литература, 1975. С. 1–7. Перевод с китайского И. Голубева.
[Закрыть]
Кино не столько преобразует природу (в культуру), сколько организует ее с целью сконструировать в сознании зрителя то или иное переживание. Кино не описывает чувства, а вызывает их.
Это же можно сказать и о восточном искусстве, где всякое художественное произведение – эмоциональная икебана, чувственный иероглиф, импрессионистская криптограмма. Это – зашифрованная инструкция к переживанию того невербального опыта, который позволяет зрителю и читателю преодолеть расстояние, время и культурные барьеры, чтобы вступить в мгновенный контакт с художником и поэтом.
Неизбывная «предметность» кино – врожденное свойство и восточной культуры, которой чужда абстрактность.
Еще в начале XX века китайские паркетчики, незнакомые с концепцией масштаба, высчитывали количество потребного материала, склеивая бумажные листы в размер пола, который им предстояло настелить.
Китайские географические карты не только отвлеченные схемы местности, но и попытка передать ее реальные черты – с горами, водами, домами и деревьями. Такие увлекательные карты напоминают те, что раньше сопровождали приключенческие романы.
Феноменально консервативная китайская культура донесла до нас ту конкретность мышления, которую Леви-Строс считал как основным качеством, так и основным отличием первобытного разума от современного.[106]106
Там же. С. 8.
[Закрыть]
Аборигенам трудно дается наша арифметика. Они не понимают, как можно получить общую сумму, складывая деревья с людьми.
В эскимосском языке есть сорок семь терминов, обозначающих разные состояния снега, но нет общего слова для «снега» как такового. Такую же первобытную конкретность восприятия будит в зрителе кинематограф – тут ведь тоже не может быть «снега вообще».
Кино возвращает возникающим в недрах языка умозрительным символам их первоначальную предметность.
Торжество кинематографа, ставшего ведущим искусством нашего времени, привело нас, как утверждал Маклюэн, на 3000 лет назад, в довербальный мир визуально-акустических метафор.[107]107
Эйзенштейн С. Гордость. Собр. соч.: В 6 т., Т.5, С.87.
[Закрыть]
Войдя во всеобщий и повседневный обиход, кино стало устройством для массового перевода нашей культуры на архаический язык. С изобретения кино началась архаизация искусства.
Сегодня процесс этот зашел уже так далеко, что сумел повлиять на самую фундаментальную пропорцию нашей культуры – соотношение личности и общества в ней.
Западная цивилизация привыкла считать личность своей квинтэссенцией и итогом. Искусство – плод труда великих одиночек. Романтическая концепция оставляла художника наедине с вечностью. Зритель тут, в сущности, посторонний, незваный гость.
Однако героический индивидуализм западной культуры не смог выжить в XX веке – он так и не сумел оправиться от шока Первой мировой войны. В неразборчивую эпоху тотальной мобилизации и оружия массового уничтожения личность утратила свой прежний смысл и статус. В окопах Вердена родилось сознание массового общества и погиб культ романтического художника.
Закат индивидуальности острее всего чувствуют сами художники. Так, король поп-арта Энди Уорхол, уподобляя себя машине, демонстративно назвал свою студию «фабрикой». Сегодня художник уже не хозяин, а слуга механически размножающихся и постоянно сменяющих друг друга образов. Стремительный и могучий поток имиджей топит любую индивидуальность, не давая ей проявить своеобразие и оригинальность.
Художник – медиум культуры, которой, в сущности, все равно, через кого вещать. Все тут в равном положении, поэтому Уорхол и обещал каждому свои пятнадцать минут славы.
Такая слава напоминает аттракцион уличных фотографов – фанерное чучело с дыркой для головы. В массовом обществе слишком тесно от звезд, чтобы осталось место для гениев.
Ностальгия по прекрасному XIX веку, который Черчилль называл вершиной всей западной цивилизации, мешает нам примириться с исчезновением Художника. Между тем они нужны далеко не всякой культуре. Большую часть своей истории человечество обходилось искусством, у которого автора не было вовсе.
Мы не знаем имен древних мастеров, потому что за них творила традиция.
У массового искусства нет авторов, потому что за них творит культура.
Сравнительно ненадолго выйдя из анонимности, искусство вновь ныряет в нее. Герман Гессе считал, что будущее возрождение духа, которое должно положить конец нашей «фельетонной» эпохе, начнется как раз с такого – бескорыстного и безымянного – искусства.
XX век изменил соотношение между художником и культурой в пользу последней. Искусство возвращается туда, откуда вышло – в культуру.
В Нью-Йорке тысячи китайских ресторанов, но ни одной школы китайских поваров. Каждый китаец умеет готовить. Вернее, за него готовит культура, в данном случае многовековая утонченная, разветвленная и кодифицированная китайская кулинарная традиция, которая, как, скажем, китайский язык, является общим достоянием всех, кто им владеет.
Традиция может быть талантливее человека, поэтому она не нуждается в гениях, чтобы создавать прекрасное.
В Киото я оставил в гостинице несколько апельсинов, из которых горничная, убиравшая номер, составила столь изысканную композицию, что мы их не решились съесть.
Искусство культуры отличает от искусства личности отношение ко времени. У культуры его несравненно больше, поэтому готические соборы строились многими поколениями.
Мироощущение средневековых зодчих, твердо знавших, что они не доживут до окончания строительства, становится близким и нам. Только причина тут не долговечность, а, напротив, мимолетность нашей архитектуры.
Древнеримский закон требовал, чтобы любой акведук был рассчитан на двести лет эксплуатации. Любая из современных построек устареет задолго до этого срока. Мир слишком быстро меняется для той величавой монументальности, которую тщетно пытались имитировать все тоталитарные режимы.
Люди, веками возводившие соборы, всегда жили рядом со стройкой. Мы живем рядом с пере-стройкой. Но нам, как и им, доступна лишь та часть обшей картины, которая укладывается в краткий промежуток человеческой жизни.
Сознание несоизмеримости культуры с личностью не только подавляет, но и снимает с нас бремя собственной значительности. Свобода от обязательств перед вечностью раскрепощает дух.
Личность перестает быть основанием нашей цивилизации, во всяком случае ее незыблемым основанием. Чтобы обрести утраченное онтологическое равновесие, мы должны приспособить свое «я» к тому парадоксальному миру, который постоянно меняется, стоя на месте. Тут немудрено заболеть морской болезнью.
Несколько веков прогресса привили нам вкус к предсказуемости своей судьбы, к стабильности как основанию достойной жизни.
О таком «золотом веке надежности» с горечью вспоминает Стефан Цвейг: «Чувство надежности было наиболее желанным достоянием миллионов, всеобщим жизненным идеалом. Тот, кто мог спокойно смотреть в будущее, с легким сердцем наслаждался настоящим. XIX столетие в своем либеральном идеализме было искренне убеждено, что находится на прямом и верном пути к « лучшему из миров».[108]108
Levy-Strauss С. The Savage Mind. Особенно – Ch. 1. The Science of the Concrete. London, 1966. P.I-33.
[Закрыть]
Но всего несколько лет спустя Запад открыл для себя совершенно иное измерение жизни. Его описывает знаменитая метафорическая формула Мандельштама: « …европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз».[109]109
McLuhan М. Counterblast. Harcourt, 1969. P.17.
[Закрыть]