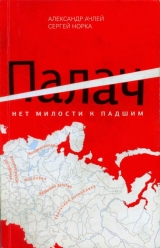
Текст книги "Палач. Нет милости к падшим"
Автор книги: Александр Ачлей
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Где-то через час в офис вошла высокая, пропорционально сложенная брюнетка в черных очках, практически полностью скрывающих лицо. В руках у нее была большая сумка. Охрана заранее получила указание ни в коем случае ее не обыскивать и не проверять на телеконтроле ее вещи. Она мило улыбнулась Аллочке, кивнув ей, как давнишней знакомой, и уверенно прошла в кабинет Курзанова, не забыв плотно прикрыть за собой дверь.
Курзанов взглянул на гостью, собрался было уже обрадоваться, но не успел. Пуля, выпущенная из пистолета с глушителем, раздробила ему грудную клетку и вошла прямо в сердце.
Глава XXV
Глоб
«Каждый год в мире кончают с собой более 700 000 человек. И более всего среди них русских (около 80 000). Обозначившаяся в начале века тенденция, в результате которой Россия вошла в число „лидеров“ по этому печальному показателю, сохраняется и в новых условиях. Особенно высок уровень самоубийств в Ингерманландии, Южно-Сибирском китайском протекторате, Московии. В этих странах от суицида умирает больше людей, чем от рук убийц. Основной причиной самоубийств является депрессия – у 70 % депрессивных больных наблюдаются суицидальные тенденции, а 15 % из них совершают самоубийства. Основные причины самоубийств:
– неизвестны – 41 %
– страх перед наказанием – 19 %
– душевная болезнь – 18 %
– домашние огорчения – 18 %
– страсти – 6 %
– денежные потери – 3 %
– пресыщенность жизнью – 1,5 %
– физическая болезнь – 1,2 %
Время:
– первая половина дня – 32 %
– вторая половина дня – 44 %
– ночь – 24 %
Место:
– дома – 36 %
– вне дома – 20 %
– в учебном заведении или на работе – 8 %
– в гостях – 16 %
Прощальные записки оставляют 44 % самоубийц.
Они адресованы:
– „всем“ – 20 %
– близким – 12 %
– начальникам – 8 %
– никому – 4 %»
Из журнала «Занимательная статистика», № 2, 2016 год.
Выйдя от Курзанова, Глоб почувствовал жуткую усталость и боль в спине. Так всегда реагировал его организм на сильные стрессы. Нет, он вовсе не жалел о случившемся. Ему давно уже не нравился ни сам Курзанов, ни то, чем он у него занимался. Просто все надоело, а самое главное – надоело жить. То к чему он стремился, о чем мечтал, так и не сбылось. Его воспитывали патриотом, и он хотел так же жить. Но не получилось. И кто в этом был виноват? Он понимал, что Курзанов его теперь в покое не оставит, но это его мало беспокоило. Знай Виталий Николаевич, как он устал от жизни, может, и не стал бы его преследовать. Глоб вышел на набережную, достал мобильник и набрал номер телефона Артемьева: «Я вышел из игры. На меня больше не надейся. Удачи тебе».
Он отключил телефон, швырнул его в реку, поймал такси, скомандовал водителю: «На Сельскохозяйственную улицу. Там покажу», – и, прикрыв глаза, погрузился в воспоминания. Когда он стал таким? Как умудрился выхолостить живые чувства: любовь, сострадание, вину, обиду? Да, Ельцин со своей сворой, да, Грачев с прожженным цинизмом, да, потоки лжи, за которыми умело прятали правду о том, как продается и растаскивается на куски Родина. Но почему он? Почему именно у него не хватает сил, чтобы жить и радоваться тому, что есть? Почему Артемьеву удалось сохранить этот огонь во взгляде, а он давно равнодушно взирает на происходящее? Ведь когда-то тоже кипел эмоциями! Мог искренне сопереживать и сострадать! Любить!!! Он вспомнил Лену, чего не делал уже давно. Чем она привлекла внимание Глоба? Ведь к тому времени, как впервые ее увидел, он уже вполне состоялся, если можно так сказать, как мужчина. Правда, настоящей любви, от которой замирает сердце и бросает то в жар, то в холод, Глоб еще не испытывал, не считая, конечно, первой школьной влюбленности. Но те чувства были платоническими и к взрослой жизни отношения не имели. А тут…
Он впервые увидел ее в ресторане на окраине Питера, куда зашел с друзьями, такими же, как он, морскими офицерами, отметить очередную годовщину выпуска. Она сидела за столиком напротив, рядом с атлетически сложенным черноволосым красавцем, который не скрывал своего желания произвести впечатление на спутницу. Девочка ему сразу понравилась: и то, как сидела, как держала вилку, как была одета и причесана. Это потом уже, так сказать, с годами, он понял, что так и случается: живешь себе, живешь на белом свете, и вдруг, в один прекрасный день, встречаешь свой идеал, в котором все, буквально все, доставляет радость, и ничто не раздражает. Он долго смотрел на нее, не обращая внимания на товарищей, которые с удовольствием заказывали водочку, салатики и возбужденно что-то обсуждали, пытаясь скрыть желание поскорее «нормально» выпить и закусить. Их взгляды на секунду пересеклись, и он почувствовал, как мощная горячая волна ударила в голову. Через какое-то время она ушла, сопровождаемая своим «черным рыцарем», а он остался и так разволновался, что даже принятое в изрядном количестве спиртное никак не подействовало. Раньше с ним такое случалось только в моменты душевного напряжения.
Вечером следующего дня он вновь заглянул в тот ресторан, и предчувствие его не обмануло. За столиком в глубине зала сидела Лена (тогда он еще не знал ее имени) и опять в компании красавца-брюнета, присутствие которого почему-то абсолютно не раздражало Глоба. Наверное, потому что он вообще ничего, кроме этой, так запавшей ему в душу, девушки не замечал. Он сел за угловой столик, заказал себе сухого вина и фруктов и стал наблюдать за ними, стараясь не привлекать к себе особого внимания. Ее спутник что-то очень темпераментно ей объяснял, она снисходительно, но без жеманства улыбалась. Несколько раз их взгляды пересекались, и Глоб не видел в ее глазах отчуждения, скорее наоборот: поощрение, любопытство и заинтересованность. Спустя какое-то время он поднялся, подошел к их столику, вежливо попросил у кавалера разрешения пригласить даму на танец и, не дожидаясь ответа, взял ее за руку и повел за собой. Он чувствовал – она последовала за ним, потому что хотела этого. В общем, все получилось настолько естественно, что ошалевший от такой наглости неизвестно откуда появившегося конкурента кавалер не успел вмешаться, и ему ничего не оставалось, как терпеливо ждать окончания танца. Они не разговаривали, но он держал девушку в руках и чувствовал ее. Он вдыхал ее запах и понимал, что это его запах. Всем своим нутром Глоб ощущал, что это его женщина, которую он никому не отдаст.
В тот теплый августовский питерский вечер, там, в ресторане морского вокзала, все и произошло. После того как Лена вернулась за свой столик, ее спутник, все видевший и почувствовавший неладное, стал что-то горячо говорить ей. Он явно нервничал, слишком импульсивно размахивая руками. Глоб весь напрягся, готовый в любой момент вмешаться в назревающий конфликт. Видимо, осознав, что может произойти, девушка резко встала, подошла к нему и просто сказала:
– Мне надо с вами поговорить, – и, не дожидаясь ответа, направилась в сторону летней веранды. Она вела себя настолько уверенно, что у Глоба не возникло даже мысли как-то возразить ей. Он безропотно поднялся и последовал за ней.
– Вы мне тоже очень нравитесь, – без подготовки начала Лена, – но я вас прошу позволить мне уйти с Рафиком. Я слишком долго затягивала выяснение наших отношений. И только сегодня, встретив вас, поняла, что должна незамедлительно все ему объяснить. Он сможет воспринять все спокойно, если поймет, что мой отказ никак не связан с вашим появлением. Иначе задетая гордость, обида и, конечно, ревность могут довести его до бешенства. Это не нужно ни мне, ни вам. Я предлагаю вам встретиться завтра, в центре города, у Медного всадника. Если вы не возражаете, мы уходим. – Не дожидаясь ответа, она вернулась в зал и, взяв под руку своего спутника, вывела его из ресторана, где на парковке стоял серебристый мерседес славного сына Востока. Они сели в машину, причем Рафик все время срывался на крик, и по доносившимся ругательствам Глоб точно установил его этническую принадлежность.
«Какой черт занес сюда этого уроженца Апшерона?» – подумал он, угадав в сопернике своего земляка по маминой линии, азербайджанца.
Машина резко рванула с места и умчалась в ночь. Глоб же, не привыкший полагаться на волю случая, решил все-таки «проводить» свою избранницу до дома. Он вскочил в стоящий рядом автомобиль частника и коротко приказал водителю следовать за серебристым красавцем, не привлекая к себе особого внимания. Уверенный тон клиента с пониманием был воспринят немного опешившим хозяином, который беспрекословно последовал за удаляющимися габаритными огнями «мерса». Ехали они недолго. Минут через десять мечта всех кавказских мужчин резко свернула в один из дворов.
– Выключи фары, – тихо скомандовал Глоб своему вознице. «Жигуленок» незамеченным въехал во двор, где разыгрывался акт пьесы «украденная невеста». Рафик, по всей видимости, окончательно потерявший голову, пытался вытащить из своего «мерина» девушку, которая отчаянно сопротивлялась, используя нехитрый женский арсенал: сумочку, ногти и каблуки. Распаленному еще больше этим не очень-то эффективным отпором кавалеру почти удалось извлечь Лену из машины, когда он вдруг услышал: «Дэян Гардаш! На вар?» Обращаясь к нему по-азербайджански, Глоб рассчитывал на эффект неожиданности и добился своего. Опешивший Рафик выпустил из рук сладкую добычу и уставился в недоумении на вроде бы русского пацана, который поздней ночью, в Питере, почему-то обращается к нему на языке предков. Не дожидаясь, когда тот придет в себя, Глоб, протянув ему правую руку для рукопожатия, левой сжал болевые точки чуть повыше его локтя и внятно произнес:
– Земляк! Не будем устраивать базар из-за девушки. Она моя. И ты это знаешь. Останемся друзьями. И обещаю, что приглашу тебя на свадьбу, – он намеренно проговорил эту фразу в том самом темпе, который позволял противнику не только осознать, но и почувствовать суть сказанного.
Пока Рафик пребывал в ступоре, Глоб спокойно помог Лене выйти из машины и быстро довел ее до нанятой тачки, которая вмиг рванула с места, унося беглецов подальше от возможных преследователей. В машине девушка разревелась. Только оказавшись в безопасности, она испугалась по-настоящему. Обманутый в своих ожиданиях восточный красавец вошел в раж и уже не понимал, что делал. Он, оказывается, вез ее на какую-то съемную квартиру, и если бы не вмешательство Глоба, неизвестно, чем бы все закончилось. Они остановились у маленького деревянного дома на окраине города, где она жила с отцом-инвалидом, по ее словам, очень строгим.
– Прошу тебя, не уходи никуда. Тебе со мной нельзя. Я скажу отцу, что вернулась, а потом буду ждать тебя на крыльце, – она благодарно поцеловала его в щеку и скрылась за деревянными воротами. Глобу ничего не оставалось, как расплатиться и выйти из машины. Теперь он стоял совершенно один, в кромешной тьме, перед высоким забором из гладких, словно отполированных досок. Надо добавить, что ко всем прелестям этой «дивной ночи» шел проливной, как из ведра, дождь. Никаких шансов на то, чтобы выйти сухим из воды, у Глоба не было. Он подергал ручку запертых ворот, но постучать не решился, памятуя о вскользь упомянутом строгом отце. Ничего не оставалось, как вспомнить интенсивные занятия на огневой полосе. Он резко подпрыгнул, ухватился за верхний край «преграды», молниеносно подтянулся на руках, перекинул свое тренированное тело через забор и спрыгнул на землю. Что удивительно – она действительно ждала его на крыльце, пытаясь фонариком высветить место его приземления.
– Ну, ты даешь! – совместно пережитые эмоции давали ему право обращаться к ней на «ты». – Откуда ты знала, что я полезу через забор? – Он пытался снять набухшую ветровку, с которой ручьями стекала вода.
– Если бы не полез – значит, не судьба. Отец практически не ходит. Но он мастер на все руки и сделал дистанционный замок, который открывает и закрывает только сам – я же целый день на работе. Объяснять все это было бы долго. Вот и загадала: перелезет через забор, значит мой. А на нет и суда нет. – Она говорила шепотом, боясь потревожить чуткий сон отца, и одновременно снимала с него мокрую одежду так, как это делают только жены со своими мужьями, любя и не стесняясь.
Потом она завела его в маленькую темную комнатку, насухо вытерла чистым полотенцем, после чего они совершенно естественно оказались вместе на широкой тахте. И то, что раньше видели его глаза, теперь ощущали руки, лишь подтверждая необходимость и неизбежность этой близости. У Леночки было столько пленительных впадинок, соблазнительных возвышенностей и сладостных ложбинок, что на их изучение ушла практически вся ночь. Ее кожа была восхитительно нежна, упруга и чиста, а все тело дышало такой отзывчивой теплотой, что Глоб, хоть и считал себя достаточно искушенным в плотских утехах, не переставал удивляться тому, с каким упоением он предавался все новым и новым порывам страсти и нежности. Они практически не спали, но никакой усталости он не чувствовал…
– Дальше-то куда? – Голос водителя вернул Глоба к реальности: тот выехал на нужную улицу и явно нуждался в подсказке.
– Давай прямо, после светофора возьми правее. Там за домом с булочной на первом этаже повернешь во двор. – Минут через пять машина остановилась у железных ворот с надписью «Стадион». Глоб щедро расплатился с водителем, прошел через гостеприимно распахнутую калитку и исчез в одноэтажном здании. Эту чистую, уютную сауну с парковкой держал Валера, земляк Глоба. Здесь, и он точно это знал, его никто бы не смог найти и потревожить.
– Миша, здравствуй, дорогой! А что же не позвонил? Я бы парилочку подготовил, – Валера, как всегда заискивал, но был явно рад приходу человека, который обычно оставлял столько денег, что после этого неделю можно было не работать.
– Да, так получилось. Извини. Решил в последний момент. Я воспользуюсь маленькой сауной? – не дожидаясь ответа, Глоб прошел в небольшое помещение, в котором, впрочем, было все, что нужно, для отдыха и расслабления: уютная парилка, небольшой бассейн, комната отдыха с двуспальной кроватью, небольшой зал, где можно было выпить и закусить. Он заказал бутылку виски, маслины и сыр, разделся, аккуратно сложив вещи в шкаф, закутался в простынь и позвал Валеру.
– Миша! Уже несу, дорогой! – Валера вошел в сауну с подносом, на котором уместился нехитрый заказ Глоба.
– Сядь на минуту, – Глоб открыл бутылку, налил себе полный стакан, немного плеснул в бокал Валеры (знал, что тот любит опрокинуть рюмку-другую), чокнулся и залпом осушил свой стакан. – Валера! Что бы здесь ни произошло, не удивляйся. Это, на всякий случай, положи в сейф. Если со мной что-то случится, все оставишь себе. Родных и близких у меня нет, – с этими словами он передал Валере пухлый конверт с деньгами.
– Не беспокойся, Миша! Ты же знаешь, у меня, как в Сбербанке. И даже надежнее! Парилка через час будет готова! Может, еще что-нибудь? Девочек позвать? – Валера взял конверт и остановился у двери, готовый выполнить любое пожелание клиента.
– Нет, ничего не надо! Спасибо, – Валера вышел, а Глоб прошел в душевую, тщательно вымылся, насухо растерся полотенцем, сел в кресло, выпил еще один стакан виски, достал приготовленный заранее пистолет, приложил его к виску и нажал на курок.
Глава XXVI
Тимофеев
Президент Уральской республики смотрел из окна своего кабинета на родной Екатеринбург. Он предпочитал этот город всем прочим мировым столицам. Здесь Дух был какой-то особый. Он вспомнил, как много лет назад говорил молоденькой симпатичной девчушке, мечтавшей уехать в Москву, чтобы делать там большое кино: «Уедешь отсюда – погибнешь». И ведь не ошибся. Та молоденькая девушка превратилась с годами в жадную до денег аферистку, растратившую отпущенный ей Богом талант на служение бесам.
Да, для Тимофеева Урал был не просто местом рождения. Это была его Родина, которую он безгранично любил, которой был всецело предан и которую был готов защищать до самого последнего вздоха. Он родился и вырос здесь, здесь впервые сел за парту, влюбился, начал работать. Здесь он ощутил нежность прикосновения теплых маминых рук, восторг первого поцелуя, счастье первой близости, радость отцовства. И именно здесь он хотел умереть. Так и в завещании своем написал. Все-таки ему уже под семьдесят. И хотя сердце работает нормально, давление вроде бы не беспокоит, да и мужская сила все еще присутствует, свою последнюю волю он решил зафиксировать на бумаге, для порядка, чтобы потом проблем меньше было.
Он вообще любил порядок, организованность, дисциплину, но при этом не был ни ретроградом, ни рабом раз и навсегда установленных правил. Наверное, именно за эти качества его однажды отметил Александр Исидорович Грибов. Кто он такой? Да! Сейчас мало кто из металлургов помнит это имя. А в свое время это был человек № 1 в цветной металлургии, начальник соответствующего главка союзного министерства, величина и авторитет. Вот он и заметил Ваню Тимофеева, молодого инженера, веселого, умного, талантливого, неравнодушного.
Вообще, Грибов был очень интересным дядькой, обладавшим не только феноменальными знаниями, но и безграничным чувством юмора. Иван Николаевич вспомнил, как вместе с Александром Исидоровичем ездил в Италию, для обмена опытом. Встретили их очень хорошо, Грибова на фирме давно знали и искренне уважали за его легендарное прошлое: он прошел всю войну, причем не где-нибудь, а в бомбардировочной авиации. Из его эскадрильи только троим удалось уцелеть в мясорубке нескончаемых боев и сражений Великой Отечественной. Сам Александр Исидорович не очень любил вспоминать то время, когда потерь было больше, чем приобретений. Но то, что он мужественный и смелый человек, было видно даже спустя годы, даже тогда, когда ему перевалило за семьдесят и он страдал диабетом. Вот за все эти качества и ценили его итальянцы. А наши просто любили – за то, что заботился о рабочих, был внимателен к инженерам, вникал в трудности руководителей. И это доброе отношение к нему сохранилось, даже когда он был уже не у дел, ни на что не мог повлиять и никем не руководил, а скорее сам нуждался в опеке и помощи.
Тогда в Италии Грибов его здорово удивил, ведь прежде Тимофеев с ним в основном только по работе сталкивался. А здесь, за границей, какая работа? Ну, походили недолго по фабрике, уяснили, что отстали, но отметили при этом и тот факт, что отставание было больше техническим, а вот в плане подготовки и эрудиции наши специалисты могли бы поспорить с итальянцами. Но главное во время таких визитов – совместное застолье, к чему итальянцы относятся очень серьезно. Вот и на этот раз их угощали традиционным итальянским обедом, с обязательной пастой в качестве первого блюда и вином. Но Грибову это не понравилось. Он с тоской в глазах посмотрел на Тимофеева и тихо, стараясь никого не потревожить, своим уже немного скрипучим старческим голосом спросил:
– Ваня! А водки у них нет, что ли?
Вопрос Александра Исидоровича услышал переводчик, который в тот же момент оповестил хозяев о том, что «дедушка» недоволен отсутствием водки на столе. Итальянцы как-то сразу засуетились, заохали, заахали, подозвали хозяина ресторана (а нужно сказать, что заведение было весьма солидным, находилось в Маранелло, на родине «феррари», и в нем любили перекусить всякие знаменитости), но тот сказал, что водки у них нет. Ах, что делать?! Что же делать?! Послали гонца в соседний бар, но он вернулся с пустыми руками и огорченно сообщил, что там только польская водка «Выборова», но будет ли ее пить русский министр, который обедал с самим Сталиным? (Часть легенды, активно раздуваемой российской стороной накануне визита, хотя, если честно, со Сталиным Грибов если и не обедал, то уж за одним столом точно сидел.) Александр Исидорович за всей этой суетой наблюдал спокойно, не теряя достоинства, на польскую водку согласился, хотя не удержался от того, чтобы не высказать своего мнения ему, Ивану Николаевичу: «По сравнению с нашей, Вань, конечно, дерьмо! Но делать нечего. Выпью».
Наконец, минут через десять, запотевшую литровую бутылку «Выборовой» торжественно поставили на стол. Вместе с ней Грибову принесли небольшую, грамм на 50, очень стильную, покрытую инеем рюмку. И вот, когда все наконец-то успокоились, Александр Исидорович своим тихим скрипучим голосом спросил: «А пить-то из чего, Вань?» Он всегда обращался только к Тимофееву, как к родной душе. Но вездесущий переводчик снова передал хозяевам пожелание старика. И опять все забегали, засуетились. Наконец, принесли стакан с толстым дном, грамм на 200. Иван Николаевич открыл бутылку и, глядя на Грибова, стал наливать ему водки. Тот жестом показал, что достаточно, только когда в стакане было уже грамм 150, после чего поднял его и сказал: «Я хотел бы выпить за радушный прием и гостеприимных хозяев. Но, вижу, пить со мной здесь никто не собирается». Итальянцы опять защебетали: «Да нет, что вы, мы „за“, вот наши бокалы с вином», – но Грибов их как будто не слышал. Он сидел с недовольно поджатыми губами, грустно взирая на своих сотрапезников. Тимофеев пояснил: «Александр Исидорович прошел всю войну. Перед каждым боевым вылетом им, летчикам, наливали по стакану чистого спирта. А когда они возвращались, то пили не только за себя, но и за тех, кто не вернулся. С тех пор Александр Исидорович все, что слабее 40 градусов, выпивкой не считает, и потому предлагает всем выпить водки».
Надо заметить, что для итальянцев потребление крепких спиртных напитков приемлемо только после обеда, и только в качестве так называемого дижестива (напитка, способствующего пищеварению). За обедом они пьют воду или вино. Но тут все дружно поддержали гостя из России, что обрадовало Грибова. Каждому из присутствующих капнули грамм по 10 водки, и все наконец-то выпили «за сказанное». К концу обеда непривычные к водке итальянцы разомлели, о чем свидетельствовал совершенно невозможный в трезвой компании разговор (уроженцы разных городов, они спорили по поводу величины соска у итальянок, причем моденцы утверждали, что самыми крупными и сочными экземплярами обладают женщины именно их провинции).
На четвертый день пребывания, уже перед отъездом, Грибов, который все это время был в достаточной степени вежлив, неприхотлив, питался тем, чем кормили в гостинице и угощали радушные хозяева, на вопрос Тимофеева: «Ну, как вам поездка?» – медленно растягивая слова, чуть фальцетом ответил: «Да, все хорошо, Вань. Только еда у них – полное дерьмо». Тимофеев чуть не подпрыгнул тогда от удивления! Но потом понял: старая гвардия есть старая гвардия. И ее уже не переделаешь.
Отличие той, еще сталинского замеса элиты, от нынешней именно в этом и заключалась: она была очень верна национальным традициям, что проявлялось в пристрастиях к еде, питью, музыке и танцам, чего не скажешь об элите, сформированной ельцинским переделом. Та тоже питалась в основном хорошо и правильно, за исключением периода длительных празднеств. Но предпочтение при этом отдавалось европейской кухне, и в первую очередь французской, хотя итальянцы ей почти не уступали. Она очень быстро полюбила дорогие вина, из которых формировала замечательные коллекции. Правда, иногда часть винотеки опорожняли наезжающие в ее замки и дворцы компании, что для настоящих коллекционеров недопустимо. Сказывалось отсутствие опыта, да и ребят с девчатами обижать не хотелось. А потом, было круто похвастаться в кругу таких же, как и она, дескать, тут с друзьями погуляли и выпили все бордо урожая 1855 года, что нашли в погребе. Иногда, по старой привычке (все-таки родилась и выросла в СССР) хотелось чего-нибудь домашнего, маминого, советского. Но желание такое приходило все реже и реже, а из традиционной русской кухни на стол допускались только черная икра, блины и водка, которые всегда считались, в какой-то степени, международным брендом. В целом же эта элита питалась ИНАЧЕ, чем ее народ. Нет, он, конечно, не голодал, но кулинарные пристрастия у них были разные. И вызвано это было не столько воспитанием и привычкой, сколько желанием получить все самое лучшее и качественное, а также стремлением отделить себя от толпы, иными словами, от быдла. Справедливости ради надо сказать, что нечто подобное существовало в России и раньше: царский стол и еда его ближайшего окружения сильно отличались от того, что ела крестьянская масса. Да и в других странах наблюдалась такая же картина. И все-таки там правители потребляли блюда своей национальной кухни, что до сих пор делают представители основных развитых стран. Роскошные, дорогие, недоступные простому люду, но свои. В этом-то и заключалось главное отличие «российского аристократа» эпохи перемен от русского барина и руководителя советской эпохи.
– Да, так все и прокакали. И державу, и власть, и авторитет, – с грустью подумал Тимофеев. Но себя ему винить было не в чем. Он-то как раз делал все, что мог, дабы сохранить накопленное. Когда наступили жестокие 90-е и толпы голодных шакалов обрушились на промышленные предприятия, уходившие за бесценок к новоявленным магнатам, он своего комбината никому не отдал. Сумел найти и силы, и средства, чтобы отбиться от хищников. Когда вся страна была парализована невыплатами зарплат и пенсий, его рабочие, инженеры и служащие регулярно получали заработанное. Когда страну поглотил бум пошлой прозападной попсы, разжижающей сознание, прежде всего молодежи, бесконечными призывами к кайфу и ничегонеделанию, он воссоздал ансамбль уральской песни и пляски, пытаясь уберечь национальную культуру от окончательного разложения. Люди ему верили. По тому, как он жил, что ел и пил, какую музыку предпочитал, угадывали в нем своего, русского человека. И поэтому, когда регионы один за другим стали отделяться от Москвы, когда распад России стал фактом, эти же люди пришли к нему и попросили стать их правителем. Он не смог им отказать, хотя вполне мог сослаться на возраст. И вот теперь его республика – единственная надежда всех русских людей на возрождение. Причем он считал русскими и татар, и угров, и якутов, и дагестанцев, и бурятов, и башкир, то есть всех, для кого русский язык, русская культура были родными, кто мыслил на русском языке.
– Иван Николаевич, разрешите? – Его размышления прервал Лазуренко, которого он давно ждал с докладом по делу Труварова.
– Проходи, Феликс Игоревич. – Иван Николаевич пожал гостю руку и направился к небольшому столику с двумя креслами, где было удобно беседовать с глазу на глаз.
– В общем, так, Иван Николаевич. Труваров жив!
– И где он? – Тимофеев был крайне обрадован сообщением своего главного контрразведчика, но привычка скрывать свои эмоции сработала и тут.
– Мы пока не знаем.
– Так узнайте! – в сердцах выкрикнул Тимофеев и сразу же пожалел, что не смог сдержаться.
– Ты на меня, Феликс Игоревич, не обижайся. Буду с тобой откровенен. Это решение я принял давно, и сейчас самое подходящее время посвятить тебя в мой замысел. Понимаешь ли, Труваров – крайне важная фигура в той игре, которую мы затеяли. Я, как организатор, а ты – как талантливый исполнитель. Не пытайся меня переубедить. Я лет десять за тобой наблюдаю и знаю, что говорю. Так вот. Труваров даже не столько нужен мне, сколько, если хочешь, стране и народу, – произнеся эти слова, Тимофеев внимательно посмотрел в глаза Лазуренко, который выдержал тяжелый, изучающий взгляд шефа, побуждая того продолжать.
– Труваров – кандидат на вакантное место всероссийского правителя, ее царя, духоводителя. Не буду долго тебя нагружать совершенно не нужной информацией, но по всем пророчествам, наступает тот самый момент, когда во главе государства должен стать так называемый Белый Царь, и «держава наша многострадальная наконец-то преобразится в державу Белого Царя». Ты не думай. Я не слетел с катушек. И с головой у меня, вроде, все нормально. Но я в это верю. Ибо если не верить, то на что надеяться?
На вопрос Президента Лазуренко счел нужным ответить:
– На нас, на вас, если хотите. Но при чем здесь никому не известный Труваров и вся эта хрень с пророчествами? Ведь Вы же бывший коммунист, а значит, материалист. И тут какой-то то ли русский, то ли француз Труваров! Какой Белый Царь? Да у нас царя скинули сто лет тому назад, и никто даже не поперхнулся!!! Кстати, что нам делать с этим Белым Царем именно здесь, в Екатеринбурге, где, если верить официальной версии, семья последнего русского самодержца и была расстреляна? Не понимаю! – Разволновавшийся Лазуренко потянулся за салфеткой, чтобы вытереть выступивший на лбу пот.
– Все мы рационалисты, и я, и ты, и поголовно вся страна. Признаться, я всегда с подозрением относился к оккультизму. Но с годами мое восприятие мира стало меняться. Нет, я не стал излишне религиозным, не хожу к ведунам и колдунам, но все больше верю в то, что божественный промысел все-таки существует. И с каждым годом вера эта во мне растет. Наверное, помру скоро! Не возражай и сиди спокойно! Я же не нуждаюсь в опровержениях! Но, как бы это лучше объяснить, со временем для меня понятия любви, чести, совести, сострадания, греха, ответственности стали наполняться вполне конкретным смыслом и содержанием. А ведь их нельзя измерить линейкой или взвесить на весах! Но когда я говорю, что люблю, то четко себе представляю, что имею в виду. Эта иррациональная категория вполне гармонично умещается в моем мозгу и укладывается в мою личную логику поведения. Ты-то сам в любовь веришь? – Иван Николаевич внимательно наблюдал за Лазуренко.
– Я верю оперативным сведениям своих агентов, – запальчиво ответил тот.
– Вот ты и прокололся! Вера-то тоже категория иррациональная. Мало что ли было случаев, когда тебя обманывали? Или двойные агенты не попадались? Или предательства в вашей службе не было? А как Пеньковский, Борщов, Иванов? Их на что спишем?
– Насчет веры согласен. Но почему царь? На хрен, извините, он нам нужен? – Лазуренко понимал, что шефу сейчас как никогда важна его искренность.
– А царь нужен для того, чтобы порядок был. Чтобы символ был единства народа и пространства. Чтобы знал, что он – не приходящий дядя, после которого хоть потоп, а тот, кто работает не только на себя, но и на потомство. И ты правильно заметил, что именно у нас, здесь в Екатеринбурге, последнего царя с семьей убили. Выходит, так судьбой и предназначено, чтобы именно здесь возрождение и произошло! – Тимофеев видел тщетность своих попыток убедить генерала, но был абсолютно уверен в своей правоте.
– Ну, хорошо! Царь так царь. Мы люди маленькие, не нам, как говорится, о том судить. Но почему именно Труваров?







