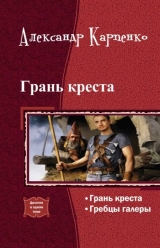
Текст книги "Грань креста (СИ)"
Автор книги: Александр (1) Карпенко
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Я прячу глаза – мне кажется, что во взглядах коллег я читаю упрек. Слоняюсь бестолково по станции, не зная, куда приткнуться. На пороге курилки возник Павел Юрьевич, поманил меня коричневым от никотина пальцем. Бреду, как на казнь.
Старший доктор шумно прихлебнул из своей колоссальной кружки, выпустил облако дыма и вынес приговор:
– Сегодня ты до работы не допускаешься.
Сердце мое упало.
– Служебное расследование?
– Сдурел? Просто ты, гляжу, небоеспособен. После пятиминутки отдыхай, приходи в норму. Да, и переодеться не забудь. Ходишь, как оборванец.
После вчерашних приключений вид у меня и впрямь был непрезентабельный.
– Похороны Прохора Нилыча вечером. Я скажу Лизавете, она тебя разбудит, если заспишься.
– А я не знал, что его звали Прохором…
Пятиминутка сегодня закончилась на диво быстро. После отчета старшего врача слово взяло верхнее начальство:
– Двадцать четвертого числа текущего месяца психиатрическая бригада в составе врача Закариаса и фельдшера Бадри прибыла к больному в деревню Расплюево. Повод к вызову – неправильное поведение. Больной находился в состоянии острого психомоторного возбуждения, был агрессивен, вооружен заряженным арбалетом и топором. Бригада в течение двадцати минут ожидала прибытия полиции, не заходя в избу. За это время больной, запершийся в доме соседей, изрубил в щепки мебель, отсек хвост домашнему коту и выпил все имевшиеся алкогольные напитки, в связи с чем поступила жалоба от хозяев дома на нерешительные действия бригады. Следует заметить, что на вооружении психбригад имеются пневматические винтовки, позволяющие дистанционно производить инъекции подобным больным… Наш долг – оградить население… Быстрота принятия решений… Честь медика… Безусловно, администрация сделает надлежащие выводы в отношении…
Как мне это все надоело!
Глава восемнадцатая
Вереница автомобилей «Скорой помощи» тянулась бесконечной лентой. До самого горизонта не кончалась белая река, сверкающая синими волнами работающих проблесковых маяков. Стон десятков включенных сирен вдавливал барабанные перепонки в мозг. Брошенное на произвол судьбы население тщетно пыталось получить медицинскую помощь, неизменно слыша в ответ: «Извините, все врачи заняты. Пару часов придется потерпеть». Станция прощалась с Нилычем.
Я приехал на кладбище с бригадой зеленокожих коллег, чья машина двигалась сразу за возглавлявшим процессию вместительным джипом администрации, на крыше которого был закреплен гроб.
На дне отрытой в топком грунте могилы стояла лужа зацветшей мутной воды. Меня поразили размеры кладбища – десятки рядов одинаковых бетонных плит. На каждой – эмалированная табличка с красным крестом в верхнем правом углу. Сколько ж наших ребят осталось навеки в земле чужого мира?
Автомобили подъезжали один за другим, разворачивались передом к могиле, образовывая полукруг. Еще один, еще и еще, они заполняли поле за кладбищем неровными рядами. Вскоре к могиле стало невозможно подойти, и медики начали влезать на крыши ближайших к ней машин. Водитель джипа протянул главному врачу трубку рации.
– Все собрались? Машины «Скорой помощи», есть кто-нибудь отставший?
Отсутствие ответа было сочтено за общее согласие начать похороны.
Администрация заняла место у лежащей на земле серой плиты – такой же, как и на других захоронениях. Без халата, в темном платье, с черным платком на голове, главврач лишилась своего неприступного вида и стала похожа на обыкновенную немолодую усталую бабу. Ее лицо, утратив обычную надменность, приобрело вполне человеческое выражение печали, тушь на ресницах расплылась.
– Сегодня мы провожаем в последний путь замечательного человека…
Один за другим выступило все начальство.
– Прекрасный работник…
– Добрый и отзывчивый…
– На протяжении многих лет мы знали его как…
– Не забудем…
– …спокойно, дорогой товарищ…
Пустые, ничего не значащие, не стоящие слова, какие говорят о каждом. «Аут бене, аут нихиль». Ничего, не узнать из бестолковых казенных фраз о седом спокойном мужике в замасленной майке. Народ не вслушивается в трескотню, переговаривается. Им вовсе не безразлично происходящее. У них – свои некрологи:
– …у бронетранспортера накрылся. Сам прикинь, эту дуру на буксир не возьмешь. А тут, на счастье, Нилыч мимо…
– …двух с ногами стоил. А уж какие теперь водилы – лучше не говорить…
– …в жизни не напомнит. Наживешь – отдашь…
И то тут, то там хлеставшее, как пощечина:
– А где ж бригада была?
Я стараюсь сжаться, сделаться как можно мельче и незаметней. Вот и начальство начало искать бригаду – сказать слово. Меня, слава богу, пронесло. А Люси отловили и, передавая из рук в руки, доставили к могиле, поставили на холмик выброшенного грунта.
Мышка прыгала, бессильно размахивая лапками, пищала что-то. За гулом толпы не было слышно ни единого слова.
Сообразив это, Люси, цепляясь за чью-то одежду, влезла наверх – на плечи коллег, пробежалась по ним и заскочила через открытое стекло в кабину высокого реанимобиля. Коротко мяукнула ошибочно включенная сирена, провернулся маяк. Наконец мышка нашла нужную кнопку, заставив работать внешний громкоговоритель:
– Не буду повторять сказанное. Все знали Нилыча – доброго и честного человека. Я… я никогда, никогда не забуду, кому мы с Шурой… кому мы обязаны жизнью. Если бы… – Тонкий голосок мышки пресекся, раздалось несколько скрипучих звуков, потом она заговорила вновь, справившись с собой. Голос ее внезапно окреп, набрал силу. – Не нужно винить в его смерти только того одураченного мальчишку, что спустил курок. Будь отсюда дорога домой, Нилыч давно бы нянчил внуков в Айове или Тамбове, не помню точно… Он стал бы хорошим дедом, я знаю. Вспомните, как вы сюда попали и почему финал ваших жизней – под этими серыми плитами. Кто помолится за ваши души?
Люси выскочила из кабины, бросив невыключенный микрофон, оставшийся болтаться на длинном шнуре, подобно маятнику, из стороны в сторону, ударяясь о стойку кузова. При каждом ударе над толпой проплывал неприятный скрежещущий звук.
Начальство поторопилось поскорее свернуть церемонию. По жесту главврача гроб закрыли и опустили в яму. На дне хлюпнуло.
– Прощай, Нилыч, – И она первой бросила горсть земли. Комья гулко ударились о крышку гроба.
Люди подходили друг за другом, склонив головы, говорили что-то, бросали свои пригоршни сырого грунта. Кинул и я, прошептав: «Прости», отошел, освобождая место следующему. На ладони остался мокрый след болотной зелени.
В лопатах не было нужды. Народа было столько, что могила заполнилась, вырос холмик. Водрузили плиту, помолчали немного, разошлись по машинам.
Начальница вновь взяла рацию:
– Выезжаем, начиная с внешнего ряда, слева направо. Центр, диктуйте.
– Белая Топь, улица-Болотная, восьмой дом. Плохо с сердцем. Время приема… Передачи… Рекомендуемый маршрут…
– Линейная сто двенадцать, вас поняли, Центр. Выполняем.
– Город, улица… Время, маршрут…
– Линейная девяносто семь, принято, поехали.
– Время… Маршрут…
– Поняли…
– Поняли…
Машины, бригады которых получили вызов, разворачивались и, включив на прощанье последний раз сирены и маяки, уходили от кладбища по чавкающей под колесами гати одна за одной выполнять свою работу. Сегодня. Завтра. Ежедневно.
– Нет, нет! – раздались вблизи душераздирающие вопли. – Я не хочу! Не буду, не поеду! Мы все, все погибнем здесь! Нет спасения! Нет спасения!
Я протиснулся между пыльными кузовами, влекомый профессиональным любопытством. У распахнутой дверцы автомобиля на краю площадки билась, металась по земле молодая женщина, почти девочка. На запыленном лице – дорожки, проложенные слезами. Из прокушенной губы течет на подбородок струйка крови. Перепачканный зеленью халат распахнулся, сбился, обнажая исцарапанные до самых штанишек ноги, из-под которых выглядывал краешек казенного бинта. Тело женщины сотрясали судороги, выгибали его дугой. Рядом растерянно переминался с ноги на ногу немолодой водитель в роговых очках.
Я с размаху залепил ей пару хлестких пощечин – без эффекта. Забыв, где нахожусь, требовательно протянул руку назад, щелкнув пальцами. Кто-то, чей ход мыслей был сходен с моим, истолковал жест адекватно и сунул мне в ладонь набранный шприц.
– Что там?
– Реланиум.
– Два?
– Четыре.
– Годится. Держите руку.
Полностью ввести лекарство не удалось – при очередном рывке игла вылетела из вены, но сделанного хватило, чтобы истерика мало-помалу угасла. Вот уже женщина начала успокаиваться. Перестала дергаться, замолчала. Затем присела, обвела нас глазами так, словно видела впервые. Спохватившись, стыдливо одернула халат. Встретившись со мной взглядом, покраснела.
– Извините меня, пожалуйста… Поймите, у меня там ребенок остался.
– У меня – трое…
Я помог ей влезть в кабину. Материализовавшийся возле нас Павел Юрьевич выдрал из ее пальцев скомканную бумажку с вызовом, через голову протянул следующей бригаде.
– Ты – в конец очереди, – жестко объявил он, – чтоб через десять минут в порядке была.
– Я ей реланиума вкатил, – попытался заступиться я, – может, дадите полежать?
– Пока доедет, выспится. Задержки выезда на три часа уже. А с тобой, голубь, мы еще побеседуем.
– Да я-то что… – начал было я, но тут раздался хлесткий выстрел, за ним другой. Я даже не представлял себе, до какой степени можно выдрессировать человека – тем более меня самого! – за такой короткий срок. Прежде чем голова успела что-либо сообразить, мускулы самопроизвольно сработали, бросив мое тело наземь и перекатом переместив под днище ближайшего автомобиля.
Боязливо выглянул из-под бампера. Руки мои пытались нащупать отсутствующее оружие.
Пьяная в дым троица: высокий мускулистый водитель, седой унылый доктор с трясущимися руками, коренастый фельдшер азиатской наружности. В руках последнего – карабин. На земле, у колеса – открытая емкая бутыль с белесо-мутным содержимым, огрызки хлеба. Судя по вываливающимся из кармана водителя наручникам – коллеги-психиатры. Фельдшер передернул затвор и пальнул в воздух. Павел Юрьевич надвинулся на него.
– Вы что, ироды, творите?!
Водитель засунул пудовые кулаки в карманы широких порток, качнулся с пяток на носки…
– Дык… Нилыча провожаем. Во мужик был!
Фельдшер снова выстрелил. Карабин дернулся, едва не выпав из неверных рук. Из дула тянулся сухой беловатый дымок. Резко пахнуло горелым порохом.
– Отдай пушку! – Старший врач уверенно и властно протянул руку.
– А ты забери! – злобно ощерился узкоглазый смуглый парень, опуская ствол на уровень его груди. Палец с коротко обгрызенным ногтем танцевал на спуске.
Снулое лицо водителя оживилось. Руки он вынул из карманов. На кулаке правой блеснули кольца наручников, взятых, как кастет.
– Шел бы ты, Юрьич, – ласково посоветовал он, – не мешал бы. Завтра ж нам тут лежать.
Врач не принимал участия в конфликте. Его тихо рвало в сторонке.
– Черт с вами! – Старший доктор сплюнул досадливо, махнул рукой, взвесил на ладони бутыль и неожиданно приложился к грязному горлышку. Вновь цикнул тягучей слюной и, сгорбившись, поплелся к джипу администрации. Пьяный салют продолжался. Остро и пряно пахнущие теплые гильзы одна за одной отлетали, выброшенные отражателем затвора. Пиф-паф. Пиф-паф.
Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить?
Глава девятнадцатая
– Ты ночевать здесь собрался? Не советую, – услышал я голос водителя.
Последний автомобиль собирался отчаливать с кладбища.
– Садись, парень. До базы подбросим.
Дважды повторять мне не нужно. Перспектива остаться на ночь среди болот вряд ли кого обрадует. Я скоренько вскарабкался в салон, просунул голову через окошко перегородки. Девчонка, которую я лечил недавно, сидела в кабине, демонстративно отвернувшись в сторону, и боролась со сном. Борьба, похоже, была неравная.
– Как тебя зовут, слышь, красивая?
– Вам-то что? – буркнула та, не отводя взгляда от унылого заоконного пейзажа. Я выудил из кармана бинт, заложил конец толстенькой салфеточкой. Наклонившись, пошарил в чужом ящике. Найдя спирт, обильно намочил ее. Протянул вперед.
– Эй, красивая! Локоток перевяжи. Я там напортачил маленько.
Она посмотрела на свою руку. У локтевого сгиба расплылось неэстетичное синее пятно – следствие моих манипуляций. Перевела взгляд на меня, видимо ища в моем лице осуждение или насмешку. Не найдя ни того, ни другого, смягчилась:
– Меня зовут Дженифер. Дженни.
И в знак примирения, протянула ко мне «подпорченную» руку:
– Сделай, пожалуйста.
Я аккуратненько приспособил компресс на локтевой сгиб, завязал, стараясь не затягивать слишком туго. Улыбнулся, попытавшись сделать это как можно дружелюбнее. Представился.
– Спасибо, Шура. – И, не сдержавшись, широко зевнула. – Что ты мне там вколол? Спать хочется – сил нет.
– Ну так и спи. На меня внимание обращать необязательно.
Дженифер отвернулась, прислонилась светлой головкой к боковой стойке, закрыла глаза. Я откинулся на спинку вертящегося кресла салона, тупо глядя на бесконечную гать в бесконечных топях.
Безветрие. Мягкие редкие хлопья снега вертятся, как отпущенные в полет перышки, оседают неслышно. Вечер сиренев и тих. Ветки яблонь сверкают длинными иголками стеклянных кристаллов. Темные еловые лапы согнулись до земли под толстыми мягкими подушками. Наст хрустит, как целлофан. Скатерти на крышах окаймлены стеклянной бахромой сосулек. Русло реки съела лиловая тень. Над пропадающей в поле лыжней встает низкая луна в двойном круге света. Ранняя, еще не запылившаяся звезда заглядывает в печную трубу, жмурясь от пышного белого дыма, прямым столбом уходящего ввысь. Чурки лопаются под топором и брызжут щепочками. В воздухе запах мерзлой березы.
Высыплю свежую охапку на некрашеный пол, швырну телогрейку в угол. Скрипнет закопченная задвижка. Огонек сначала робко скручивает бересту в рулончик, скручивает и вдруг вспыхивает бело и ярко, охватывая поленья. И вот уже накалилась чугунная дверца, набравшее силу пламя шкворчит и постреливает угольками. Медный чайник свистит, суля закипеть. Смородиновая настойка, недавно выуженная из снега, обтекает крупными слезами на хрусткие огурчики в глиняной миске. Ворошу кочергой уголья, отворачивая лицо от алого жара. Чуть прикрываю вьюшку.
Когда ты успела войти, милая? Я не слышал скрипа двери. Твои щеки красны от холода и в ресницах запутались снежинки. От тебя пахнет морозом и хвоей. Замерзшие пальцы не справляются с пуговицами серой шубки. Дай я помогу тебе ее снять. Какие у тебя холодные руки… Щеки… Губы… Протяни ноги к печке. У меня есть немного клубничного варенья к чаю. Какой холодный вечер… Ты останешься у меня? Пожалуйста…
Тряхнуло машину на неровно уложенных плитах. Как там говорила Владычица Ночи? Это стихи? Нет, это бестолковые мысли. Водитель что-то бубнит себе под нос, странным образом в согласии с моим воображением:
– А здесь и зимы-то никакой нет совсем… Господи, я бы каждую снежинку расцеловал, каждую сосулечку обнял! И Новый год тут не празднуют. Вот у нас, бывалоча… Э, здеся на базу поворот, а моя, вишь, разоспалась. Будить, что ли?
Я потряс Дженни. Голова девчонки беспомощно перекатилась с одного плеча на другое, упала на грудь. Открылась хрупкая беззащитная шейка с крупной родинкой у основания. Перелечил…
– Что делать-то? – забеспокоился водитель.
– Что-что… Куда у нее вызов? – Погонщик скоропомощной телеги завозился, зашебуршился и, чертыхаясь, выудил откуда-то огрызок бумаги с координатами вызова.
– «Плохо». Что плохо? Где плохо? Диспетчеры напринимают хрен знает чего, не спросивши! Ровница. Это далеко?
– Да не-е. Соседний сектор, верст двадцать по прямой.
Я покрутил носом, в который раз бесцельно удивляясь здешним понятиям о «близко» и «далеко».
– Поехали, я обслужу Все одно безлошадный пока. Но чтоб потом на базу!
– А где ж твой транспорт?
– На базе.
– А водила где?
– В могиле.
Охота разговаривать у пилота пропала. Он сгорбился над баранкой, упытрившись на косые трещины в мокром бетоне дороги.
Сзади раздалось шуршание, скрипение, хруст и несколько погодя сонный писк:
– Проблемы, коллега?
Мятая и взъерошенная со сна Люси выбралась из внутреннего кармана моей куртки, брошенной на носилки. И как это она там оказалась?
– Есть некоторые, – я передал ей бумажку с вызовом.
– Ха, тоже мне, проблема! Эту дуру здесь все знают как облупленную. Она каждый день вызывает.
– Что, такая больная?
– Здоровей тебя.
– Так зачем?
– А на белый халат посмотреть.
Есть такая категория больных, каких в районе обслуживания любой станции «Скорой» двое-трое найдется. Вряд ли существует разумное основание тому, почему они ежедневно хотят видеть медиков, которые со временем начинают их тихо ненавидеть и испытывать на их организмах самые изуверские лекарства в надежде отучить от скверной привычки хвататься за телефон. Их задубелым задницам, однако, все нипочем. Дикие разумоотшибающие коктейли и зверские смеси снотворного с мочегонным благополучно усваиваются их организмами, не принося желаемого результата. В борьбе клиентов со «Скорой» неизменно побеждают клиенты, и многострадальная бригада, исчерпав все возможные поводы к проволочке, вновь обреченно тащится на вызов, проклиная бабку или деда на чем свет стоит.
Были такие и на той станции, где я волок службу в течение большей части своей убогой карьеры: бабка с идиотической лягушечьей рожей Дуремара, утверждавшая, что «весь организм болить»; другая, имевшая полный набор таблеток от своей полувымышленной хворобы, ежедневно требующая объяснить, как их правильно принимать; дед-астматик, желавший получать бронхолитики внутривенно при полном отсутствии одышки. И каждую смену раздавался тоскливый вой очередного неудачника, получившего вызов: «Ну почему, почему мы не имеем права послать их на…»
– Чем она замечательна?
– Ничем. Дура дурой. Вроде как радикулит у нее. Померяешь давление, уколешь тем, что под руку попадет, и все дела. Зачем такой вызов взял?
– Да я и не брал. – В двух словах обрисовал ситуацию.
– Что ж, сам себе работы надыбал, сам и расхлебывай, – зевнула мышка, – а я еще присплю, раз есть возможность.
И полезла обратно в куртку. Логично. На «Скорой» есть и спать нужно, когда дают, а не когда хочется. А не то так и останешься не жрамши да не спамши.
– Что болит, родимая?
– Ой, милок, все болить!
– Давно болит-то, бабка?
– Ой, давно, я и не упомню скольки.
– Ясно…
Я озадаченно искал в дряблом заду место, куда бы всадить иголку. Обнаружение оного представлялось делом почтенным и требующим трудозатрат, достойных лучшего применения. После длительного изучения мне примерещился участок помягче. Замах был могуч. Раздался громкий стук вколачиваемого в доску тупого гвоздя. Игла согнулась пополам. Я выждал приличествующую случаю паузу, спрятал в карман полный шприц, объявил:
– Вот и все, отдыхай.
– Ай, спасибо, милок. Мне уже легче.
Облезлое домашнее животное обошло вокруг меня, с сомнением глядя на промокающий анальгином карман, роняя мне на брюки клоки линючей шерсти. Я ретировался со всей возможной скоростью.
Протирающая слипшиеся глазки измятая Люси встретила меня ехидным вопросом:
– Ото всех болезней вылечил?
– Безусловно. – Полный шприц полетел в кусты.
– Поздравляю. А нас тут ищут.
Рация и впрямь булькала, видимо вопрошая, где мы находимся. Ответил.
– Девятнадцатая, как вас туда занесло?
– С линейной шестьдесят три.
– Не очень поняли, но вызов пишите. Вызов срочный, клиент вооружен, агрессивен, адрес… Маршрут… Записали?
– Записали, выполняем.
Водитель в ужасе схватился за голову:
– Вы что же, психи?
– Ага. Буйные. Езжай давай.
– А Дженни?
– Спит себе и пусть спит. Меньше шума будет.
Бедолага включил передачу, проклиная свою горькую судьбу распоследними словами.
– А если ты думаешь, что ты для нас подарок, так мы тебя сейчас, как подарку положено, ленточкой перевяжем, – утешила пилота Люси, выкатывая из моей куртки свернутую в моток парашютную стропу. С тем и поехали.
Глава двадцатая
Облупившийся дом под ржавой крышей стоял на отшибе в зарослях могучих сорняков. Тощая домашняя птица мрачно восседала на оглобле разбитой телеги, отчаявшись обнаружить во дворе что-либо съестное. На солнцепеке перед гнилым крыльцом бестолково топтались двое ражих детин в полицейской форме, с лицами деревенских увальней. Из дома доносился монотонный женский крик. На мой вопрос о существе происходящего полисмены синхронно, как по команде, открыли рты, издали звук «э-э-э» и захлопнули их. Мысленно перекрестившись, я двинулся в дом. Люси на ходу заскочила ко мне на плечо. Орлы-правоохранители топали сзади, не особенно торопясь.
Влетаю с размаха в горницу. У стены на полу сидит белая как полотно женщина, держа одной рукой другую – с отрубленным под корень большим пальцем, воет. Кровь, пузырясь, капает на шершавые доски. В угол жмется напуганный до смерти мальчуган лет десяти.
За скобленым столом, со стаканом в руке – здоровенный, голый по пояс бугай. Под рукой – длинный тяжелый преострейший нож.
Подавляя неимоверным усилием воли дрожь в коленках и непроизвольный позыв к мочеиспусканию, направляюсь прямо к столу, надеясь, что со стороны кажусь достаточно уверенным в своих силах. Маленькие свинячьи глазки мужика остановились на мне. Ручища поставила стакан и потянулась к ножу. Подбрасываю на ходу ногой табуретку, ловлю за ножку.
Конечность детины меняет траекторию, перехватывает мебель за другой конец, легко вырывая ее у меня из рук, отправляет в окно. Грохот бьющегося стекла и рушащегося дерева. И вновь движение к оружию.
Нет, не успел! Серый вихрь слетел с моего плеча, метнулся под страшную лапу, и нож зазвенел, ударившись о пол. Люси горделиво вернулась на свое место, довольная собой. Я несколько приободрился, нашариваю в кармане газовый баллончик, прикидывая свой следующий ход. Повеселели и полисмены, завозились, извлекая на свет длинные дубинки.
Бугаина сообразил, что расстановка сил меняется не в его пользу. Глазенки его забегали по сторонам. Внезапно он вскочил, издавая звериный рев, отпрыгнул от стола, сгреб в охапку мальчонку и выхватил из кармана обыкновенную пластмассовую расческу Затрещали, выламываясь, зубья, и в доли секунды из мирного предмета обихода сделался пилящий инструмент с острым иззубренным краем. Вжавшись спиной в угол, бандит, брызжа слюной, рычит, прижимая расческу к горлу ребенка:
– Еще шаг, и я пацана кончаю!
Мы растерялись. Как не растеряться?! Блюстители порядка мнутся с ноги на ногу. Я подбираю с пола нож, тупо верчу в руках.
– Слышь, тебе чего вообще-то надо?
Детина щерится, обнажая гнилые корешки съеденных зубов.
– Денег. Водки. Машину.
Здесь тоже дурные боевики показывают, что ли?
– И чтоб поскорее! А не то…
Угрожающее движение рукой. Пила сломанной расчески сильнее прижимается к детскому горлу. В глазах мальчонки стынет ужас. Изувеченная женщина кучей тряпья валится на пол – не то от кровопотери, не то от непереносимого страха.
Я, вздрогнув, порезался. Нож был отточен до бритвенной остроты. Тяжелая синяя сталь, переливающаяся поперечными полосами. Баланс почти идеален – центр тяжести там, где рукоять переходит в хищное лезвие. Такой нож метать хорошо. А что, если… Шестеренки в голове закрутились быстрее и быстрее. Полтора оборота на три ярда или около того… До бугая – ярдов семь… Если рукоятью да в лоб мало не покажется. По крайней мере, пацана бросит. А там – посмотрим…
Кидаю резко, почти без замаха. Оружие летит точно в цель, но я внезапно в ужасе понимаю, что рука меня подвела. Бросок неверен. Нож сейчас воткнется.
Чпок. Сочный звук вошедшей в дерево стали. Бог милостив, я не стал убийцей. Бандюга дернул башкой, увидя летящую смерть, и лезвие, скользнув по морде, прошило дубленую шкуру пониже уха, приколов его к стене.
Мальчонка опрометью кидается вниз по ступенькам крыльца. Бугай, побледнев, нашарил у щеки рукоятку, попытался качнуть. Острие задевает шею. Хрипит:
– Ваша взяла, суки… Вяжите.
Иду к нему качаясь. Голова кружится, колени предательски подгибаются. Наручники отзванивают в трясущихся руках. Щелк. Щелк. Закрылись. Теперь аккуратненько вынуть нож, не зарезать ублюдка. Отошел. Опустился на стул, обессилев. Отстранение гляжу, как неизвестно откуда взявшаяся и невесть кем вызванная другая бригада оказывает помощь женщине, как вспомнившие о своих обязанностях полисмены волокут бандюгу вон. Краем уха улавливаю, что это, оказывается, вовсе даже не наш клиент, а беглый преступник по кличке Кабан. Подходящее имечко… Поднялся. Сошел во двор, присел на порожек автомобиля. Дышу. Все живы. Господь милостив.
Незаметно появившаяся Люси дергает меня за штанину:
– Уважаемый господин фельдшер!
– Э?
– При всем моем почтении к вашим талантам, я попросила бы вас впредь… как бы это сказать… фиксировать больных не столь экзотическими способами. Доступно?
– Так то больных…
– И тем не менее… Ну что смотришь на меня, как ушибленный кролик?
– Люсь, можно тебя попросить о личной услуге?
– Чего тебе, рейнджер непутевый?
– Поищи пилочку, а?
Глава двадцать первая
Автомобиль грелся на солнышке во дворе дурдома. Водитель, поминутно роняя с носа очки, увлеченно читал газету, попавшую сюда за месяц до того, как меня угораздило здесь оказаться. Чтение сопровождалось оживленными комментариями, вроде: «Ну, чехи против Мадрида явно не потянут», или: «Глянь-ка, американский президент обратно в Израиль наладился». Оторванность мастера баранки от текущей реальности могла сравниться разве с похожим состоянием у клиента скорбного заведения, близ которого мы пребывали. Или его непосредственной начальницы Дженни, все еще продолжающей почивать от непомерной дозы снотворного. Она вконец утратила вертикальное положение, улегшись блондинистыми кудряшками на чехол капота и причмокивая во сне пухлыми губками. Аж завидно!
Должно заметить, что не все клиенты обретают место в желтом доме из-за утраты связи с внешним миром. Некоторые, напротив, попадают сюда из-за слишком ясного осознания его прелестей. Вот как эта бабулька, которую мы прихватили сразу после того вызовочка, где я чуть не взял на душу грех смертоубийства.
Про бабульку. Кто не знает, что такое одиночество, тот вряд ли поймет. Нескончаемая череда серых, однообразных дней, которые нечем заполнить. Отсутствие не просто родной души рядом, но вообще живого человека, к которому понадобилось бы обратиться, хотя бы и с пустяком. Немощь, насилу дающая обслужить самое себя, плюс – нищета… Старушка вешалась трижды. Два раза ее успешно вынимали из петли случайные люди, на третий, справедливо решив, что прослеживается определенная тенденция, захотели познакомить ее с психиатром. Люси долго не разговаривала:
– Ведь грех это, бабушка. Ты ж веруешь, поди.
– Грех, как не грех, – с достоинством отвечала та, подслеповато, щурясь понять, с кем беседует, – а жить так, как я, не грех? Кому я нужна?
– И не страшно ж тебе было руки-то на себя накладывать?
– Вперед страшно, а потом я привыкла.
– Ну, поехали…
Борух Авраамыч отсутствовал. Прием вела пожилая высокая дама с благородной осанкой и шикарной седой косой, уложенной короной вокруг головы. Она внимательно оглядела странгуляционный рубец на шее старушки и, пренебрегая нашим сопроводительным листом, увлекла ее в глубь приемного покоя, поближе к чайнику и накрытой кружевной салфеточкой тарелочке с чем-то румяным и аппетитным.
Мы убыли во двор ожидать вердикта на свежем воздухе. Люси развлекала меня местными рассказками:
– …как покойник. Только дух сивушный кругом. Аленка давай его глядеть, не в коме ли. Зрачки смотрит, давление меряет, ну и прочее. Хлопочет, а этот сидит у ящика, на нее таращится. Девчонка ладная, а погода жаркая, халатик коротенький на голое тело. Она так повернется, сяк наклонится. Глазенки-то у него поразгорелись, похоть взыграла, он ручонку-то шаловливую ей под халат и запустил. Больной вмиг ожил, хвать за топор и ну их по дому гонять! «Ах вы, изверги, – кричит, – я тут с ангелами уже беседую, а вы у моего смертного одра блуд учинили!» Насилу ноги унесли да давай нашу бригаду на помощь кричать, белая горячка, мол… А сходи-ка ты, Шура, посмотри, что там с больной, – спохватилась моя маленькая начальница.
Я нырнул в прохладу приемного покоя. Беседа нашей старушки с доктором неспешно текла к обоюдному удовольствию. Дрожал янтарный чай в высоких стаканах, блестела на блюдечке горка колотого сахару. Бабулька прихлебывала мелкими птичьими глоточками и погружалась все глубже в дебри своей генеалогии. Похоже, перебирались уже четвероюродные заборы старушкиного плетня. Врач, согласно кивая, жевала пышный пирожок. Надолго обосновались.
Выбрел обратно, щурясь на дневное светило. Мышка вопросительно глянула на меня.
– Беседуют, – махнул я рукой, – толкуй, что там дальше было.
– Дальше-то? Да все просто. Приехал Равиль. А фельдшером у него Гоша Грузило. Ежели четверых таких, как ты, сложить, навряд ли один Гоша получится. У Гоши стиль бесхитростный: вместо «здрасте» – кулаком в душу. А уж потом «зачем вызвали». Как они там беседовали, неведомо. Только вылез больной через сколько-то времени, на коленях к Аленке ползет и кланяется: «Извините, госпожа, Христа ради».
– Госпитализировали?
– Ага. В травму с сотрясением мозга. А девчонке позор на всю «Скорую», хоть беги.
– И вот вы, доктор, врете все, – вмешался неожиданно в разговор водитель.
– Ха, а я думала, ты там в газете вконец поселился и между строчек бегаешь. А уши-то, оказывается, снаружи остались!
– И все равно врете, – упрямо заявил пилот, – там и впрямь горячка была. Они шли на «плохо с сердцем», а тот на них – с топором. Всей и правды, что извиняться его заставили. А остальное Грузило, пустозвон, натрепал. Осрамил, дуб, деваху ни за что.
– Ты-то почем… – начала было моя начальница, но развитию спора помешало появление на крыльце привезенной нами старушки. Вид ее был благостен, чистое маленькое личико светилось, будто вышла из храма. Она обернулась и истово поклонилась обшарпанной больничной двери, словно иконе.
– Благослови тебя Господь, госпожа доктор! – с чувством произнесла самоубийца-неудачница и направилась в нашу сторону. – Благослови и вас Господь, что привезли меня, скудоумную, сюда!
Мы разинули рты в немом удивлении.
– А и просветила меня госпожа доктор, а и на путь понаставила, – возвышенно вещала бабка, – и от мыслей моих глупых рецепт выписала. Сделай, говорит, как написано, все плохое отойдет. Уж какая доктор душевная! Ну чисто андел Господен! – И, несколько сменив тон, попросила: – А вы, господа, не прочитаете ли мне, что за лекарство прописано? Я ить глазами слаба, самой не видать.
Мы оторопело приняли из слабых рук бумажку, развернули. На бланке с угловым штампом психиатрической лечебницы значилось:








