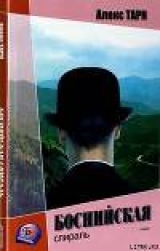
Текст книги "Боснийская спираль (Они всегда возвращаются)"
Автор книги: Алекс Тарн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Они отвезли ее в Крушице, в барак, отведенный для «жаворонков», где кроме них было еще четверо. Они насиловали ее вшестером две недели подряд, пока им не наскучил грязный кусок мяса, в который она превратилась. Тогда они вывезли ее на шоссе и выбросили из грузовика в кювет – как была, нагишом. Патруль миротворцев обнаружил ее прежде, чем она успела замерзнуть, в состоянии глубокого шока, со множественными переломами и обморожениями полурастерзанного тела. Девушка не могла вымолвить ни слова, не помнила, кто она и откуда. После оказания первой помощи в сараевском военном госпитале натовские миротворцы были вынуждены переправить ее в специализированную больницу в Англии. Там Энджи провела около года. Трудно было найти кого-то, кто более нее подходил бы под определение «беженец», так что проблем с английским гражданством не возникло.
* * *
Энджи с хрустом смяла в кулаке пустую сигаретную пачку.
– Вот и все, – сказала она, направляясь к буфету. – Теперь можешь смотреть. Подожди, я возьму сигареты.
Берл проводил ее взглядом. Тяжелая история, которую ему пришлось только что выслушать, была рассказана ровным, почти бесстрастным голосом, прерываемым лишь глубокими затяжками прикуриваемых одна от другой сигарет. И сейчас, когда женщина вернулась, на ходу распечатывая новую пачку, глаза ее оставались сухими. Разве что немного прибавилось тусклого болезненного огня в самой глубине зрачков.
«Она сумасшедшая, – вдруг понял Берл. – Вот и вся разгадка. Одержима идеей мести. И я ей нужен для этого, и оружие.»
– Надо же, – Энджи усмехнулась и, склонив голову набок, аккуратно стряхнула сигаретный пепел. – Я и не думала, что это окажется настолько просто. В смысле – рассказать. Ни разу, представляешь? Ни разу, ни слова, никому, за все эти без малого девять лет… Знаешь, почему я просила тебя не смотреть? Была уверена, что заплачу.
– Ну и что? – не понял Берл. – Что тут такого? Люди плачут.
– Люди – да, – снова усмехнулась она. – Энджи – нет. Последний раз я плакала там, в Крушице, девять лет назад. И с тех пор – ни разу. Совсем разучилась. Теперь уже, думаю, навсегда – если уж сейчас не заплакала… А представляешь, какое бы это было веселое зрелище – расплакаться после девяти лет засухи? Плачущая женщина, забывшая, как это делается. Не для слабонервных.
– У меня нервы в порядке, – угрюмо заметил Берл.
Он ждал. Наверняка сейчас она намеревалась выложить карты на стол. А иначе зачем было все это рассказывать? Намеревалась просить, требовать, во всеоружии своей нечеловеческой беды, своей боли, сухой и белой, как пустыня у Мертвого моря. А он? Что он мог ей ответить, чем помочь? Объяснить, что месть – как соленая вода из того же моря, не утоляет жажды? Рассказать, как приходят по ночам убитые твоими руками люди и спрашивают «зачем?»
Нет, все зря – одержимость слышит только свои собственные аргументы.
Энджи молча курила, сидя напротив и щурясь от сигаретного дыма. В сгустившейся темноте, дыме и молчании Берл не видел ее лица, только отдельные черты, выхватываемые из мрака огоньком во время затяжки. За окном уже вовсю шевелилась ночь, удобная безлунная ночь, прорезаемая лишь несколькими прожекторами с минаретов да желтыми мигалками патрулей.
«Пора… – подумал Берл. – Сейчас скажу ей „нет“ и уйду.»
Все так же молча, он встал и распахнул окно. Начинался дождик, мелкий и, видимо, долгий; деловитый осенний ветер носился в холодном воздухе. Берл вдохнул полной грудью, наслаждаясь этим чистым и влажным глотком после удушливой сухости беды и сигаретного дыма, клубящихся в горнице у него за спиной. Он был жив, вот ведь как. Жив, несмотря ни на что. Это главное. Город обложен со всех сторон, повсюду засады и охотники – так что ж? Подумаешь… Он пройдет сквозь них, быстро и бесшумно, как умеет. И дождливая ночь поможет ему. А если напорется на засаду – тем хуже для засады…
Энджи обняла его сзади, прижавшись к спине. Он чувствовал ее щеку и подбородок на своей лопатке. Ну вот, начинается…
– Ты ведь не скажешь мне «нет», правда? – прошептала она. – Тебе трудно понять, я знаю. Ты считаешь меня сумасшедшей.
Не глядя, Берл представлял себе ее лицо, ее сухие глаза, незряче уставленные в никуда, тусклый огонь одержимости в глубине огромных зрачков.
– Энджи, милая, – сказал он мягко. – Мы все равно не сможем убить их всех. Даже вдвоем.
– Вчетвером. Нас будет четверо.
– Да хоть целый полк… И почему ты думаешь, что они еще живы, твои снайперы? Прошло девять лет. Киллеры долго не живут, даже такие элитные. Кстати, трупы троих «жаворонков» я видел собственными глазами относительно недавно. Мирсад, Весим и Фуад… эти имена тебе знакомы?
Она вздрогнула всем телом, отстранилась и развернула Берла к себе. Блуждающий луч прожектора с дальнего минарета мазнул ее по лицу, высветив гримасу боли.
– У Мирсада на лице шрам… – начал Берл, но она закрыла ему рот ладонью и продолжила, странно постукивая зубами:
– …над левым глазом? Да? Да?..
Берл кивнул. Он почувствовал, как дернулось ее тело, будто раздираемое огромной, раскручивающейся изнутри пружиной; как судорожно, по-кошачьи, вцепились в него скрюченные пальцы. Она подняла к нему лицо с немо разинутым ртом, и тут только Берл скорее угадал, чем увидел, слезы, безудержными волнами текущие по щекам, и поскорее прижал ее голову к груди, чтобы не смотреть. Энджи оказалась права – зрелище действительно не для слабонервных.
Он стоял у раскрытого в сад окна, прижимая к себе ее сотрясаемое рыданиями тело, прижимая сильно, чтобы передать ей ощущение опоры, надежной и крепкой скалы в бушующем море истерики, по волнам которой беспомощной щепкой носилось сейчас ее переполненное болью сознание. Дождь за окном усилился, сопровождаемый дальним ворчанием приближающейся грозы, как будто ночь тоже копила рыдания, собираясь выплакать в темноте все свои неведомые горести. Наконец Энджи взяла себя в руки или почти взяла – во всяком случае достаточно для того, чтобы оторваться от Берла, и, спотыкаясь, закрыв ладонями лицо, преодолеть расстояние, отделяющее ее от входной двери, и, вырвавшись под дождь, встать там, держась за угол дома, запрокинув лицо к невидимому холодному небу, торопливо смешивающему ее слезы со своими, ее горе со своим, облегчая, врачуя и сглаживая.
Когда она вернулась в горницу, все еще дыша длинными прерывистыми вздохами и смущенно трогая распухшее лицо подушечками пальцев, Берл стоял там же у окна и уныло думал о том, что ночь, того и гляди, пойдет на убыль. Оставаться здесь еще на одни сутки ему решительно не хотелось.
– Вот видишь, – сказала Энджи, вздыхая. – Я тебя предупреждала… Давай закроем ставни и зажжем свет. Надо уже закончить этот разговор.
Зажегся свет, и Берл в который раз поразился удивительной способности этой женщины меняться, причем не только внешне, но и внутренне. Возможно, в этом был виноват именно свет, сузивший огромные горячечные зрачки, отчего на свободу вырвалась блестящая, влажная зелень глаз, похожих сейчас на умытый дождем луг под неожиданно проглянувшим солнцем. Резкие черты лица как-то сгладились, смягченные слезами и смущенной улыбкой, которая совершенно не походила на прежние циничные и саркастические усмешки. Забыв о своем беспокойстве, Берл с интересом разглядывал эту новую, незнакомую Энджи. Грубая старуха и голливудская женщина-вамп, фурия, сжигаемая сухим огнем одержимости, и нынешняя невинная пастушка – сколько еще обличий ему предстоит увидеть?
– Что ты на меня так смотришь? Не нравлюсь? – спросила Энджи, закуривая. Рука ее слегка подрагивала. Даже сигарету она теперь держала иначе… вот так штука!
Берл пожал плечами:
– Не знаю даже, что тебе ответить. Уж больно быстро ты меняешься. Мне, тугодуму, никак не успеть составить твердое мнение.
– Нам так нужна твоя помощь, Берл, – пробормотала она тихо. – Ты ведь не бросишь нас, правда?
– Ну вот, опять, – Берл сердито всплеснул руками. – Я уже было решил, что ты оставила в покое свою сумасшедшую идею. Сядь-ка! Слышишь, сядь и слушай.
Они снова сидели за столом друг напротив друга, но теперь говорил Берл, а она слушала, кивая и беспомощно улыбаясь.
– Ты хочешь мстить, я понимаю. И кто бы не хотел после всего… – Он пристукнул ребром ладони по столу, как бы отрубая то, что было. – Но пойми же, месть тебе не поможет, станет только хуже. Во-первых, ты и понятия не имеешь, что значит убить человека, даже такую гадину, как Мирсад. Убить такого – это будто топнуть в грязной луже – как ни остерегайся, а заляпаешься так или иначе. Часть этой пакости прилипает к тебе, и потом долго приходится ходить с ощущением грязного пятна на лице и думать, что все вокруг его замечают, это пятно, и оттого смотрят на тебя так странно, и тереть по утрам до красноты ни в чем не повинную щеку, и видеть, что гадское пятно и не думает сходить. К этому нельзя привыкнуть, Энджи! Поверь, я знаю, о чем говорю.
Берл вздохнул и посмотрел на стенные часы. Шел уже третий час ночи. Энджи сидела, опустив голову и по-ученически сложив на столе руки.
– Но это еще самая легкая часть, – быстро продолжил Берл. – Если ты думаешь, что сможешь убивать только мирсадов, то разочарую тебя сразу: не получится. Лес рубят – щепки летят. А иногда вообще выходят одни щепки, без всякого леса. Будешь убивать тех, кто вообще ни при чем или при чем, но не сильно… тех, о ком ты и думать не думала и знать не знала… Те, что живут себе где-то в стороне от твоих планов, а потом в неподходящий момент выходят из двери или из-за угла прямо под линию огня – твоего или вражеского – все равно… Все равно, потому что виноватой все равно будешь ты, потому что ведь ты эту бойню затеяла, ты и никто другой, понимаешь?
Он перевел дыхание.
– А потом они начнут приходить по ночам и спрашивать «зачем?», и тебе придется отвечать, потому что иначе они не уходят. И хуже всего будет с теми, кого ты не успела рассмотреть, потому что эти приходят тоже, но со стертыми лицами, с грязно-белыми пятнами вместо лиц, и ты будешь дополнительно мучиться, пытаясь угадать, как же они выглядели на самом деле за секунду до того, как повернули за тот злополучный угол, оказавшийся последним в их жизни. И знаешь?.. – Берл низко наклонился над столом и прошептал. – Ты будешь помнишь их всех, до единого, всю жизнь. Я помню всех… А их у меня несколько сотен… Всех! Ты этого хочешь? Да?.. Ты мало страдала? Месть не принесет облегчения – она только добавит тебе новой боли. Не вылечит – добавит!
Энджи улыбнулась, взяла новую сигарету и задумчиво размяла ее.
– Ты тоже многого не знаешь, Берл, – сказала она, прикуривая от спички, а потом пристально наблюдая за ее корчами в маленьком желтом огоньке. – Например, что есть такая боль, от которой нет облегчения. Которая не лечится никак. Которую можно только выбить. Знаешь, чем, Берл? – Она положила голову на вытянутую по столу руку и посмотрела на Берла долгим внимательным взглядом. Зрачки снова увеличились, съев радужную зелень, и Берлу показалось, что он увидел отблески прежнего тусклого огня в их черной непроницаемой глубине. Энджи что-то прошептала, но настолько тихо, что он не услышал.
– Чем?
– Болью, – повторила она ненамного громче. – Настоящая боль вышибается только новой болью. А что такое настоящая боль, я тебе объяснить не смогу. Ты этого, слава Богу, не знаешь. Кто не испытал, не поймет. А тех, кто испытал, сразу видно… У них, Берл, тени такие в глазах… типа проблесков. Это она и есть, боль… булькает, сволочь, внутри, как лава.
Энджи помахала рукой, разгоняя дым, пренебрежительно фыркнула.
– Пожалуйста, не думай, что я преувеличиваю. Я слышала, вас обучают терпеть пытки, физическую боль и так далее… Но поверь, это все – чушь по сравнению с настоящей болью. Когда болит по-настоящему, то о физической боли мечтаешь как об избавлении. А почему? Да все потому же – настоящая боль не лечится, ее можно только выбить. Чем? – новой болью… Вот и все. Так что твое предупреждение меня не пугает. Скорее, наоборот.
Берл покачал головой. Он не ожидал такого ответа. По существу возразить было нечего. Его личный опыт убийцы, тяжелым грузом висящий у него на душе в течение многих лет, с лихвой уравновешивался ее опытом жертвы, неизмеримо более страшным. Она просто жила другой логикой, другой моралью, смотрела на мир другими глазами, сражалась по другим правилам. Его «плохо» было «хорошо» для нее, его боль оборачивалась для нее лекарством. Перед ним сидела гостья из другого мира, инопланетянка. Что тут можно было доказывать?
Он снова рубанул по столу ребром ладони, на этот раз уже не столь уверенно.
– Что ж… Если ты собираешься убивать людей в целях личной душевной профилактики…
– Они не люди! – перебила его Энджи. – Это крысы, огромная стая крыс, ползущая на нас на всех, и на тебя тоже. Это изуверские крысы – хуже всего, что только можно вообразить. – Она закрыла лицо руками, продолжила говорить сквозь них быстро и горячо. – Я пыталась забыть обо всем… Жила в Бирмингеме, ходила на курсы медсестер, закончила университет, защитила диссертацию по балканской литературе, пыталась жить как все нормальные люди… И не смогла, не смогла! Это преследует меня повсюду. Потом я познакомилась с одним человеком, сербом… ты его еще увидишь – и мы вернулись, этой весной. Дом был занят босняками, но я его выкупила. – Энджи горько усмехается. – Теперь он принадлежит моей семье по полному праву – деньги плачены. Не то что прежде. Вот только семьи не осталось, чтобы в нем жить.
– Энджи…
– Нет-нет… – остановила она Берла. – Не перебивай, дай мне закончить… Так вот – это страшные, беспощадные крысы. Ты видел у них эмблему такую: на черном фоне белая рука сжимает меч? Этот меч – турецкий, называется «ханджар», а эмблема принадлежит 13-й дивизии СС. Только в оригинале там еще была свастика в нижнем левом углу. Сейчас свастику замазали, чтобы не раздражать европейцев, но на самом-то деле – по сути – она там, на эмблеме. В начале сороковых немцы создали здесь три чисто мусульманские дивизии СС. Они занимались в основном карательными акциями. Кроме боснийских «Ханджара» и «Камы» была еще албанская «Скандербек». В смешанном Хорватском легионе мусульмане составляли треть численности. То, что они выделывали здесь с людьми, смущало даже отъявленных нацистов. Двадцать шесть лагерей смерти! Только в отличие от цивилизованных немцев, построивших Аушвиц и Треблинку, мусульмане убивали вручную, без газовых камер. Деревянными молотками, ножами, топорами. Убивали, забавляясь. Рвали детей на части – просто так, на спор. Женщин и девочек всегда мучили больше – из-за садистского воображения, которое разыгрывалось у палачей после обязательного изнасилования. Чтобы описать их чудовищные зверства, нет слов ни в одном языке. И у нынешних подонков – тот же флаг. Правда, они называют себя иначе: «Патриотическая лига», «Зеленые береты», моджахеды, но это – те же крысы, в точности. И в последнюю войну они делали то же самое, даже убивали так же. Шестьдесят лет назад они убили мою бабку и всю ее семью. Девять лет назад они убили всю мою семью и изуродовали меня. Они были такими всегда. Пока они слабы, они тихонько сидят в своих норах. Но они всегда возвращаются! Стоит им хоть немного усилиться, как они начинают убивать, убивать, убивать!..
Берл покачал головой, улыбнулся, пытаясь перевести разговор на менее серьезный лад:
– Всех не перебьёшь. Даже вместе со мной.
– А мне и не надо всех, – абсолютно серьезно ответила Энджи. – У меня есть конкретная цель: лагерь в Крушице. Во время Второй Мировой там был один из лагерей смерти. Там, на опушке леса, во рву, лежат мой прадед и его сыновья. Во время последней войны крысы снова устроили там что-то похожее, на том же самом месте. Потом переделали лагерь смерти в тренировочную базу. Оттуда пришли снайперы, расстрелявшие мою семью. Там они истязали меня… Для меня лично все сходится в Крушице. И я не успокоюсь, пока не сотру с лица земли эту пакость, до основания. Так, чтобы запомнили навсегда, чтобы больше не вернулись. Понимаешь? Помоги мне сделать это, Берл, – и все, мы квиты. Больше ни о чем не попрошу, честно.
– И это тебя успокоит? – спросил Берл недоверчиво.
– Успокоит. Честно. Я знаю. Ну так что?..
Она напряженно ждала ответа. Берл взглянул на стенные часы. Три с четвертью. Через два часа начнет светать. Это оставляло ему совсем немного времени для того, чтобы покинуть город в темноте. А с другой стороны, предрассветные часы самые тяжелые для тех, кто сидит в засаде. Можно попытаться.
– Я ухожу, Энджи, – сказал он твердо. – Извини. Я, видишь ли, не вольный стрелок. Я солдат и выполняю приказы. То, о чем ты меня просишь, является из ряда вон выходящим превышением полномочий. Я просто не могу самостоятельно принять такое решение, не имею права. Прощай.
Энджи не шевелилась. Берл подошел к ней, положил руку на плечо и наклонился, пытаясь поцеловать в щеку, но женщина отшатнулась, сбросив его руку резким движением.
– Оставь меня! – выкрикнула она, глядя на него прежними безумными глазами. – Ты предатель! Я тебя спасла, а ты… ты… ты меня оставляешь, уходишь. Ты меня предаешь!
Берл вздохнул и пошел к двери.
Энджи продолжала кричать ему в спину:
– Ты предал не только меня, так и знай! Ты предал моих родителей, и Тетку, и моего брата Симона…
Берл открыл дверь и обернулся с порога. Энджи по-прежнему сидела за столом и швыряла в него именами своих мертвецов, как проклятиями:
– …и его невесту Милену, и мою сестру Анку, и мою бабку Энджи, и моего деда Габриэля Кагана!
Берл встал как громом пораженный.
– Как ты сказала? – хрипло переспросил он и шагнул назад в горницу. – Твоего деда… как?..
* * *
Габриэль Каган. Так его зовут, моего мужа. Габриэль Каган, Габо… Грудь его широка, как небо, пальцы нежны и чутки, а кожа на спине шелковистее весенней травы. Бедра его длиннее самой дальней дороги, сильны его колени. По глади живота его мечутся молнии, пронзающие мое сердце… Энджи старается не отставать, поспешает вслед за Габриэлем по неприметной лесной тропинке.
«Скорее, Энджи, скорее…» – то и дело шепчет он, оборачиваясь. Им нужно торопиться, нужно перевалить через хребет еще до рассвета. Ханджары и усташи сидят высоко на горе, могут увидеть. Идти по склону нелегко; козья тропинка узка и неудобна. Немного пониже, вдоль реки, вьется по долине широкая ровная дорога, но туда нельзя, там засады и патрули, там смерть.
Ничего, можно и по тропинке, только бы Энджи справилась. Габо оглядывается на девушку: вроде бы все в порядке, поспешает, старается изо всех сил. Ему-то самому что – он-то эти склоны облазил вдоль и поперек с раннего детства. Вместе с братьями. Габо улыбается в темноте, вспомнив своих братьев – силача Баруха и красавчика Горана. Тут, на горе, в чудную пору начала лета они разжигали огромный костер в честь веселого праздника Лаг-ба-Омер. Разжигали на самой вершине – так, чтобы было видно аж до стен Иерусалима. Так говорил Барух, а Габо, пока был маленьким глупышом, принимал его слова всерьез и всю ночь упорно пялил глаза на юго-восток. Ведь если их костер виден со стен Святого Города, то наверняка и отсюда можно углядеть иерусалимские костры, разве не так? Вся округа пестрела огоньками – который из них иерусалимский? Не тот ли? Он хватал за руку Горана, отвлекая его от очередной подружки:
– Эй, Горан, глянь, вон он, костер Иерусалима!
– Где? – рассеянно вопрошал Горан. – Что ты чушь ты несешь, Габо? Это небось Себежи.
И снова отворачивался к податливым девичьим губам.
Эх, Горан, Горан… Габриэль вспоминает лицо брата перед расстрелом – кривое, с черным беззубым провалом рта, и ненависть закипает у него в сердце злыми слезами. Сволочи. Чтоб вы все передохли, гады! Так сказал Барух перед тем, как умереть. Это, а потом уже «Шма Исраэль». Он умер героем, Барух.
Габо всегда хотел походить на старшего брата. Он и тогда тоже хотел сказать что-то похожее, но просто не смог открыть рта – придавило. «Чтоб вы все передохли, гады!»
– Что, Габо? Что ты сказал? – это Энджи, сзади, беспокоится, что чего-то не расслышала. Оказывается, он уже давно бормочет себе под нос последние баруховы слова, барухово проклятие.
– Нет, Энджи, ничего. Вперед, девочка, не отставай…
Габриэль приостанавливается – осмотреться, прислушаться. Все тихо, только звенит внизу река особенным своим, прозрачным звуком. Сколько рыбы они переловили на ее каменистых отмелях, плавали наперегонки… Горан – быстрее всех. Он и с моста прыгал так красиво, как никто не мог. Вставал на перила, слегка приседал, наклонившись и вытянув назад напряженные руки, словно натягивал тетиву или заводил пружину, и вдруг выстреливал в воздух, неожиданно легкий и невесомый, как стриж, зависал над речкой, вглядываясь в нее, как будто выискивая там подходящую рыбину, и, повисев так несколько томительных мгновений, волшебным образом превращался в стремительный гарпун и почти неслышно, без брызг и без всплеска, вонзался в удивленную воду. Парни завистливо и восхищенно качали головами, а девушки вскрикивали и прижимали ладони к щекам, избегая смотреть на счастливицу, которая в тот момент носила ненадежный титул горановой подруги.
Габо улыбается и качает головой: сколько их было, этих подружек… Пока не пришла Мария и не взяла Горана в свои крепкие руки. И все, с тех пор как отрезало. Родился Михась… Тот самый, которого потом привязали к Горану спина к спине. Чтоб вы все передохли, гады! Рука его сжимает затвор карабина. Нет, Габо, сами не передохнут. Без тебя не передохнут. Будут жить и убивать и не передохнут, пока ты им не поможешь. Вот так-то, парень. Наверное, Барух это и имел в виду, произнося свои последние слова. Он ведь был деятельным человеком, Барух. Никогда не ждал, когда к нему что-то само приплывет. Хочешь, чтобы жизнь твоя стала лучше – исправь ее. Все просто.
Край неба впереди светлеет, как будто подтверждая этот важный вывод. Скоро рассветет. Не страшно – вот он уже, гребень, еще совсем немного – и можно будет отдохнуть. Габо останавливается, чтобы подбодрить Энджи. Она совсем устала, бедняжка. Держись, девочка, уже скоро. Она через силу улыбается и кивает – мол, ничего, все в порядке, за меня не волнуйся, я справлюсь… Лес здесь совсем редок, спрятаться негде. Габо берет Энджи за руку и прибавляет шагу. Спиною он чувствует сзади вершину горы, где засели ханджары – не дай бог, увидят… Скорее, Энджи, скорее! Задыхаясь в предрассветных сумерках, они бегут вперед, к кромке спасительного леса, два крохотных теплых комочка на голой горной проплешине, под серым равнодушным небом… Где теперь ваша сильная любовь? Не спасет, не укроет… Потому что смерть сильнее. Захочет – возьмет, вот прямо сейчас и возьмет, склюнет двумя точными выстрелами, бросит на землю умирать в хрипах и кровяном тумане. А не захочет – смежит веки сонному ханджарскому снайперу, замутит зевотой голову убийцы, отвлечет его в сторону за сигаретой, за водой, за малой нуждой… да мало ли за чем! Тогда еще поживете, побегаете…
Спотыкаясь, мучительно медленно, как во сне, они преодолевают опасную полосу. Деревья становятся все гуще, вот уже и лес… Все, Энджи, все, мой верный ангел, теперь можно отдохнуть, теперь мы в безопасности – надолго ли, не знаю, но на этот раз выжили, добежали…
– Габо, можно уже отдохнуть?
– Сейчас, девочка, сейчас, отойдем еще немного…
Теперь найти бы чащобу погуще, овраг потемнее, пещеру или просто укромную каменистую складку на теле горы – что угодно, лишь бы укрыться, лишь бы спрятаться… ведь люди делятся на тех, кто убивает, и тех, кто прячется. А ты из каких, Габо?.. – Потом, потом, не сейчас. Сейчас – вот он, мшистый овражек под старой разлапистой сосною… Как раз для нас, правда, Энджи?
– Правда, любимый…
– Посиди пока здесь, отдохни, а я приготовлю нам постель.
Габриэль нарезает мягких еловых веток – много, не скупясь, кладет их в несколько слоев на бархатный мох, расстилает кожух. Он еще пахнет ханджаром, но это не беда – все равно запах хвои сильнее. А поверх овражка – ветви покрупнее – будут и крышей, и одеялом.
– Забирайся туда, Энджи. Теперь у нас все наоборот: ночь – днем, а день – ночью. Но не все ли равно, правда?
– Правда, любимый…
Они ложатся в лесную постель, в еловый полумрак своей берлоги; они укрываются курткой Энджи, свитерами и объятием; они смешивают свое дыхание, щекоча губами губы, уткнувшись нос в нос, успокаиваясь и согреваясь своим общим теплом, своей общей жизнью. Серое осеннее небо нависает над ними, холодный ветер гуляет по горному склону, пригибая к земле голые кусты, раскачивая черный лес, грудью налетая на угрюмые пористые скалы. Вокруг ходит несытая всесильная смерть, собирая человеческие головы для своего ожерелья. Страшен мир и гадок – зачем он нам такой, правда, Габо? Они отняли у нас дом, загнали сюда, в этот крошечный овражек, но нам хватит и этого, правда? Лишь бы оставили нас в покое, забыли здесь… Ну кому она нужна кроме нас, эта ямка на склоне горы? Даже ветер, здешний хозяин, облетает ее стороной, не замечая; даже лисам и шакалам не сгодилась она для логова. Оставь ее нам, Боже… ну разве это так много?
– Что ты там бормочешь, ворчунья? – спрашивает Габриэль одним дыханием, но она слышит и понимает, что он улыбается.
– Я так люблю тебя, Габо, – говорит она и нежно проводит языком по его губам. – Так люблю. Мы ведь не умрем сегодня, правда? Не сегодня?
– Нет, не сегодня…
Люби меня, любовь моя, забери в горячий туман своих вздохов, в темное мерцание распухших от желания зрачков; обвей своими гибкими руками, источающими ласку, околдуй быстрыми и легкими касаниями языка, дрожью бедер, мороком живота. Прекрасна возлюбленная моя на хвойной постели, под кровом из еловых ветвей, с бликами дневного света на сумрачном от любви лице. Мед и молоко на устах твоих, невеста. Ладони твои, как быстрые лесные ласки, то замирающие, то мчащиеся по моей спине. Грудь твоя, как купола храма – осмелюсь ли коснуться святыни? Колени твои, как жемчужные раковины, белеющие на песчаном дне.
Люби меня, любовь моя, укрой надежным сводом своей широкой спины, сильными опорами локтей, шелковой гладью груди, качающейся надо мною в солнечных бликах утра. Прекрасен возлюбленный мой в моих объятиях, тяжел и сладок его язык у меня во рту. Руки его – головокружение, губы его – забытье. Из горной породы вырастают его колени, мощный пульс земли стучит в его бедрах, лава клокочет в твердом его животе, врываясь в меня горячим потоком, взрываясь во мне мукой, слаще которой нету…
Они засыпают в своем овражке, все так же нос к носу, губы к губам, смешав дыхание, сцепив руки, сплетясь ногами, чтобы не разлучаться даже во сне, чтобы не пришлось, проснувшись, чересчур долго искать друг друга. Они спят, просыпаются, любят и снова засыпают, счастливые этой замечательной последовательностью, несчастные оттого, что она невозможна навечно, да что там навечно – невозможна надолго, даже на день – несчастные оттого, что рано или поздно придется оторваться от губ, расцепить руки, расплести тугие лианы голеней и бедер. Прощайтесь, возлюбленные – война уже дышит за вашими плечами, чувствуете ее зловонное дыхание?.. уже сопит невдалеке и каплет ядовитой слюною голодная смерть… Прощайтесь навсегда, прячьте подальше в потаенный уголок сердца надежду на новую встречу, потому что каждая встреча – подарок, неимоверное сбывшееся счастье в почерневшем от страдания мире. Так что радуйтесь этому подарку, своему невероятному везению – ведь многим другим не досталось ничего, даже самых малых крошек от вашего роскошного пиршества.
– Куда мы идем, Габо? – спрашивает Энджи. Они сидят на краю своего овражка. Солнце уже давно клонится к закату. Вечер.
– Не знаю, – отвечает Габриэль. – Я еще не решил.
Это первые слова, которыми они обмениваются с тех пор, как заползли в свою берлогу, если, конечно, не считать любовного шепота, но его и не надо считать, потому что любовный шепот – это никакие не слова, это всего лишь продолжение ласки. А слова – это совсем другое, то, что относится к враждебному миру, тому, что выгнал их сначала из дому, а теперь из берлоги, из той чудесной страны на двоих, где прекрасно обходятся без всяких слов, где губы и язык имеют совсем иное, правильное назначение.
Но как ни крути, а прожить в этой чудесной стране безвылазно не удавалось еще никому. Сначала мир попробовал выкурить их из овражка голодом, а когда не получилось, подогнал небольшую, но назойливую дождевую тучку. Пришлось вылезать. Все так же молча Энджи достала еду, и они поели, не отрывая глаз друг от друга и играя в особую игру случайных касаний, знакомую всем истинно влюбленным. Молчание тоже было игрой, но не только – инстинктивно они старались оттянуть свое возвращение к отвратительной реальности, все настойчивее и настойчивее постукивающей их по плечу. Еще четверть часа… еще пять минуток… еще чуть-чуть. Энджи нарушила молчание первой. Не потому что не выдержала – ее бы воля, они так бы и немотствовали до конца дней – а потому, что так было легче для Габо. Мужчины не любят сдаваться.
– Да, ты права, надо об этом хорошенько подумать, – говорит Габриэль. – Мы не сможем жить в лесу. Если бы еще летом, а то ведь зима на подходе…
Энджи прижимается к его плечу. Вот и хорошо. Потому что она уже все обдумала.
– Знаешь, Габо, у меня есть родственники в Зенице. Родная тетка… – Энджи неожиданно фыркает. – Одно слово что тетка, а так мы с ней почти ровесницы – она всего-то на три года и старше. Считай, подружка. Они тоже белыми цыганами сказались. Там и спрятаться можно. Как ты думаешь?
– Ну что ж… – кивает Габо. – Это, пожалуй, подойдет. До Зеницы недалеко, за ночь доберемся.
Он берет карабин, кладет его на колени и начинает оглядывать и ощупывать, будто знакомясь: оттягивает затвор, передвигает рычажок предохранителя. Энджи усмехается про себя – пусть поиграет. Мужчины любят такие игрушки, на то они и мужчины.
– Из тебя получится отличный цыган, – говорит она, потягиваясь. – Мы с теткой научим тебя всему, не волнуйся. А пока не научишься, будем прятаться. Нам ведь не привыкать прятаться, правда, любимый?
Габриэль молчит, и есть в этом молчании что-то странное, что-то чужое и неприятное.
– Габо?.. – Энджи трогает его за плечо. – Ты меня слышишь, Габо?
– Слышу… – отвечает он, возясь со своим карабином. – Конечно, слышу. Только я больше не буду прятаться.
– Это как же? – растерянно спрашивает она.
– Да вот так. Отведу тебя в Зеницу… – Он замолкает, будто собираясь с духом, но она понимает все сразу, без слов.
– Нет, – говорит она дрожащим голосом. – Я с тобой. Я тебя не отпущу, слышишь? Ты мой, понял? Ты принадлежишь мне, понял? Это я тебя родила заново! Ты никуда не уйдешь, слышишь?








