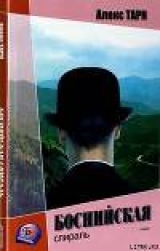
Текст книги "Боснийская спираль (Они всегда возвращаются)"
Автор книги: Алекс Тарн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
– Габо, щекотно, – смеется она.
– Щекотно?..
Нет, уже нет. Уже не щекотно – уже темнеют глаза от подступающей соленой волны, уже вытягиваются бедра вдоль трепещущих бедер, уже текут реки ладоней по напряженной спине, вливаясь в черный омут беспамятства… Сильна, как смерть, любовь.
– Габо, расскажи мне…
– Что тебе рассказать, любимая?
– Расскажи мне все. О себе. Я ведь должна знать. Ты мой муж.
Он вздыхает:
– Ах, Энджи, Энджи… зачем тебе это сейчас? Разве нам плохо с тобой вдвоем, только вдвоем, без прошлого и без будущего, только мы и больше ничего?
– Нет, – говорит она твердо. – Я должна. Иначе не получается.
Он снова вздыхает. Не получается, Габо. Любовь не умеет стоять на месте, ей всегда мало того, что есть, она должна непрерывно расширяться, захватывать все новые и новые территории, без конца, пока не подчинит себе весь мир. А что потом? А потом она умирает. – Умирает? – Ну да… Умирает от голода, потому что больше уже не осталось ничего для ее ненасытной силы. – Тогда зачем давать ей расти, если она все равно умрет? – Ну как же… если не давать ей расти, то она просто умрет маленькой, вот и все.
– Эй, Габо! Ну что ты там бормочешь себе под нос? – Энджи нетерпеливо дергает его за волосы. – Рассказывай!
– Ладно, слушай. Я Габриэль – Габриэль Каган. Каганы – большая семья. Была. Это место, Травник… Мы живем… мы жили здесь очень давно. Наш дом – через две улицы отсюда, пять минут, если бегом. Я тут родился, и два моих брата, Барух и Горан, и две сестренки: Ханна и Сара. А потом…
– Нет-нет! – поспешно перебивает она. – Тебе незачем так торопиться. Времени у нас много. Расскажи с самого начала – то, что тебе дома рассказывали. В каждой семье есть свои рассказы. Не может быть, чтобы у тебя их не было.
Габо покорно целует ее в висок, прижимает к себе.
– Слушаюсь и повинуюсь. Приходилось ли моей госпоже слышать о стране, называемой Испания, и о ее славном городе Толедо, столице кастильского королевства? Вот там-то и жили мои предки. Как они там оказались и когда – неизвестно… известно лишь, что один из них, по имени Шмуэль Каган, поставлял вино ко двору вестготского короля. И было это полторы тысячи лет тому назад, милая Энджи.
– Так давно? – недоверчиво спрашивает она. – Как это может быть?
– Не знаю, – разводит руками Габриэль. – Ты же хотела семейные рассказы. Вот и получай… Мы прожили в Испании тысячу лет. А потом переехали сюда, в Травник.
– Кончилось вино? – смеется Энджи.
– Ага. Кончилось. Вернее, превратилось в кровь. Католическая королева выгнала из Испании всех евреев до единого, кроме тех, что согласились креститься. И моя семья уехала вместе со всеми.
– Почему вы не крестились?
– А твоей семье помогло, что вы назвались «белыми цыганами»? Нет ведь, правда? Те, кто крестился, называли себя «анусим» – изнасилованные. Их все равно потом посжигали на кострах, почти всех.
– А в твоей семье не согласился никто? Ни один человек?
– Нет. На этот раз – нет. Потому что до этого у нас в семье была одна ужасная история, очень давняя, задолго до злобной королевы Изабеллы. Это произошло еще при вестготских королях. Видишь ли, вестготы были благородными рыцарями. Сначала они не настаивали, чтобы все в королевстве были одной веры. Но потом очередной король вдруг заделался ревностным католиком и принялся повсюду насаждать свое католичество. Настали трудные времена. И тогда один парень из нашей семьи решил, что намного выгоднее быть одной веры с королем.
– Как его звали?
– Не знаю. Есть имена, которые не следует помнить. Назовем его дон Хаман. Он сразу же начал доказывать королю свое рвение. Выстаивал на коленях самые длинные мессы, постился и был святее самого архиепископа. Но король все равно не верил ему до конца. Предавший единожды предаст и вторично. И тогда дон Хаман решил доказать свое рвение кровью. Не своею, конечно, – кто ценит кровь предателя? В соборе на темной южной стене висело распятие, одно из многих, ничем не примечательное. Его-то дон Хаман и выбрал для своего злодейского замысла. Незаметно снял он небольшую статуэтку и вынес ее под плащом. А на следующий день побежал к королю с доносом. Так, мол, и так, заснул он этой ночью в соборе, сомлев от непрерывных бдений во славу Христа. И, мол, проснувшись среди ночи от шума и выглянув украдкой из-под лавки, увидел он собственными глазами, как два человека в плащах кололи ножом святое распятие. И что, мол, узнал он в одном из них своего родного дядю Авишая Кагана. Ну тут все побежали к церкви и видят: распятия-то нет. А под тем местом, где оно висело – лужица крови. Ее наш хитрый родственничек тогда же ночью из пузырька и налил. Кровь-то была баранья, да кто ж различит? «Ага, – кричит. – Смотрите – вот она, кровь! А вот и следы – кровавые капли из тела Спасителя!» Пошли по этому кровавому следу – а он ведет не куда-нибудь, а прямо в наш дом, в дом Каганов, всем в городе известный и уважаемый. Вышибли дверь, ворвались… Дон Хаман проклятый – впереди всех. И сразу – на кухню, к мусорным мешкам, куда он сам, подлец, накануне статуэтку спрятал. «Ищите здесь! – кричит. – Здесь! Чует мое сердце христианское!» Разрезали мешок, а там – окровавленное распятие, с боком исцарапанным…
– Боже мой! – испуганно говорит Энджи. – Как же вы уцелели?
– А никто и не уцелел. Из тех, кто в доме на этот момент оказался. И в окрестных домах – тоже. Многих евреев Толедо поубивали в ту ночь. А где убийство, там и грабеж, и насилие, короче – погром. И подлый предатель дон Хаман – впереди всех. Несколько дней бушевал погром, а потом пошел на убыль. Король остановил, как всегда. Не захотел оставаться совсем без банкиров, врачей и звездочетов. Вообще-то, Энджи, подобные истории происходили с нами частенько – примерно раз в двадцать лет, не реже… Просто этот случай запомнился из-за дальнейшего.
– Дело в том, что дон Хаман не собирался на этом заканчивать. Он смазал ноги того же распятия сильнейшим ядом, одной капельки которого было достаточно, чтобы убить человека, и снова пошел к королю. Невозможно, говорит, ваше величество, это дело так просто замять. Надо, чтобы проклятые иудеи раскаялись в своем преступлении и поклялись не злоумышлять больше против честных христиан. Так что пускай уцелевшие еврейские старейшины запечатлеют эту клятву целованием ног оскверненного ими же распятия. А это, Энджи, была совсем уже дьявольская ловушка.
– Знал, подлец, что нам запрещено клясться, что не станут старейшины нарушать запрета. Ну и тогда, понятно, можно будет сказать, что не раскаялись иудеи в преступлении, что повторят его при первой же возможности, а значит, надо либо поубивать их всех без остатка, либо изгнать вовсе из королевства. А если все-таки кто-то, чтобы спастись, поцелует отравленную статуэтку, то тут же упадет в смертных корчах на глазах у всего города – и тогда всем станет ясно, что не простил Господь своих мучителей… – с тем же самым результатом, что и в первом случае.
– В общем, сам дьявол не мог бы придумать шутку подлее. Но король-то ничего не подозревал и согласился. Целование было назначено на площади перед собором. Собрался, конечно, весь город. Добрые христиане заранее запаслись палками и камнями на случай, если злоумышленные иудеи откажутся целовать или Господь подаст знак, что не прощает содеянного. Распятие было укреплено самим доном Хаманом на должной высоте – так, чтобы можно было дотянуться губами только до ног, чтобы не могли спастись старейшины, поцеловав распятие по нечаянности в колено или в живот.
И вот объявляет глашатай королевскую волю, хватают главного из старейшин и подталкивают к распятию. И вот стоит он и думает, как ему быть. Напротив губ его – ноги распятия, а на плечах – судьба тысяч людей, братьев по вере. И целовать нельзя, и отказываться смерти подобно. Качнулся старик вперед – даже не целовать, просто поближе… и вдруг…
Габриэль умолкает.
– Что? Что – вдруг? – нетерпеливо подгоняет его Энджи.
Габо зевает с самым невинным видом.
– А не пора ли нам перекусить, любимая? – говорит он, потягиваясь. – Что-то я изнемог от любви.
– Ах, так?! – кричит она, накидываясь на него в нешуточной ярости. – Вот так ты со мной, Габриэль Каган?! В самом интересном месте! Это ж кого я тут на груди пригрела?
Задыхаясь от смеха, он валится на спину, даже не пробуя защищаться:
– Сдаюсь!.. Сдаюсь!.. Все, Энджи, сдаюсь…
Энджи садится на него верхом, придавливает коленкой, угрожающе хватает за горло:
– Говори! Что – вдруг?
– Ноги… – выдавливает из себя Габо между приступами хохота. – Ноги…
– Я тебе покажу – ноги! Ноги ему мои не нравятся – видали такого?! Говори! Что было дальше?
– Да не твои… – обессиленно шепчет Габо, отсмеявшись. – Твои ноги в полном порядке. Ноги распятия…
– Ноги распятия?
– Ноги распятия… – произносит Габо свистящим шепотом. – Едва лишь старик качнулся вперед, как статуэтка поджала ноги! На глазах у всей площади! Представляешь?! Распятие просто наотрез отказывалось участвовать в спектакле, задуманном коварным доном Хаманом! Это чудо повторилось несколько раз подряд, и все жители Толедо видели его своими глазами!
– Как это понимать? – спросил озадаченный король. Но дон Хаман испуганно молчал. Каждый предатель обязательно предчувствует свой конец, кожей чует наступающую развязку. Тогда главный старейшина выступил вперед и, поклонившись королю, сказал, что поведение распятия является лучшим доказательством того, что толедским евреям не в чем каяться. Они невиновны, как были невиновны все злодейски убитые и изнасилованные за время последнего погрома. Последнего, и всех предыдущих, и, не дай Бог, последующих…
Но тут дон Хаман пришел в себя.
– Глупости! – завопил он. – Конечно же, вы виновны, исчадия ада, мучители Господа нашего…
– Погоди-ка, дон Хаман, – прервал его король. – Почему бы тебе самому не поцеловать святое распятие? Невинному нечего страшиться перед лицом Всевышнего. Целуй!
Весь дрожа, злодей приблизился к распятию. К его неописуемой радости, ноги статуэтки дрогнули в точности, как и до этого. Вот поползла вверх одна нога… он ждал, когда за ней последует и вторая… но нет – вторая оставалась на месте! «Целуй!» – закричал король грозно. Дон Хаман прикоснулся губами к отравленной ноге распятого и упал замертво.
– Здорово… – зачарованно шепчет Энджи. – Неужели это все правда?
– Конечно, любимая. Чистая правда. Кстати, распятие так с того времени и осталось с одной поджатой ногой. Посмотреть на это чудо стекались люди со всей Испании.
– Габо, а как же… ты сказал, что во время погрома поубивали всех, кто был в доме Каганов. Как же твой род продолжился?
– Чудом, Энджи… Один из сыновей Авишая как раз уехал в Андалусию за вином. Он вернулся в Толедо, когда все уже кончилось. Он остался один из всей семьи.
– Как и ты, Габо…
– Как и я, Энджи…
– Я рожу тебе много детей, много-много… я сделаю все, как надо… твой род продолжится, Габо.
– Конечно, Энджи…
– Иди ко мне, поцелуй меня… прижми… вот так… вот так…
* * *
Это было как большой прыжок. Берл оттолкнулся посильнее и, перебирая ногами, полетел над землей – не очень высоко, может быть, в метре, не выше. Полет был плавный, как при замедленной съемке. Поэтому, добравшись таким образом до густой, аккуратно подстриженной живой изгороди, Берл не врезался в нее, как следовало бы ожидать, но повис все в том же метре над землей, крепко ухватившись за тонкие веточки.
– Ну?.. Что ты висишь? – сказал снизу Яшка. – Давай, лети дальше.
Берл оттолкнулся обеими руками и полетел дальше. Он уже понимал, что это не просто длинный прыжок, а полет. Он также знал, что спит. До этого Берл никогда не летал во сне – никогда в жизни! – и теперь его переполняли новые необычайные ощущения. Сначала он двигался на очень небольшой высоте, перелетая от куста к кусту, от стенки к дереву… Это было так необычно, что он просто не знал, что обо всем этом думать.
Прежде всего, никогда уже больше он не будет чувствовать себя неполноценным идиотом, недоуменно пожимая плечами в ответ на вопрос: «Неужели ты никогда не летал во сне?» Теперь он с полным на то основанием может говорить: «Конечно, летал, естественно – как и все.» Но с другой стороны, неожиданный подарок слегка разочаровывал. Все-таки больно уж это напоминало обычные прыжки в длину, а не настоящий полет. Он-то представлял себе нечто орлиное, а тут – какие-то убогие перескоки с ветки на ветку, как птенец, – ей-богу… несолидно.
– Так ты ведь и есть пока что птенец, дурик, – рассмеялся Яшка. – Работай, работай, не ленись!
И в самом деле, с каждым разом прыжки получались все длиннее, все выше… длиннее и выше… и вот он уже летит по-настоящему, не так, как раньше – будто стоя и нелепо перебирая бесполезными ногами, а красиво, уверенно, на манер небесного ныряльщика, грудью ложась на упругую подушку ветра и меняя направление легкими движениями рук. Он вдруг ощутил счастье и одновременно острую тоску, оттого что это чудо скоро закончится и неизвестно, когда вернется и даже – вернется ли вообще? Эта тоска была настолько сильной, что Берл заплакал и открыл глаза. Сон кончился, оставив после себя необыкновенную легкость и мокрое от слез лицо.
Берл еще полежал какое-то время, баюкая в себе остатки необыкновенного сна и по возможности грубо отпихивая явь, чтобы отстала ко всем чертям. Но явь настойчиво требовала внимания, перла в глаза отдаленно знакомым потолком из беленой вагонки, насвистывала сквозняком по мокрой щеке, ныла в раненой ноге, лезла в нос дразнящим запахом чего-то жареного, съедобного. Последнее особенно раздражало. Он вдруг ощутил страшный голод. Такой голод обычно именуют «зверским» или «нечеловеческим», потому что предполагается, будто с человеком подобного происходить просто не может, не должно. Что, конечно же, совершенно неправильно.
Он приподнялся на локте, чтобы осмотреться, уткнулся глазами в ее черные зрачки с тонким зеленым ободком и тут же все вспомнил. Вспомнил свой безнадежный побег, погоню по шоссе, вспомнил гибель гольфа и полубессознательные скитания по дворам и огородам чужого, враждебного городка. Вспомнил ржавый магнум в руке, и черные зрачки напротив, и пощечины, которыми она пыталась привести его в чувство там, в саду. Вспомнил, как, собрав совсем уже последние силы, он помогал ей втащить свое собственное неподъемное тело на высокое крыльцо, как упал здесь, в горнице, потому что больше уже точно не мог, как ухитрился, несмотря на это, подняться еще один раз – и тогда уже упал снова, окончательно и бесповоротно. Или все-таки поворотно?.. Лежал он, вроде бы именно там, где свалился, на полу, но судя по тому, что внизу была подстелена теплая перина, хозяйке пришлось-таки его поворочать.
И вот теперь она сидела у стола и молча смотрела на него, уперев подбородок в сплетенные кисти рук.
– Добрый день, – сказал Берл, чтобы что-то сказать. Женщина молчала. С чего это он давеча решил, что она старуха? Наверное, из-за того бесформенного лыжного костюма и глухо замотанного платка… Да и темно было тогда. А сейчас сквозь раскрытые ставни в горницу лился яркий полуденный свет. Берл посмотрел на стенные часы. Одиннадцать с небольшим. Она подобрала его на рассвете.
– Неужели я проспал шесть с лишним часов?
Женщина усмехнулась:
– Тридцать с лишним. Вы были без сознания более суток.
Берл рывком сел на своей постели. Только сейчас он обратил внимание на то, что плечо у него было аккуратно забинтовано. Для этого ей пришлось отрезать рукав абу-ахмадовой гимнастерки. Подожди, подожди… а как же рана на бедре? Он сунул руку под одеяло и тут же нащупал повязку. Штанов на нем не было. Вот тебе на…
– Штаны я вам дам другие, – сказала она, не меняя позы. – Те были все в крови. Я их сожгла. И вообще пора вставать. Могут прийти.
– Кто? – Берл оглянулся, думая, где же может быть пистолет? Последний раз он помнил его у себя за поясом. Но теперь не было ни пояса, ни штанов.
– Под подушкой ваш пистолет, – сказала хозяйка, вставая из-за стола и подходя к нему. – Я подумала, что так вам будет уютнее. Шпионы в кино всегда кладут пистолет под подушку.
Она присела рядом и взялась за край одеяла:
– Давайте я посмотрю ваши царапины.
– Не надо, спасибо, – неловко отказался Берл. – Уже не болит…
– Прекратите блажить! – сердито прикрикнула женщина, сдергивая одеяло. – Я, к вашему сведению, дипломированная медсестра…
Она размотала бинт и обработала рану – ловко и точно, как будто занималась этим ежедневно.
Берл смотрел на нее со все возрастающим удивлением. Удивлялся он прежде всего своей вчерашней… нет, позавчерашней… или когда это было?.. ну в общем, неважно… – своей прошлой ошибке: как можно было настолько промахнуться в оценке ее возраста? Сейчас на вид ей казалось лет двадцать пять – двадцать семь, не больше. Неужели только из-за одежды? Она действительно переоделась: ничего особенного, никаких вечерних платьев с глубокими декольте и бриллиантовых колье… но и обычной длинной клетчатой юбки, безрукавки в тон и белой вышитой блузы вполне хватило для того, чтобы изменить ее облик почти до неузнаваемости. Хотя, конечно, нет, дело не только в одежде: длинные черные пряди волос, прежде скрытые наглухо повязанным платком, теперь свободно лежали на плечах и на спине.
– Ну что вы так на меня уставились? – проговорила она, закончив с бедром и переходя к раненому плечу. – Вспоминаете тот мой затрапезный вид?.. Не удивляйтесь: я сижу здесь одна, безвылазно, вот уже несколько месяцев. Странно, что я вообще вспомнила, как все это надевают – женщина провела ладонью по клетчатой ткани. Теперь она и впрямь выглядела слегка удивленной собственным превращением. – Как вас зовут?
– Майкл Кейни. Майк.
Она фыркнула.
– Что ж, пусть будет Майк. Наверняка врете, да мне-то какое дело… Все, медицинские процедуры закончены. Вставайте.
Берл неловко заерзал, натягивая на себя одеяло.
– Что такое? – изумилась она. – Вы собираетесь продолжать истязать меня своим храпом?
– Ээ-э… – робко проблеял Берл. – Вы обещали достать какую-нибудь одежду…
– Ах да! Штаны! – Женщина закусила губу, как будто удерживая внутри что-то, рвущееся наружу, но безуспешно – «что-то» все равно вырвалось и оказалось на поверку неожиданно веселым смехом.
– Извините, не обращайте внимания, – сказала она, утирая рукою слезы и направляясь к комоду. – Это нервное.
– Никакое не нервное, – обижено отвечал Берл. – Вы надо мной смеетесь, я знаю.
Это его замечание вызвало новый взрыв хохота.
– Ох… – вымолвила она наконец. – Давно я так не смеялась. Вы должны извинить меня, Майк. В жизни не видела такого нелепого шпиона.
– А вы видели в своей жизни много шпионов? – ядовито парировал Берл. – Я уже начинаю думать, что вы работаете в контрразведке.
– Энджи, – сообщила она из глубины комода.
– Что?
– Зовите меня Энджи. Это, кстати, настоящее имя, в отличие от вашего, мистер Бонд. Джеймс Бонд… – она снова засмеялась. – А шпионов я видела тысячи… ну ладно, сотни. В кино. И среди них, дорогой Майк, не было ни одного, кто был бы так смешон, как вы. Ну разве что мистер Бин… Но и он при этом ни разу не терял штаны…
– Должен заметить, уважаемая Энджи, – сказал Берл, стараясь говорить с достоинством, но при этом чувствуя себя полным идиотом. – Должен заметить, что я понял бы ваше воодушевление, если я бы и в самом деле прибежал сюда без штанов. Но это не так. Я прибыл в этот дом в полном комплекте. Штаны с меня вы сняли собственноручно.
Энджи молчала, внимательно рассматривая вытащенную из комода вещь, и при этом, казалось, одновременно взвешивала варианты ответа. Берл, прижав уши, ждал нового укола. Но настроение безжалостной насмешницы неожиданно снова изменилось на девяносто градусов. Она вздохнула, расправила необъятные деревенские шаровары и тряхнула ими, распространив по горнице легкое облачко нафталина.
– Ладно. Черт с вами, Джеймс. Вот вам отцовские домашние штаны. Других, извините, нету. Мужчины, знаете ли, в этом доме долго не задерживались. Хотя шпионов среди них не наблюдалось. – Она бросила Берлу шаровары. – Берите. Это вернет вам уверенность в себе.
– Майк, с вашего разрешения, – напомнил Берл, влезая в штаны и в самом деле обретая некоторое равновесие духа. – Не Джеймс – Майк… Вы что-то говорили о том, что кто-то может прийти. Кто?
– А вы как думаете – кто? – Она подошла к столу, закурила, оценивающе посмотрела на него, качая головой, и улыбнулась.
– Что? – в панике спросил Берл, оглядывая себя. – Опять что-нибудь не так?.. Вы меня совсем затуркали, госпожа. Уж лучше пристрелите. Я вам пистолет одолжу.
– Я взвешу ваше предложение, – хозяйка повернулась к плите. – В будущем. А пока поешьте. У вас в животе урчит. Какой же вы шпион после этого?
Она поставила на стол сковородку с жареной картошкой и хлеб. Берл забыл обо всем на свете. Никогда еще ему не приходилось есть что-либо вкуснее. Пока он ел, женщина убрала с пола постель; использованные бинты полетели в печку.
– Вы, видимо, важная птица. – Она подошла к окну. – Думаю, такой облавы Травник не видывал даже во время Второй мировой. Вчера они запретили людям выходить из домов и прочесывали все дворы, сады и сараи, особенно в районе складов, за рынком. На это ушел целый день. А сегодня уже ходят по домам, с самого утра.
Берл проглотил последний кусок и откинулся на спинку стула. Теперь пусть убивают – того, что съел – не отнимут.
– Понимаю… – расслабленно сказал он. – Я уйду немедленно, не волнуйтесь. Я вам ужасно благодарен, Энджи. Вы спасли мне жизнь… Спрятали той ночью, перевязали, накормили… Было бы свинством с моей стороны и дальше подвергать вас опасности.
– Ничего вы не понимаете. Вас поймают, как только вы окажетесь на улице. По всему городу патрули, посты на каждом углу. Наверняка есть и наблюдатели на минаретах.
– Почему же вы тогда держите ставни открытыми настежь?
Энджи усмехнулась:
– Потому и держу. Окна у меня высокие, с улицы не заглянешь. Минареты тоже, на наше счастье, в стороне. Так что на самом деле ничего не увидишь, если вы, конечно, не станете в окно по пояс высовываться. Но вы ведь не станете, правда, Джеймс? И вообще – если ставни распахнуты, значит и скрывать в доме нечего.
– Майк.
– Что?
– Не Джеймс – Майк.
– Бросьте… – отмахнулась она. – Какая разница?
«А и в самом деле – какая разница? – подумал Берл. – Пускай будет Джеймс, тебе-то что? Хоть Бондом назови, только в печку не суй… или куда там его совали?»
Энджи вдруг открыла окно, высунулась в прохладный осенний воздух и помахала кому-то рукой. С улицы, видимо, ответили, потому что она улыбнулась и что-то звонко крикнула на боснийском.
– Что такое? – спросил Берл от стола.
– Ханджары, – ответила она, закрывая раму. – Я спросила, поймали ли тебя. Как ты думаешь, что они ответили?
– Пока нет, но обязательно поймают.
– Точно. А ты молодец, Джеймс, проницательный… понимаешь ханджарскую душу. Ладно. Пора прятаться. Сейчас они закончат в соседнем доме и придут сюда.
Она подошла к внушительному старинному буфету, высившемуся у дальней стены и, открыв нижнюю дверцу, запустила руку глубоко внутрь. Берл услышал щелчок, и боковая доска выскочила вперед дюйма на два. Женщина взялась за правый край буфета и обернулась к Берлу:
– Ну что вы там стоите, как памятник Джеймсу Бонду? Помогайте…
Скрипнули мощные петли, и огромное сооружение темного дерева повернулось, открывая большой проем. Вход в тайник.
– Вот… – сказала она. – Полезайте. Да, на всякий случай – там внутри есть рычажок, слева на стене. Если что, сможете выйти самостоятельно. Ну, вперед, мистер Бонд! Новые подвиги и приключения ждут вас в этом темном чулане! Только не шебуршитесь, сидите тихо.
– Погодите… – остановил ее Берл. – Что значит «на всякий случай»? Почему мне может понадобиться выходить отсюда самостоятельно?
Энджи насмешливо развела руками, но глаза ее были серьезны.
– Балканская жизнь полна неожиданностей, милый Джеймс. А ну как мы с вами что-то забыли там, снаружи? Пуговицу… обрывок бинта… след на полу… Кстати, надо успеть протереть пол, так что не задерживайте меня, пожалуйста.
– Послушайте, Энджи, если это действительно произойдет, признавайтесь сразу, ладно? Дайте мне слово, иначе я не пойду ни в какой тайник. Ну?
– Ладно, ладно… – нетерпеливо закивала она, заталкивая его внутрь. – Конечно… еще терпеть из-за вас пытки… этого мне только не хватало!
Буфет встал на место с тем же щелчком. Берл очутился в кромешной темноте. Слепо вытягивая руки, он попытался определить границы тайника. В ширину – полметра; в длину… он сделал шаг, уткнулся во что-то мягкое… мешок?.. вроде да, похоже на муку или крупу… Над мешками размещалось что-то твердое… ящики? Наверное, консервы. Видимо, семья хранила здесь еду – на черные дни, недостатка которым не было в местном календаре. Берл попробовал крышку верхнего ящика. Она поддалась, высвобождая запах машинного масла. Точно, консервы. Сам не зная зачем, Берл сунул руку в ящик и замер от неожиданности. Внутри находились предметы, которые он мог узнать при любых обстоятельствах, даже наощупь, даже с завязанными глазами. И это были не банки с тушенкой. В ящике, надежно законсервированные и покрытые густым слоем масла, лежали укороченные штурмовые винтовки М-16 в количестве четырех штук.
* * *
Откуда этот грохот? Что такое? Это стучат в дверь, Энджи, стучат в дверь… Господи, да что же это?!. Да как же… Габо, Габо, быстрее, вниз! Тебе надо прятаться, Габо!
Они второпях хватают одежду, скатываются по лестнице. Бум! Бум! Дверь дрожит под ударами сапог и прикладов.
– Открывай, цыганка! – грубый бас и пьяный хохот. – Открывай, шлюха!
Быстро, Габо, скорее в тайник! Ну что ты встал, скорее, они же сейчас выломают дверь! Лихорадочно натягивая на себя юбку и кофту, она подбегает к окошку, кричит в него:
– Сейчас, господин, сейчас, я уже открываю, подождите минутку, господин!
– То-то же! Отпирай, шлюха!
– Нет, Энджи, я не могу тебя так оставить, не могу.
– Ты что, с ума сошел? Мы погибнем оба! Они всего лишь хотят ракии – они знают, что у цыган бывает ракия, и у меня есть бутылка, там, в буфете. Я им дам ракию, и они уйдут… Быстрее, Габо!
Они поворачивают буфет. Сапоги снова бьют в дрожащую дверь.
– Открывай, сука!
Энджи заматывает голову платком, второпях мажет лицо сажей из печки, достает бутылку, бежит к двери.
«Главное, не бойся, – говорит она сама себе. – Они возьмут бутылку и уйдут. Им больше ничего не надо. А Габо им в жизни не найти, не найти…»
Она чувствует себя уткой, уводящей охотников от гнезда. Так ей почему-то менее страшно. Да они и искать его не будут, возьмут бутылку и уйдут… Господи! Сделай так, чтобы они ушли! Сотвори чудо, как тогда, в Толедо! Ну что тебе стоит?!
– Сейчас, господин! – кричит она в стонущую дверь. – Подождите стучать! Я уже открываю! У меня есть то, что вам надо!
Дрожащими руками она хватается за засов… Никак – да что же это?
– Не стучите же так! – кричит она в панике. – Мне не открыть! Не стучите! Ну пожалуйста!
Снаружи – хохот и ругань, грязная, гадкая… Боже, как же так, Боже? Ведь все было так хорошо еще три минуты тому назад… Почему, Боже?.. Засов наконец поддается ее дрожащим рукам. Она отскакивает от двери и стоит, прижав к груди бутылку с ракией – как спасательный круг, как пропуск на выход из ада… Ей так страшно, что хочется зажмурить глаза, но она боится, что с зажмуренными глазами будет еще страшнее. Господи, сделай… Бам! Дверь распахивается настежь, сбивая с ног оторопевшую табуретку, и жестяной тазик, слетев с нее, ударяется об пол и звенит длинным затухающим звоном.
Они вваливаются в горницу, огромные, косматые в своих барашковых шапках и с бородами в неряшливых колтунах. Они покрыты шерстью, как волки, от них разит, как от козлов, они заполняют всю горницу разом, как грязевой оползень. Их двое, всего двое, но как ужасно полинял и скорчился мир от их гадостного нахрапа.
– Ха! – удовлетворенно крякает один и указывает пальцем на Энджи. – Смотри-ка, Халед, и впрямь свежее мясо. Что я тебе говорил? У меня на это нюх, как у пса на текущую сучку.
– А откуда ты знаешь, что у нее течка?
– Подо мной потечет… – говорит первый и обходит вокруг Энджи, рассупонивая опоясывающую его кожаную сбрую. – Правда ведь потечешь, шлюшка? Попробовала бы ты только не потечь… Про газовую камеру слыхала?
Он напрягается, выпучивает глаза и с треском пускает газы. Энджи в ужасе вскрикивает. Ханджары хохочут, хлопая себя по ляжкам, довольные произведенным эффектом. Комната наполняется острой вонью.
– Эй, Фарук, – смеется второй, зажимая нос. – Так ты когда-нибудь ненароком меня отравишь.
– Не, не боись… этот газ только на цыган и евреев…
Он сбрасывает на пол портупею и начинает, не торопясь, расстегивать замусоленный кожух.
– Вот… – еле слышно говорит Энджи, протягивая бутылку. – Ракия для господ…
– Ракия, говоришь? – удивленно спрашивает Фарук, забирая у нее бутылку и передавая напарнику. – А ну-ка, Халед, проверь, что там у нас?
– Точно, ракия… Не врет сучка.
– Ах, не врет… – Фарук неожиданно сильно бьет девушку по щеке. Энджи падает, отлетая к стене. Ханджар подходит, придавливает ее грязным сапожищем.
– Ты что же, падла, честных мусульман спаивать? Да за это тебе знаешь что будет? Знаешь?
– Вот же гады цыганские! – говорит Халед и, глотнув из горлышка, передает водку Фаруку. – Ты только попробуй эту сивуху!
«Вот и все… – думает Энджи, пока ханджары по очереди прикладываются к бутылке. – Вот и все… Зилка и Хеленка, сестренки мои милые, вот и до меня дошло… моя очередь… Теперь главное – не думать… Вот только бы Габо не услышал, только бы не выскочил, а то ведь убьют обоих… Только бы не выскочил. А он и не выскочит; там стенки толстые, в полбревна, ничего не слышно. Я кричать не буду, ни за что не буду, не буду, не буду…»
– Что ты там бормочешь, сука? – наклоняется к ней Фарук. – А ну встань! Намазала рыло сажей… думаешь, побрезгую? А вот и нет, дура! И Халед не побрезгует… А ну!
Он рывком поднимает девушку с пола, швыряет на стол, раздвигает ей ноги, наклоняется, по-собачьи обнюхивая ее, выпрямляется, причмокивая толстыми губами.
– Мм-м-м… Хорошо мясцо – чистое…
– Ну так чего ты тянешь? – Халед обходит горницу, заглядывая во все углы. – Давай, заводи по-первому. Мне небось тоже хочется…
Энджи лежит, обмякнув на обеденном столе. Главное – не кричать, как бы больно не было… не кричать… Она для верности сует в рот кулак.
– Что такое? – удивляется ханджар. – Это еще зачем? Эй, Халед, смотри – ей рот занять нечем…
– Сейчас поможем! – ржет напарник. – Ты пока заводи, а я наверху проверю, чтоб без сюрпризов.
Он поднимается по лестнице. Энджи, запрокинув голову, смотрит на подошвы его сапог, топочуших по ступенькам. Господи, если уж ты позволил этому произойти, сделай так, чтобы оно скорее кончилось… чтоб убили, не мучая, не как Зилку и Хеленку, Господи… Зачем ты пустил чудовищ к людям, зачем? Грубые руки задирают юбку, царапая живот и бедра. Гадкая сальная борода нависает прямо над ее лицом, лезет в глаза. Главное – не закричать, помнишь – ни за что! Как бы больно не было, помнишь?.. Ханджар сопит, копаясь в собственных штанах, слюна течет по подбородку, налитые кровью глаза смотрят на нее… Не закричать!.. Но она все-таки кричит, не удержавшись, когда мерзкая туша бухается на нее всей своей тяжестью и лежит так, не шевелясь.








