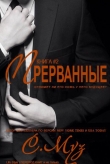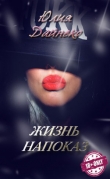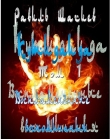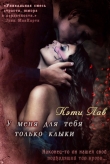Текст книги "Новые записки о галлах"
Автор книги: Адсон Монтьер-Ан-Дер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Вергилий оказался щупленьким, очень худосочным монахом, сильно близорукие глаза которого вечно щурились и напрягались, чтобы разглядеть что-либо, особенно если речь шла о тексте в книгах. Я удивился, насколько худым было его зрение: Вергилий буквально соприкасался лицом с рукописью, когда он хотел прочитать её. Странно, до какой степени он не берег себя. Зная, что его глаза больны, он совсем не заботился о них, отчего они у него все время были покрасневшими с розовыми кругами в глазницах. По-началу мне показалось удивительным, как Одо вообще допускал Вергилия до работы с книгами, ведь тот запросто мог ослепнуть, а так как возраст его был невелик, большой остаток жизни он должен был провести потом беспомощным калекой. Кстати, уже через много лет я узнал, что в Люксейль коротает свои дни один слепец. Тогда я попытался узнать его имя, и к чрезвычайному своему горю услышал, что это тот самый Вергилий, проводивший для меня экскурсию по своим достопримечательным владениям, ознакомление с которыми принесло мне столько много глубоких впечатлений. С другой стороны – он сам весьма беспощадно эксплуатировал свое затухающее зрение, и это его отношение к собственному здоровью вряд ли стало бы более щадящим, огради его аббат от обременительных хлопот, связанных с его должностью. Этот человек самоубийственно стремился к чтению, как тот тяжелобольной, который растравливает свои зудящие раны, или потребляет воду, когда лекарь напрочь запретил ему смачивать горло. Когда глаза Вергилия болели, слезились от чрезмерного сосредоточения, он ругал их и тер, словно они от этого станут зорче видеть, закапывал в них какую-то гадость, которая только ускоряла приближение его слепоты. В общем, не будь он библиотекарем, а по совместительству и директором скриптория, это бы нисколько не помогло сберечь его зрение – Вергилий слишком себя для этого не ценил. Зато никто в монастыре так не любил книги, даже Отрик, никто так не знал их, никто – разве что единственный Вирдо – не обладал столь всесторонними представлениями о мире. Вергилий принял меня с любезностю, охотно вызываясь проводить меня по скрипторию и библиотеке. Из его рассказов, которые я привожу ниже в безличной форме, я узнал много занимательного об их истории, устройстве, порядке работы в них. Известно, что ранее библиотека и скрипторий были расположены в разных зданиях, но после того, как большая часть монастыря выгорела от пожаров, учиненных венграми, всем членам обители пришлось потесниться, и в результате проведенного уплотнения и скрипторий и библиотека объединились, заняв соответственно первый и второй этажи старой резиденции аббата. Конечно, в скриптории уже не было такого количества рабочих мест , как ранее, но зато в своем устройстве он сохранил множество традиций, в разное время определявших стиль работы переписчиков. Так, здесь был специальный стол для работы с папирусами. Как известно, работа с папирусами затруднена не только потому, что невозможно делать сверки, но даже выписки из них древние ученые делали лишь по памяти, что было причиной многих погрешностей : стоит отпустить правую руку, как свиток предательски сворачивался, скрывая от глаз свое содержание. Наш же столик представлял собой специально оборудованный станок, где при помощи двух рычажков можно было закрепить часть папируса объемом до шестидесяти унциальных строк, и после этого спокойно работать с материалом. Впрочем, подобных свитков в библиотеке было немного – в основном это были картулярии меровингских времен – и я редко видел, чтобы за этим столиком кто-нибудь сидел. Еще восемь мест в скриптории предназначались для работы с кодексами и один – для ведения нотариальных работ. В свою очередь первые восемь делились поровну, исходя из удобства труда переписчиков : часть монахов, привыкшая к классической традиции, писала на коленях, другие же воскладывали свой пергамент на стол. Для первых предусмотрены были одиночные скамеечки, на которые по желанию монах мог подложить квадратные подушки, выдаваемые Вергилием. Далее скриптор выбирал себе табурет, который он ставил себе под ноги. В углу помещения находился громоздкий шкаф, в отличие от всех остальных, никогда не запиравшийся. Он был всегда легко доступен потому, что в нем хранились не работы монахов, не чистые листы пергамента, а небольшой арсенал вещей, необходимых для удобства труда, в том числе и табуреты, из которых, как я сказал, в начале дня монах выбирал наиболее подходящий ему по высоте. Восседая на скамье, уперев ноги в такую вот подставку, переписчик, приверженный прежним традициям, писал у себя на коленях, сжимая левой рукой уже исписанные страницы. Перед его глазами на пюпитре возложена была книга, которую он тщался скопировать. Пюпитр при этом тоже был сделан не без удобства. С одной стороны это был обыкновенный треножник, но с другой – угол наклона дощечки, поддерживающей книгу, можно было легко регулировать скрывавшимся под нею винтом. Если монах не хотел писать на коленях – это было подавляющее большинство тех, кто приходил сюда трудиться из других монастырей – то он просто выбирал себе другой стол. Как правило, за ним уже стояла не скамейка с табуретом, а стул или же кресло с закругленной спинкой. Переписчик усаживался за стол, открывал простой замочек, ключ от которого всегда висел рядом и – такого я больше нигде не видел упрятанная под верхней дощечкой, выкатывалась другая, заключавшая в себе принадлежности для письма. Здесь был пенал, в котором монах мог взять на выбор либо перо, либо калам, который некоторые называли также "arundo". В пенале находились ещё ножик для заточки орудий письма и баночка с красными чернилами, к которым приходилось прибегать по крайней мере не реже, чем начинать новый абзац. Но в пенале не было предметов, при помощи которых можно было бы внести исправления в рукопись, если ошибка все же была обнаружена. Кисти, губки, которыми смывался текст, или же скребок с пемзой, которыми он соскабливался все эти вещи находились у Вергилия под строгим контролем. Ведь что если монах, вооружать самомнением, узрит ложную ошибку в оригинале и, не испытав свою мысль советом, использует пемзу для правки померещившейся ошибки, часто внося в переписываемую книгу хаос собственного ума, а не безупречность познаний, которые должны быть особенно безукоризненны там, где речь идет о текстах, составленных на благо души? Поэтому все принадлежности для исправления книг Вергилий хранил в ларце, ключ от которого всегда позвякивал у него в кармане. Если случалось, что монах досадливо обнаруживал собственный ляпсус, Вергилий приносил ему пемзу, либо что-нибудь иное, и горе-мастер в его присутствии искоренял и буквально "сводил на нет" промах, впоследствии могший отозваться в том, что читатель, идя на поводу у непреднамеренного упущения, вместо того, чтобы приблизиться к знанию, мог навредить уму, засадив цветник разума сорняками заблуждений. Кстати, если возникало подозрение, что испорчен оригинал, то дело уже не ограничивалось скороспешным исправлением. Вергилий был ответственен за каждую букву в каждой книге ; по его глубокому убеждению даже единая из них, по злоумышлению ли угнездившаяся в тексте, либо по недобросовестности, могла содействовать тому, что мрак неведения обуяет душу; и, как у некоего переписчика на посмертном его суде тяжесть совершенных грехов едва уравновешивалась томами переписанных им книг, и только одна лишь буква соделала все же, что книги перевесили чашу проступков, так и здесь одна единственная литера легко могла пересилить все накопленное рассудком на долгих путях его умудрения, на этот раз приведя уже не к спасению, а к погибели души. Поэтому когда сверщик или переписчик давал волю своим сомнениям, Вергилий обычно помечал подозрительную строчку знаком "r" на полях, что означало "require", "искать". Так же он вкладывал в рукопись закладку и сам впоследствии занимался поиском другого экземпляра этой же книги (иногда на это могли уходить месяца и годы), пока рукопись с аналогичным сочинением не снимала все опасения или не подтверждала их. И вот тут только в ход шла пемза; либо же, если место было несоразмерно, Вергилий отчеркивал ложные строки ( часто изобилующие не столько описками, сколько лакунами) и наводнял поле выписками, которые теперь без искажений могли донести читателю авторскую мысль. Кстати, подобные выдержки он делал часто в тиронских знаках, систему которых он знал назубок подобно лучшему секретарю достойнейшей из канцелярий. Но я остановился на описании стола, конструкция которого предусматривала наибольшую полезность для эффективного, максимально производительного труда: копируемый кодекс лежал на верхней дощечке, придерживаемый левой рукой, дабы избежать случайного перелистывания страниц и для отслеживания указательным пальцем текущего переносимого в тетрадь места; последняя в свою очередь лежала на нижней дощечке, так плавно выскальзывающей из под верхней. Что касается чернил, то они заполняли обычные, всем известные рожки, укрепленные на углах стола, либо же не пюпитре. Стоит лишь добавить, что одна из таких чернильниц была заменена теперь на огромный рог Гилдуина, выданный Кизой за коготь громадной птицы. Этот рог, до краев заполненный чернилами, был установлен на столе у Рагинарда – известного, досточтимого всеми мастера-переписчика, которому сейчас было уже около восьмидесяти лет, но который, казалось, никогда не покидал своего кресла, склонившись над рукописью. Светило ли летнее солнце, падал ли снег, стучал ли в окно осенний дождь, Рагинард неизменно пребывал в своем усердии, ибо перестать выводить бесконечную вереницу букв для него было равносильно тому, как если б он перестал дышать. Казалось, если он уберет в пенал все писчие принадлежности и задвинет обратно нижнюю дощечку, то он сразу умрет. Что в конце концов и произошло : он подписал рукопись собственным именем, щелкнул замочком, запирающим стол, положил голову на книгу, которую он только что закончил, и умер. Но это произошло через несколько лет, а пока что он беспрерывно трудился, стремясь осуществить ту цель, которую он поставил перед собой, будучи ещё отроком, в первый раз увидевшим монастырский скрипторий и людей, ссутулившихся над рукописями в полнейшей тишине, в которой слышен был только скрип перьев, неспешно свершавших свою длительную работу. Он замыслил тогда двадцать раз переписать Библию и не знать ничего, кроме этого дела, оградив себя от всего остального. Тогда он в первый раз взялся за перо и принялся за свой удивительный труд. Вот ему двадцать лет. Он красив и румян, вдохновлен поставленной перед собой грандиозной задачей. Он постоянно скользит глазами от Библии, подаренной ему отцом, к своему пергаменту. А вот ему восемьдесят, немощному старцу, согбенному от однообразной работы. Теперь ему даже не приходится читать текст, чтобы переписать его. Он помнить все наизусть и только водит пером, но левой рукой все равно для чего-то переворачивает страницы той же самой отцовской Библии. Ему и поставили этот "коготь птицы", рог Гилдуина, да лучше и быть не могло, чтобы предмет, настолько окутанный суеверием, а, с другой стороны, собственность такого исчадия зла как Гилдуин, служил теперь столь благородной цели, как содержать чернила для написания священнейшей книги. Ну а когда Рагинард закончил двадцатую Библию, он, как я сказал, тут же умер. Вообще, его жизнь стала для меня примером самоотверженного, до полного самозабвения служения выношенной сердцем, возлюбленной Богом, воспетой людьми идеальной цели, прекрасной задаче. Надо сказать, что когда Рагинард умер, его место уже никто не занимал. Продолжая говорить об устройстве скриптория, отмечу, что по углам его стояли четыре одинаковых с виду шкафчика. В одном из них, как я уже упоминал, составлялись разнокалиберные подставки для ног, а также ряд иных аксессуаров, которые не требовали контроля со стороны директора скриптория. Все же остальные шкафы запирались на замок и их содержание являлось для Вергилия предметом, требовавшим неусыпной бдительности. Так в одном их них по окончании рабочего дня заключались все лампы, которые в его начале разбирались монахами, дабы сделать более светлыми свои рабочие места, ведь сам по себе скрипторий был довольно темным помещением. Раньше это здание служило для совсем иных целей ; оно целиком принадлежало аббату, и нижняя зала предназначалась, в основном, для встреч высоких гостей, где в былые времена подавались изысканнейшие угощения. В монастыре тогда всегда присутствовал мирянин, отличавшийся строгостью и важностью, по своим обязанностям схожий с таковыми вилика или как его ещё называют, мейера. Практически это был представитель царского двора в монастыре, а ещё более приближенно к реальности – надзиратель за деятельностью эконома. У него было своеобразное представление об аббатстве ; под тем углом, под которым он на него смотрел, обитель казалась ему королевской виллой или даже палляцием. И никто не разубеждал его, так как подобный взгляд был явно на пользу Люксейль. Ведь хозяйство монастыря с точки зрения этого старосты должно было быть бессбойный механизмом для утоления, доходящего до пресыщения, самых разнообразных потребностей суверена. Поэтому в то время к столу всегда могли быть поданы не только утки и куропатки, но и горлицы, фазаны и даже павлины, для содержания которых выделывались специальные золоченые клетки. Исчислить принадлежащее тогда монастырю число хлевов с коровами, свиньями, овцами и козами было такой же невозможностью, как, по распространенному в то время присловью, сыскать где-либо рогатого коня или найти болтливую улитку. Что говорить, если в каждой деревне, включенной в Люксейльский полиптих, как минимум сотня кур по первому зову готова была обеспечить монастырь своими яйцами. В амбарах обители всегда было с избытком меда с многочисленных пасек, мяса – и вяленого и свежепросольного; вина самого разнообразного – ягодного, виноградного, вареного и так называемого "herbatum" – вина, обогащенного силой целебных трав. Были также рыбные консервы, угождавшие самому избалованному желудку : здесь всегда могли подать карпа, лосося, форель, миногу, моллюска и т.д. Кроме того, в Люксейль всегда содержали и холили двух откормленных, валящихся от обжорства быков и трех до смерти упитанных баранов. Эти малоподвижные туши, раздувшиеся как от водянки, присутствовали здесь только для того, чтобы в любой момент, когда это потребуется, на славу послужить чревоугодию гостей своим отменнейшим салом. Леса, простиравшиеся без конца, поистине превращены были в заповедники. Здесь и флору и фауну не только постоянно оберегали от браконьеров и разбойников, но и создавали райские условия тем животным, что так любы сеньору в тот час, когда ему восхочется потешить себя охотничьими забавами. Для этих же целей в чащобах холили всеми силами соколов и ястребов, коих блюли для пущего охотничьего азарта. С целью угодить этим высококровным склонностям в монастыре специально кормился человек, который кроме исполнения прочих надобностей умел споро и сноровисто сплетать тенета для охоты и сети для рыбной ловли и уловления птиц. Да, к приезду самых высоких и развращенных гостей здесь всегда были готовы, поэтому нижняя зала в прежней аббатской резиденции – нынешний скрипторий – никогда не пустовала и всегда была наполнена вздохами изнеженности, досужими сплетнями и икотой. Гости – в том числе и короли и архиепископы – оценивали по достоинству помпезное гостеприимство Люксейль, по всем статьям обетовавшее им упоительнейшие часы досуга. Но это было давно, ещё до взятия Парижа норманнами, ныне же тлен и запустение – спутники сарацинов и венгров – были единственными гостями обители, прежний блеск которой сполна успел всеми позабыться, уподобясь нищете Шимпзе. Поэтому все лампы в скриптории, содержащие дефицитное масло и сами по себе бывшие дорогостоящим инвентарем, хранились под замком, надежность которого всегда удостоверялась Вергилием. Монахи затепливали лампы и, рассеивая утренний мрак, языки света, как кисточки, вырисовывали по стенам таблицы с надписями, посвященными нелегкому труду переписчиков. Эти дощечки, подчас, имели довольно солидный возраст, потемнев частью от времени, частью от пожара, уничтожившего предыдущий скрипторий, украшением которого они служили. Здесь можно было прочесть : ;"Хотя перо держится всего тремя пальцами – трудится при этом все тело и вся душа". Или : "Как больной желает обрести здоровье, так скриптор жаждет приближения конца книги". Здесь вообще было много записей, воздающих должное тяжести труда переписчика, для многих превосходящего самую искупительную и покаянную работу, а для тех, кто не лишен поэтического мышления, походящего по своим чувствам на томительные ощущения навигатора, снедаемого тоской по берегу и так же ликующего при входе в порт, как радуется измученный долгим корпением скриптор, подводящий конец своей книге. Кроме того лампы выхватывали из темноты картину, висевшую над столом Вергилия и по своему сюжету и характеру переносящей труд переписывания книг в сферу религиозного делания, где монах начинал, свершал и заканчивал свою работу по благословению свыше и только при помощи призываемого устами святого, нашептывающего об ошибках в письме и придающего телу ту крепость, что позволяет исполнить до конца аскезу скриптора. В самом деле, каждую книгу монах посвящал святому, на подмогу которого он истово уповал, и с тех пор, вплоть до "входа в порт", с губ его не сходило движение, в котором я думал угадать неслышное проговаривание текста книги, но которое на самом деле было непрерывным взыванием к заступничеству небесных праведников, внимающим славе Господней. Итог и смысл деятельности каждого и выражала эта картина : упавший на колени монах протягивает святому завершенную им рукопись, даже не покушаясь назвать её плодом собственного труда, в котором его тело было лишь пером, оживляемым вышним благоволением. В третьем из четырех шкафчиков хранились так называемые церы или навощенные таблички, традиции использования которых моложе только лишь папируса. Как велит все нам устав, каждый из монахов носит при себе подобные скрепленные ремнями диптихи и стили, один конец которых вычерчивает, а другой заглаживает написанное. Но если наши складни вмещают только восемь стихов, то в этом шкафу можно было найти таблички, связанные в увесистые книги по 8, 10 и даже 12 крупноформатных цер. Такие многотомники, из которых некоторые напрочь забыли о скромности отделки и упаковывались при этом не в обычные "saccus" – эти власяницы для бесхитростных монашьих ежедневников – а в лакированные футляры, иногда расписанные на диво. Подобные церы и впрямь служили иным задачам. Во-первых их брали в дорогу паломники, намеревающиеся проделать весьма длительный маршрут иногда по неизведанным территориям: тогда таблички служили путевыми дневниками, куда стремились вписать свежие впечатления, зачастую не обходившиеся без активности фантазии, обращающей некоторые подробности в сказочные, подобные Шахерезаде явления. При этом чем более дальней и туманней была цель путешествия – будь то страна рабов, Танаис, дельта Нила или пурпуро-хризоцветная Индия – тем сильнее работало воображение, окончательно все запутывая, и тем менее церы служили своей задаче – являться своего рода географическими штудиями и словесными картами. Наши путешественники все понятия и образы неизменно превращали в глоссы, наводняя церы обитателями паноптикумов и инфернариев. Тогда, когда я ещё не родился, жил в Люксейль чудаковатый монах Хардрад, имевший ненасытимую страсть к путешествиям и часто надолго отлучавшийся из монастыря. Предметом его "peregrenatio" по началу были лишь отдаленные галльские обители, прославленные своими обычаями и небесным заступничеством. Но затем он стал отлучаться в мир на все более долгие сроки так, что иногда никто уже и не верил, что он вернется назад. Хардрад был в Риме, видел Константинополь, побывал даже в Вавилоне Египетском, но он все время возвращался обратно, говоря о своей давнишней мечте – увидеть заветное место, где небо прилежит земле, и где, как он слышал, звездный свод покоится на железных столпах – то есть Индию. Несмотря на то, что все его отговаривали, он был настолько неуемен, что однажды ещё до зари, взяв с собой самую громоздкую связку цер, он отправился в неведомую даль, откуда солнце начинает являть себя миру. Его не было пять лет. За это время варварские племена сожгли Люксейль, одних взяв в плен, а иных лишив жизни ; и те, кому удалось избежать напасти и думать уже не думали о получокнутом, беспокойном пилигриме, давным-давно отправившимся на изучение запредельных земель, дающих приют солнцу. Но Хардрад и на этот раз вернулся – сильно изможденный, страшно постаревший, но веселый, изведавший вкус раскрытия тайн, наполняющих монашеские представления о мире. При этом он демонстрировал драгоценные кольца и ожерелья из жемчугов с сапфирами, которыми полна Индия, чьи сокровища разметаны по земле, как у нас пыль, и алмазы там растут на деревьях, словно виноградины. Все были ослеплены тогда этим его скарбом и представляли себе неисчерпаемость индийских богатств. Итак, все его церы были исписаны частоколом мелких, походящих на пиктограммы буковок, в которых он пытался заворожить и замуровать свои впечатления от встречи с пленительным местом сказочного средостения Урана и Геи, от союза которых произошли светила, ветра и бесчисленные Океаниды. И что же ? Его рассказ нисколько не развеял Эреба и Гипноса мифологических представлений об окраинных царствах. Наоборот – темень ещё более сгустилась. Если путь его через Персию изобиловал только опасностями, но отнюдь не чудесами, то, когда он вступил в Индию, неслыханные видения принялись ежечасно наполнять его взор. То он взошел на гору, в ущельях которой иссякал солнечный свет, ибо она была приютом аспидов и василисков, которым светило отказывается цедить свое жизнедающее сияние. Злые змеи, извивавшиеся среди скал, поземкой скользившие по холодным камням, загромождавшим разверзшийся оскал горной седловины, свистели так сильно, что Хардрад не мог выносить подобных звуков и в очумелости бежал с горы, перестав слышать ужасный свист лишь тогда, когда залепил уши воском. В другом месте увидел он дерево сильно красное своими плодами, так благовонно струящими легкие, как эфир ароматы, сладостно раздражающие обоняние. Хардрад уже потянулся было к ним, дабы унять свой голод, но тут же заметил, что дерево то усеяно птицами, говорящими человеческими голосами, обращающимися к Богу с просьбой помиловать их и обратить из птиц обратно в людей. Их щебетание было настолько безрадостным и заунывным, что в крайнем испуге бежал Хардрад оттуда, долго без устали идя, пока не набрел на селение "песьих голов" – так он их называл. Это вроде бы были люди, но видом – обрюзгшие, чумазые, кудлатые, пупырчатобрюхие, злобно урчащие, исподлобья глядящие – сильно похожие на животных. Они жили в гнездах, разведенных прямо на валунах, и ко всякому чужестранцу были настроены весьма агрессивно, скалясь на него и истекая слюнями. И оттуда бежал наш испуганный монах, спиной вперед, лицом оборотившись к выводкам этих отребий. Снова брел он не зная пути, пока на границе между светом и тьмою не встретил он столп, поставленный в незапамятное время царем греческим Александром Македонским. На столбе, унизанным богатой резьбой, прочел Хардрад следующую надпись, выгравированную так, что верхние буквы были крупнее нижних, отчего все они казались равноразмерными: ;"Сей столп воздвигнут Александром, царем Македонским от Халкидона, победителем персов. Сие есть граница его владений, за которой ни один человек уже не может обрести власть. Да наречется это место "тьма". Ибо когда победил Александр Дария Мидийского и Пора Индийского, продолжил он двигаться в солнечную страну, встретив там нечистых сыновей из племени Иафетова. И были они явлением всякой гнусности, так как потребляли зловонную тварь и разных скотов омерзительных комаров, мышей, кошек и змей. Мертвых же не хоронили, часто питаясь собственными детьми. И видел Александр подобную скверну и возбоялся вельми, чтобы не достигли эти племена чистых и святых земель, не осквернили бы их своим смердящим духом. И помолился Богу зело и погнал все народы дикие к краю земли, за границу этого столпа, а, когда вытеснил их, помолился ещё раз со страхом великим, и две горы, стоявшие там незыблемо, сошлись друг с другом, заключая в себе сии нечистые созданья. Заковал Александр те горы вратами железными, а швы их замазал суньклитом, дабы никакой меч, никакой огонь вовеки не распечатали входа, и племена не обрели б свободу, наводняя поднебесные континенты. Называются же горы Гог и Магог, а ворота – Дербентской стеной. Во скончании же веков повелением Божьим разомкнутся они, и, равные приумноженным людским прегрешениям, выплеснутся на волю бесчисленные отродья Иафета, нанося разорение и ужас христианским государствам". Так глаголил Хардрад. Вразумлял также и тем, будто померещилось ему, когда смотрелся он в мрак, сгущавшийся за столпом, что и впрямь возносится там две величайшие горы, вершин которых не видно, но что ворота, сковывающие их, сдернуты с петель, и чрево, поглотившее некогда дикие народы, опустело, зияя голой чернотой, струящейся из жерловины, подобно дыму пепелищ. Так вещал Хардрад, уподобленный одновременно и Гомеру по своей велеречивости, и его герою Одиссею, изведавшему все превратности долгого странствия. Премного же он поразился рассказам очевидцев об опустошительном нашествии венгров в его отсутствие и, услыхав от отвратительных их наружностях и скверных повадках, заключил выспренно, воздевая палец к небесам : "Истинно, то были Гог и Магог, и те кочевники, что пленены были Александром, вышли днесь из развилок ущелий, опорожнив темницу свою. Покайтесь же, братья ! Несть числа народам, закованным Александром в Тартаре, что стоит у пределов земли. Превзойдут ныне бедствия людские все, что было ранее, и не престанут теперь язычники стращать народ христианский своими пакостными нравами, юлящими хвостами, шкурами своими всклоченными, покрытые колтунами, словно брадавицами". Так он говорил, а мне рассказывали о сем те, кто слышал эти его беседы и молитвословия. Так и неизвестно, где был Хардрад все эти пять лет и откуда воспринял он эти диковинные рассказы. Но многие доверились тогда им. Слова "Дербентская стена ниспала" стали расхожим присловьем, в истинности которого убеждались тем незыблемей, чем страшнее становились почти каждодневные бедствия, приносимые в Галлию и венграми и норманнами. Что же касается путевых цер Хардрада, то они были сохранены в Люксейль как памятник, содержащий знаковые и достопамятные видения, и потому их тщательно оберегали от стиля. Да, в этом шкафу, где хранились навощенные таблички всех сортов, тех цер не было – они сразу же перенесены были в библиотеку. Но здесь сложенным являлось множество иных самых разнообразных "tabula rasa", назначение которых зачастую было куда выспренней, чем служить путевым заметкам праздношатающегося географа и землепроходца. Часто их брал с собой аббат, если его призывал на совет епископ. Нотарий в таком случае тоже был обязательным его спутником. Он стенографировал при помощи тиронского шрифта все то, что изрекал в проповедях глава диоцеза, или протоколировал съезды, учащавшиеся во времена обострения реформаторского чутья тех, кто должен был доказывать правомочность ношения ниспосланного Папой паллиума. На таких собраниях, напоминавших часто беспокойно роящийся улей или оживленные споры Ареопага, нотарий усаживался у стоп аббата, означая его неподражаемое превосходство, и кропотливо изрезывал податливый воск, упаковывая слова в косноязычие иероглифических значков, расшифровав которые по возвращению в монастырь, он уже не спеша, стройным каллиграфическим строем увековечивал съезд на папирусном свитке или в пергаментном кодексе. Практически всегда подобного рода внеурочные созывы киновийной иерархии вызывались стремлением осудить нравственную скудость и непостоянство духа монахов, каковые свойства как чума для здоровья или варварские нашествия для материального имущества церкви, были истинным опустошением сознания тех, кто только по имени являлся христианином. В качестве ужасающего примера крайней развращенности и низменных побуждений, в которые претворилась высокая ответственность монаха перед Богом и людьми, настойчивей всего приводился монастырь из соседнего диоцеза – погрязший в извращенности духа Монтьер-ан-Дер. О том, что там вытворялось, бесстрастно свидетельствует наш папирусный свиток, составленный нотарием в прошлом году, и, кстати, нельзя сказать, что никто в Люксейль не почувствовал собственной вины за происходившее в Дер, так как обитель эта была возведена в седьмом веке воспитанником нашего монастыря святым Беркарием. Уже тот факт, что этот благодатьнейший апостол был убит в стенах Дер рукою своего же крестника как бы надолго определил грядущие беспорядки, которые омерзением наполнили это святое место, где монахи стали походить, по ещё одному господствующему присловью того времени, на "оленя, пресмыкающегося во прахе" – противоположность, заявившая там о себе с жуткой непреложностью. Я читал этот папирус. Аббат Бенцо, не имея и следа малодушия перед Богом усеивал сердца кающихся ядовитыми плевелами неверия, позволяя себе открыто богохульствовать и распевать в святые праздники пьяные песнопения, по своему содержанию совершенно противоположные литургическому действу. Подменяя набожность разгульным дебошем, он "причащал" себя и своих гостей крепчайшим вином, распоясывавшим все нравственные узы души и устремляющим побуждения ума к грехомыслию. Надо сказать, что описание творившихся в Монтьер-ан-Дер оргий и вакханалий в папирусе изобиловало самыми изощренными подробностями, самым недвусмысленным образом вводя читателя в пинакотеку отъявленнейшего блуда. "Он, – записал нотарий свидетельство о Бенцо, – заселил кельи монашеские скоморохами бритолицыми, а также всякого рода срама не имущими и ходящими без страха перед Богом шутами, жонглерами и гистрионами, взбирающимися на ходули бесовские, чтобы достать рукой до неба и грозить там ангелам и пресветлым мужам. Заперевшись в своем дворце, Бенцо творил беззакония, которых не было от начала мира: завлекая к себе подвластных крестьян, он примешивал отца с дочерью, сына с матерью, брата с сестрою, хотящих и не хотящих. Ежели боялись и отрекались, то немедленно присуждалися к смерти. Также спрягал бесстыдник чернеца с черницами, да и сам охотно соединялся с дочерьми своими, да сестрами. И творил одержимый Бенцо блудные дни и гусли и плясания и песни сатанины и поругания всяческие, бросая в небеса камни на вызов Богу и оскверняя в праздники грязью святые алтари". И т.д. и т.д. Когда читаешь подобные свидетельства, то переполняешься страхом неизъяснимым не столько даже перед тем, что подобное чудище носит на себе земля, сколько прежде всего перед участью, которая ожидает душу подобного нечестивца после смерти. Так я писал о наследнике Алардия на посту главы Дер в своей книге об этом монастыре: "succesit lues tantae perversitatis domnus Benzo, juste ab ipso deturbatus Coenobio" В конце люксейльского папируса приписывалось, что голова святой императрицы Елены-"beate Elene, inventricis crucis Salvatoris nostri Domini Ihu Xristi" – находящаяся там, с величайшим гневом взирает на эти приступы сатириаза и мании святотатца. Чудо оберегает от осквернения такую реликвию, как голова той, которая родила миру непревзойденного в качествах святого Константина, и кажется – так сообщает папирус – что её очи иногда отверзаются и испепеляют ненавистью прелюбодеев и вероотступников монастыря Монтьер-ан-Дер. Итак, подобного рода папирусы составлялись на основе криптографии восковых табличек, которые выбирал себе в этом шкафчике нотарий монастыря. Наконец, четвертый из шкафов скриптория отведен был под хранение пергамента. При этом верхние полки являли собой хранилище запасов новой, ещё не исписанной мембраны, тогда как внизу накапливались текущие труды, выполняемые переписчиками. Надо сказать, что только единый Рагинард выполнял копирование в высоком своем одиночестве, как, по свидетельству многих, все Рифейские горы низменны, а одна, стоящая особняком, возносит вершину за пределы даже и звездных сфер. Каждая работа по переписыванию, чтобы ускорить темпы труда, делилась внутри коллектива из нескольких, обычно трех или четырех исполнителей. Мастерская Люксейль в ту эпоху, которой я был современен, редко служила нуждам самого монастыря, книжное богатство которого даже при том, что многие обители стремительно восполняли прорехи в своих фондах и уже даже начинали превосходить Люксейль, было одним из крупнейших, исчисляясь пятью сотнями экземпляров. При этом, например, число требников и псалтырей, ранее с избытком запасенных, ныне оказывалось совершенно непропорциональным величине общины, явно поубывшей в количестве. Поэтому скрипторий обычно был наводнен монахами других монастырей, иногда даже другой конгрегации, иногда даже и вовсе иностранных – ходатаи их библиотек весьма были обеспокоены недостатком или испорченностью иногда важнейших, а иногда второстепеннейших трудов. И если, как известно, монастыри часто обменивались книгами, одалживая их, беря в залог подобный по своей весомости труд, то многие из рукописей Люксейль, накопленных в те времена, когда большинство из обителей могло похвастаться только парой Библий и отрывком из Августина, превосходили все по своей ценности и не измерялись ни какими, даже самыми ценными залогами. Поэтому переписчики сами издали приходили сюда, чтобы вершить свою работу именно здесь, под всевидящим взглядом Вергилия, который даже повернувшись спиной или исчезнув в библиотеке следил каким-нибудь своим двадцатым чувством за тем, что делает каждый их скрипторов. Когда в Люксейль приходила делегаты из другого монастыря, они свидетельствовали возложенное на них поручение письмом, в котором их аббат, изливаясь в любезностях и надеясь на милость и добросердечие, просил Вергилия выдать монахам для копирования необходимый его обители труд, восполнивший бы духовную нишу в здании, возводимым там во славу разума, смиренно склонившегося перед Премудростью Божией. Тогда Вергилий расплетал требуемый кодекс, разделяя его на части, и распределял все тетради между сотрудниками, подписав каждую именем переписчика. Таким образом каждый из пришлых монахов корпел над своей частью книги, и общая работа подвигалась довольно быстротечно. По окончании дня Вергилий собирал все эти тетради и складывал их в тот шкафчик, о котором я вам сейчас рассказываю. Утром же, сообразно подписанным именам, он вновь раздавал их. Также здесь запирались рукописи, приготовлявшиеся с особенной пышностью, в листах которой переписчик оставлял многочисленные пробелы, которые впоследствии предстояло заполнить иллюминатору с арсеналом его изобразительных средств и всеоружием вящего мастерства. Наконец, на верхних полках, как я упоминал, хранился ещё не тронутый чернилами пергамент, в том числе и исключительного качества кожи из оленя и антилопы. Хотя, как сказал Вергилий, в этом шкафу полно было и козлят и овец и ягнят и ланей и жеребцов и телят и даже зайцев. Не было только шкур ослов, на которых поистине грешно писать священные книги. На первый взгляд определить из кожи какого животного произведен пергамент почти невозможно. Чаще всего использовали шкуру овцы, телячий же пергамент, который много тверже овечьего, ценен прежде всего для переплетчика. Кроме отделки поверхности – разной для письма и для миниатюр качество его во многом возрастает с уменьшением толщины, которая, как мне объяснили, тем тоньше, чем моложе кожа, из которой произведена была выделка. Я пробовал на ощупь различные листы и одни были грубыми, ороговевшими, плотными, какими-то твердыми и даже лохматыми, а иные – они сложены были отдельно находил так отличительно тонкими и эластичными, очень гладкими, и было даже трудно отличить мясную и мездровую стороны этой мембраны. ;"Где изготовляется этот восхитительный пергамент ? – спросил я Вергилия и тот, обычно всезнающий, оконфузился тем, что его застали врасплох за неведением. "Этот ? Мы получили его только один раз и стараемся беречь, не расходуя понапрасну. Местонахождение мастерской, изготовляющей пергамент столь превосходного сорта, держится в тайне. Ведь если бы оно стало известно, тотчас распространился б рецепт его изготовления, а это бы наплодило новые мастерские и снизило на него цену, которая сейчас непомерно высока, приходясь нам не по карману". Я созерцал содержимое этого шкафчика, а потом, наконец, пошел в зал, с интересом наблюдая , как работают мастера. Сегодня трое скрипторов из Сент-Аманд составили воедино три скамеечки, соединили свои столы и утроено переписывали "De divisione naturae" Иоанна Скотта. От вида такого усердия у меня, видно, загорелись глаза, и я сам захотел испытать себя в подобном труде, но Вергилий уловил мое желание и непреклонно покачал головой : "Воспрещено в силу недостаточности возраста. Ты ещё слишком юн". В ответ на эти слова один из монахов приподнял голову и предположил, что Вергилий в данном случае излишне строг : "Иногда не следует стесняться быть снисходительным, не переходя, однако, грань попустительства. Когда-то наш монастырь прославил своим присутствием внук Пипина Иероним. И что вы думаете: ему было всего лишь девять лет, когда он скопировал житие своего праотца святого Арнуля – прообраза душевных свойств великого Карла". "Я слышал, – сказал другой, – что и в Санкт-Галлене дозволяют писать юношам. Так что я не стал бы противиться в случае, когда у отрока есть потребность в преумножении книг". Но, конечно, это никакого воздействия на Вергилия не возымело. Зато он решил поближе познакомить меня с библиотекой. Я ещё раз оглядел скрипторий – утренний мрак постепенно рассеивался, заставляя мастеров гасить свои лампы, вырисовывая на дверцах шкафчиков инкрустированных рыб, птиц и фигурки самых разнообразных, чуть ли не сказочных животных, давая также видеть как дыхание монахов превращается в пар на этом морозе, который господствовал в скриптории несмотря на разведенный в камине огонь.