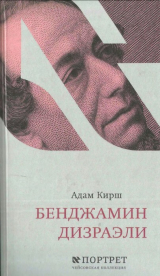
Текст книги "Бенджамин Дизраэли"
Автор книги: Адам Кирш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Есть лишь одно место в дневнике, где Стэнли пишет, что поверил в искреннюю увлеченность Дизраэли. Это произошло, когда он посетил Дизраэли в начале 1851 года, через двадцать лет после путешествия того в Палестину:
Как-то раз, именно во время этой встречи, он чрезвычайно серьезно говорил со мной о возвращении евреев на их родину. <…> Эта страна, по его словам, весьма богата природными ресурсами, необходимы только рабочая сила и защита тех, кто там будет трудиться. Землю можно купить у турок, средства для этого появятся – помогут Ротшильды и крупнейшие еврейские капиталисты; турецкая империя разваливается, турецкое правительство за деньги согласится на все; остается только обустроить колонии, решить вопрос с правом на землю и обеспечить защиту колонистов от жестокого обращения. Вопрос о государственном статусе может подождать, пока все сказанное не претворится в жизнь. И он добавил, что эти идеи пользуются широкой поддержкой в еврейской среде. Тот, кто воплотит их в жизнь, станет следующим мессией, истинным Спасителем его народа.
Перед нами почти в точности изложена программа, которую в 1896 году выдвинет Ѓерцль в своем труде «Еврейское государство». Кто, в конце концов, может сказать, что бы случилось, если бы Дизраэли, лично знакомый с великим множеством английских и европейских государственных деятелей, выдвинул такую программу на полвека раньше? И все же к тому времени, когда Дизраэли открыл Стэнли сокровенную часть своих помыслов, он уже давно осознал, что совместить стремление занять пост премьер-министра Англии и желание стать «следующим мессией» невозможно. Стэнли пишет, что «он больше не возвращался к этой теме», а позже отмечает: «Я не слышал о каких-либо практических шагах Дизраэли в этом направлении или попыток эти шаги сделать». Стэнли только оставалось гадать, не была ли «вся эта сцена мистификацией. <…> Но, в таком случае, каким целям она могла служить?» Ответ, как показывает «Алрой», заключается в том, что это была не мистификация, а другая жизнь, которую волею судьбы Дизраэли так и не прожил.
8
Используя каждую возможность, чтобы попасть в парламент, Дизраэли не бездействовал и в промежутках между избирательными кампаниями. Литературная известность и экзотическая красота сделали его желанным гостем в салонах Лондона, где он общался с представителями высшего света, титулованными дамами и политиками из партии консерваторов. О своих победах в этой сфере он подробно сообщал в письмах Саре. «В этом году я преуспел в обществе, – с гордостью писал он сестре в 1834 году. – Я столь же любезен денди, сколь ненавидим посредственностью. Для меня не составляет труда приобщиться к высшему свету, где нет места зависти, злобе и т. п. и где люди готовы выражать восхищение и испытывать приятное удивление». В эпоху, когда сферы политики и высшего света в значительной степени совпадали, способность удивлять и удивляться открывала для Дизраэли большие возможности.
О том, насколько тесно его личная жизнь слилась с политической карьерой, мы можем судить по отношениям Дизраэли и Генриетты Сайкс, с которой он познакомился в 1833 году. На этом этапе его жизни Генриетта подходила Дизраэли во всех отношениях. Она была старше, замужем и имела полезные связи, а потому могла помочь ему в продвижении по карьерной лестнице, не требуя взамен серьезных обязательств. Их соединила страстная и несколько театральная любовь при полном попустительстве мужа Генриетты (тот, в свою очередь, спал с Кларой Болтон, бывшей любовницей Дизраэли). Как и во всех наиболее успешных связях Дизраэли с женщинами, в этом союзе присутствовал сильный материнский элемент. Одно пылкое письмо Генриетты заканчивается так: «Я стану моему малышу безмерно любящей старой нянькой и нежными поцелуями утишу любую боль. <…> Спи, и пусть тебе приснится – Твоя мамочка». Тем не менее отношения между ними определенно были не только платоническими, в чем другие письма Генриетты не оставляют сомнений. В одном из них она пишет о «десяти счастливых минутах на диване», а в другом тревожится, не забеременела ли: «Не думаешь ли ты, что сейчас от всех наших любовных объятий нас может постигнуть беда?»
Связь Дизраэли с Генриеттой продолжалась три года и послужила источником вдохновения для его следующего романа, включая имя героини. «Генриетта Темпл», изобилующая страстями, но лишенная оригинальности любовная история, в 1836 году имела коммерческий успех, однако для современного читателя вряд ли представляет интерес. Восторженные излияния автора о силе любви, скорее всего, были продиктованы его чувством к Генриетте, однако читателю они кажутся надуманными и преувеличенными. Дизраэли свойственно превозносить истинную любовь, заявляя при этом, что она способна заменить собой его самую сильную страсть – честолюбие. «Чувствовать, как перед ее образом наше выставленное напоказ честолюбие съеживается подобно высохшей тыкве, понимать, что слава – пустышка, а будущие поколения – обман, быть готовым ради вожделенной цели без раздумий отбросить все прежние желания, связи, планы, идеи <…> вот что значит быть влюбленным, вот что такое любовь!»
Однако в действительности роман Дизраэли и Генриетты Сайкс был тесно связан с его честолюбивыми планами. Именно в доме Генриетты он впервые познакомился с лордом Линдхерстом, старым политиком из партии тори, который тоже был известным дамским угодником. Ходили упорные слухи, что Дизраэли уступил Линдхерсту свою любовницу в обмен на благосклонность в политических делах. Возможно, все это произошло не до такой степени откровенно и гадко, но не подлежит сомнению, что к тому времени, как связь Дизраэли и Генриетты прекратилась, покровительство Линдхерста было ему обеспечено. Свой следующий роман «Венеция» – иносказание о жизни Байрона и Шелли – Дизраэли посвятил Линдхерсту.
«Венеция» стала любопытным отклонением от обычной для Дизраэли прозы – это первый его роман, который не прочитывается как некое упражнение автора в самодемонстрации или воплощении своих желаний. Продолжи он карьеру в качестве профессионального писателя, «Венеция» могла бы ознаменовать начало нового этапа его творчества, не столь сосредоточенного на себе. Но Дизраэли сочинял «Венецию» слишком стремительно, чтобы прилагать усилия для отделки романа. К 1837 году он оказался в очень стесненных обстоятельствах и был вынужден писать с предельной скоростью ради заработка, чтобы хоть ненадолго избавиться от кредиторов. Долги Дизраэли, которые некогда служили стимулом к творчеству, становились серьезной угрозой его политической карьере. Он знал, что арест приведет к скандалу, который погубит его репутацию. В декабре 1836 года, когда Дизраэли предложили произнести вступительную речь на банкете консервативной партии, он умолял своего адвоката каким-то образом утаить это от судебных исполнителей: «Меня попросили произнести чрезвычайно важный тост в честь Палаты лордов. Надеюсь, сейчас нет опасности, что меня повяжут – это стало бы губительной contretemps[49]49
Помеха (фр.).
[Закрыть], поскольку эта речь, по всей вероятности, станет обращением к моим будущим избирателям».
Таким образом, попытки пробиться в парламент превратились в гонки на время. Если бы Дизраэли «повязали» до того, как он стал депутатом, его карьера была бы уничтожена, в то время как в качестве члена парламента он получал иммунитет от ареста. Наконец летом 1837 года смерть короля Вильгельма IV дала Дизраэли шанс. Восшествие на престол нового монарха – королевы Виктории – означало необходимость всеобщих выборов, и Дизраэли уже занимал достаточно видное место в партии тори, чтобы претендовать на перспективный избирательный округ. «Карлтон клаб»[50]50
«Карлтон клаб» – ведущий лондонский клуб консерваторов, основан в 1832 г. герцогом Веллингтоном.
[Закрыть], штаб-квартира партии, отправил его в округ Мейдстон, где уже был один член парламента от консерваторов, Уиндем Льюис, и где, как казалось, существовали условия для избрания второго. Богатство напарника создавало исключительно благоприятные возможности для Дизраэли: кампания требовала немалых расходов на подкупы, и Уиндем Льюис был готов эти расходы покрыть. К тому же супруга Льюиса Мэри-Энн, которую Дизраэли встречал на различных приемах в Лондоне, всячески способствовала его популярности. «Запомните мое предсказание, – писала она. – Мистер Дизраэли очень скоро станет одним из знаменитейших людей своего времени». Никто из них тогда не подозревал, насколько важную роль сыграет сама Мэри-Энн в осуществлении этого пророчества.
Борьба за место в парламенте от Мейдстона стала пятой избирательной кампанией Дизраэли, и теперь он уже был невосприимчив к антисемитским выпадам – и грубым, и подспудным, – которыми его встречали. Когда возмутители спокойствия в толпе прерывали его речи, выкрикивая «Шейлок!», он не обращал на них внимания, а когда сторонник его оппонента из партии радикалов обратил внимание на еврейское имя Дизраэли, он быстро сумел осадить его. Услышав от выступающего: «Мистер Дизраэли… Надеюсь, я правильно произношу его имя…», в своей речи на следующий день он сделал вид, что испытывает такое же затруднение с именем соперника: «Полковник Перронет Томпсон… Надеюсь, я правильно произношу его имя…» Эта демонстрация невозмутимости, этот сарказм вместо гнева так и останутся обычными для Дизраэли способами отвечать на политические нападки, какими бы яростными они ни были. Неистовый гнев Вивиана Грея и Контарини Флеминга он глубоко упрятал.
И вот, наконец-то, настойчивость дала результат. К концу июля, когда избирательные пункты закрылись, Дизраэли оказался вторым, и это означало, что он вслед за Льюисом становился членом парламента. После пяти лет стараний он все же ухватился за «скользкий столб» политической карьеры. Однако для человека со свойственным Дизраэли безграничным честолюбием просто стать одним из шестисот пятидесяти (или около того) членов парламента было недостаточно, а вероятность занять место на передней скамье[51]51
Передняя скамья – одна из двух скамей в Палате общин, расположенных справа и слева от спикера и предназначенных соответственно для членов правительства и членов «теневого кабинета».
[Закрыть], получить пост министра правительства, казалась ничтожной. Как консерватор он принадлежал к партии парламентского меньшинства, которая не имела серьезных шансов прийти к власти в обозримом будущем. Более того, репутация Дизраэли как денди, должника, прелюбодея, эксцентричного гения и еврея означала, что лидер тори, весьма почтенный сэр Роберт Пиль, вряд ли поспособствовует его продвижению наверх через головы более добропорядочных членов партии. Даже наслаждаясь великолепием открытия сессии парламента, Дизраэли, скорее всего, помнил собственное предсказание, сделанное годами ранее в его дневнике: «Я мог бы управлять Палатой общин, хотя поначалу там воцарилось бы сильнейшее предубеждение против меня. Это самое завистливое законодательное собрание в мире».
Дизраэли стал членом парламента через пять лет после принятия Билля о реформе, которому, согласно убеждению и его противников, и его сторонников, предстояло преобразить Палату общин. На самом же деле, как отметил Дизраэли в своем последнем и обращенном в прошлое романе «Эндимион», «довольно скоро стало ясно, что старый материал, пусть поначалу серьезно уступавший в количестве, до такой степени повлиял на новую массу депутатов, что Палата общин переняла и вполне усвоила прежний дух». Этот дух оставался аристократическим, что вполне устраивало Дизраэли. Он никогда не был настолько высокого мнения о широкой публике, чтобы жаждать ее обожания. В отличие от Гладстона, чьи речи, произнесенные вне стен парламента перед огромными толпами, вошли в легенду, Дизраэли никогда не блистал в этом жанре. Взамен он, как Вивиан Грей, «страстно желал попасть в Сенат» – недоступный круг благородных и равных между собой людей, подобных римским патрициям. Именно врожденное понимание аристократизма в первую очередь как чувства чести и стремления выделиться из общего ряда со временем сделали Дизраэли искуснейшим парламентским оратором.
Жизнь члена парламента в тот период английской истории была предметом зависти. Палата общин сочетала интимную обстановку клуба и возбужденную атмосферу театра, а личности ее членов и их деятельность в огромной степени определяли жизнь страны. Период работы Палаты, с февраля по август, включает в себя «сезон» лондонского общества[52]52
Светский сезон в Лондоне, когда двор и высший свет находятся в столице, начинается в мае и заканчивается в августе.
[Закрыть]. По завершении сезона богачи и знать разъезжались по загородным домам, где проводили осень в охоте и взаимных визитах. Этот распорядок нарушался лишь изредка, когда возникала какая-нибудь важная причина для специальной осенней сессии. Заседания Палаты общин начинались во второй половине дня и часто затягивались за полночь, иногда до четырех утра. Такое расписание усиливало ощущение драматизма и неотложности в ходе дебатов по важным вопросам, и Дизраэли нередко возвращался домой на рассвете в таком сильном возбуждении, что не мог уснуть, словно актер после спектакля. И это не удивительно, поскольку речи отдельных депутатов часто оказывались длиннее театрального представления. После одной из таких речей, произнесенных Дизраэли, его поздравил коллега: «Говорят, она длилась три часа, но, когда вы закончили, мне хотелось, чтобы она продолжалась еще столько же». Интерес к ораторскому искусству был велик и вне стен Палаты, и первые страницы газет заполнялись подробными отчетами о выступлениях парламентариев.
Атмосфера братства в Палате общин, ощущение, что в ней собрались исключительно джентльмены, допускали определенную свободу и даже легкомыслие. Лорд Стэнли неоднократно отмечает в дневнике, что парламентарии появляются в Палате мертвецки пьяными или грубо подшучивают друг над другом. Сам Дизраэли как-то вспомнил эпизод, когда Палата внезапно превратилась в подобие частного клуба, где джентльмены делятся скабрезными историями. Один член парламента
рассказал о некоем заключенном, жене которого не разрешили навещать его в тюрьме с правом свободно входить и выходить. На это заключенный сказал: «Хорошенькие дела творятся в стране – англичанин уже не может свободно входить в свою жену». Взрыв смеха потряс Палату. Сэр Роберт Пиль, который любил от души посмеяться, вопреки обыкновению утратил способность владеть собой, уронил голову на стол и зашелся хохотом.
После стольких лет жизни на периферии английского общества Дизраэли наслаждался ощущением, что наконец принят в высший свет. Он никогда не считал литературную славу достойной заменой славы политической и вполне мог бы разделить чувства анонимного члена парламента, процитированного Уолтером Баджетом[53]53
Уолтер Баджет (1826–1877) – британский экономист и философ.
[Закрыть] в его классическом труде «Английская конституция»: «Мы слышали, как некий господин сказал: „Двадцать лет я писал книги и оставался никем, а попав в парламент, стал заметной фигурой, еще не успев занять свое место“». О тех же ликовании и гордости свидетельствуют письма Дизраэли сестре, которая оставалась его самой важной наперсницей. Он описывает толпы во время первой сессии 1837 года, когда новая королева впервые принимала парламентариев, и не сдерживает восторга: «Услышав магические слова „член парламента“, все придворные чины немедленно предлагали нам помощь, уступали дорогу, и мы могли свободно идти куда пожелаем».
Новые члены обычно предпочитали, чтобы их видели, но не слышали, однако Дизраэли никогда не отличался осмотрительностью и с обычной для него безрассудностью поторопился выступить с первой речью. Он взял слово в разгар дебатов по ирландской проблеме сразу же после своего заклятого врага Дэниела О’Коннелла. Результат можно было предвидеть. Не успел Дизраэли открыть рот, как его заглушили негодующие выкрики ирландских сподвижников О’Коннелла. Несколько раз он пытался продолжить свою цветистую речь, но она неизбежно тонула в улюлюканье и топоте ног. В конце концов он сдался и, преодолев нестихающий гвалт, торжественно пообещал: «Сейчас я сяду, но придет время, и вы меня выслушаете». И обещание это стало знаменитым.
Эта неудача, похоже, повторила в миниатюре весь путь в политике, пройденный Дизраэли до той поры. Вместо мгновенного грандиозного успеха, каким он его представлял, Дизраэли снова потерпел унизительную неудачу. Но эта неудача, как и прежние, только укрепили его железную решимость. Он признавался Саре: «Мой дебют обернулся провалом, поскольку мне не дали возможности высказать то, что я хотел; однако провал этот вызван не тем, что я утратил самообладание или оказался несостоятелен, а исключительно физической мощью моих противников». Пусть Дизраэли не сумел закончить речь, но по крайней мере ему удалось привлечь внимание Палаты, а «если не считать безусловного успеха, – убеждал он Сару, – наделать много шума – это самое лучшее».
Впрочем, в первый год пребывания в парламенте большого шума Дизраэли не наделал. Он ограничился сдержанными, хорошо продуманными замечаниями по таким сложным вопросам, как законодательство об авторском праве, и постепенно завоевал уважение членов Палаты общин. Особенно чуток он был к тому впечатлению, которое на коллег производило его еврейство, и вскоре с облегчением убедился, что оно не вызывает толков. В самые первые недели работы в парламенте Дизраэли писал Саре о дебатах, «которые, как оказалось, косвенно касались еврейской проблемы». Вопрос об эмансипации евреев возник во время обсуждения законопроекта о предоставлении квакерам права вступать в должность в органах местного самоуправления без произнесения присяги – тогда один из членов парламента попытался распространить это право и на евреев. Дизраэли следовало бы занять позицию стойкого защитника интересов евреев, но он в данном случае присоединился к большинству, проголосовав против этого предложения, принять которое означало бы использовать формальный прием, дабы не обсуждать «еврейский вопрос» открыто. «Никто на меня не смотрел, – сообщил он Саре, – и я вовсе не чувствовал неловкости, однако голосовал вместе с большинством и с абсолютным sang-froid». Разумеется, если бы он не чувствовал неловкости, то хладнокровие ему бы и не понадобилось, но Дизраэли было важно продемонстрировать, что никакой неловкости он не испытывает.
Теперь, когда он стал членом парламента, Дизраэли были нужны только деньги и удачный брак, чтобы оставить в прошлом свою скверную репутацию. В 1839 году он получил и то и другое в лице Мэри-Энн Льюис. Уиндем Льюис, его коллега по выборам в Мейдстоне, умер в марте 1838 года, и Дизраэли незамедлительно дал ясно понять овдовевшей Мэри-Энн, что будет счастлив занять место ее покойного супруга. Такой союз представлялся выгодным обоим: Мэри-Энн могла сохранить положение жены члена парламента, а расстроенные финансы заставляли Дизраэли обратить особое внимание на ее солидный годовой доход и лондонский дом.
С учетом этих обстоятельств его авансы выглядели довольно корыстными, а о романтической страсти, наподобие той, что связывала Дизраэли и Генриетту Сайкс, не могло быть и речи. Однако в течение года – траур по мужу – основание для близких и прочных отношений было заложено. Несколькими годами ранее, когда Дизраэли впервые встретил Мэри-Энн на одном из приемов, она не произвела на него впечатления: «Кокетка и трещотка», – так описал он ее Саре. Однако с тех пор она немало поспособствовала его успехам в политике и, что еще важнее для Дизраэли, уверовала в его гениальность. Именно такого рода преданность он всегда искал в своих отношениях с женщинами – возможно, пытаясь найти компенсацию того, что не получил от матери. По той же причине и возраст Мэри-Энн (в свои сорок пять она была двенадцатью годами его старше) в представлении Дизраэли отнюдь не стал помехой. От Сары Остен до Генриетты его всегда привлекали женщины постарше, материнского склада. Вскоре он уже писал ей: «Скажи мне, что ты любишь свое дитя».
Возраст Мэри-Энн был хорош и в другом отношении. Ее первый брак оказался бездетным, и к этому времени уже не было сомнений, что ей не суждено стать матерью. Дизраэли мог быть уверен, что останется единственным «ребенком» Мэри-Энн и ему не придется делить с кем-нибудь ее заботу. Это также означало, что его род прервется, в то время как для большинства английских знатных семей этот вопрос имел бы первостепенное значение. Впрочем, Дизраэли, похоже, не беспокоило, что он станет последним в роду. И действительно, уже на склоне лет, когда у него появилась возможность добиться титула для сына своего брата Ральфа, которого в честь героя одного из романов Дизраэли назвали Конингсби, он отказался от этого шанса, причем несколько раз.
Равнодушие Дизраэли к продолжению своего родословия, по-видимому, связано с тем, что он воспринимал себя как «пустую страницу» между иудаизмом и христианством. Такой образ наводит на мысль о шаткости его положения, неспособности раз и навсегда определиться, по какую сторону религиозной и психологической границы он находится. Но появись у него ребенок, проблемы идентичности и национальной принадлежности, которые для себя он умудрялся откладывать до конца жизни, потребовалось бы решить. Как отцу ему пришлось бы решать, хочет ли он, чтобы его дети были англичанами с еврейскими предками или евреями, которые по воле судьбы сделали Англию сферой своей деятельности. (Третью возможность, предполагающую, что в одном человеке может уживаться еврей и англичанин, в Англии того времени нельзя было представить; даже теперь подобная свобода самоидентификации возможна только в Соединенных Штатах, но не в Европе.) Брак с Мэри-Энн давал уверенность, что это трудное решение ему не придется принимать никогда, и он останется блистательным исключением из правил и не должен будет определять правила для своих потомков.

Дизраэли в год женитьбы (1839):
«Я так устроен, что моя жизнь должна стать нескончаемой любовью».
Какие бы неурядицы, связанные с деньгами и корыстным мотивом, ни омрачали его жениховство, в феврале 1839 года, когда они рассеялись, некая размолвка заставила Дизраэли написать Мэри-Энн поразительно честное письмо. «Впервые оказывая вам знаки внимания, я отнюдь не руководствовался романтическими чувствами, – признавался он. – Я не оставался слеп к практическим выгодам такого союза». Однако далее он подчеркивал, выказывая бескорыстие, хотя и довольно необычным образом, что состояние Мэри-Энн «оказалось значительно скромнее, чем это представлялось» ему или обществу. По завещанию мужа она пожизненно получала доход, но права распоряжаться самим состоянием не имела. Дизраэли был уверен, что, преследуя в браке только меркантильную цель, он мог бы найти и более выгодную партию: «В моем распоряжении все, что только может предложить общество». На самом деле в Мэри-Энн его прежде всего привлекала ее способность стать как раз такой женой, которая ему нужна, «на которую я с гордостью могу смотреть как на спутника жизни, – писал он, – спутника, который с пониманием относится ко всем моим начинаниям и чувствам, утешает меня в минуты уныния, разделяет со мной торжество побед и трудится вместе со мной ради наших общих славы и счастья».
У читателя может возникнуть желание спросить вслед за Ричардом III: «Кто обольщал когда-нибудь так женщин? Кто женщину так обольстить сумел?»[54]54
У. Шекспир, «Ричард III», акт 1, сц. 2. Перевод А. Радловой.
[Закрыть] Однако его письмо было составлено с таким совершенством, что прогнало прочь сомнения Мэри-Энн, и она ответила: «Ради Бога, придите ко мне. <…> Я готова ответить всем вашим желаниям». В обществе, где брак неизбежно становился коммерческой сделкой, Дизраэли выказал ей уважение, откровенно упомянув о деньгах. В то же время он дал ясно понять о своем желании, чтобы их союз опирался не только на финансовый интерес, но и на эмоциональную близость. «Все золото Офира[55]55
Офир – упоминаемая в Библии страна, которая славилась золотом и драгоценностями.
[Закрыть] не приведет меня к алтарю, – заканчивал он свое письмо. – Мне нужны совершенно другие качества в милом сердцу спутнике жизни. Я так устроен, что моя жизнь должна стать нескончаемой любовью».
Именно такой подход к Мэри-Энн, в которой сочетались и опытная светская дама, и любящая восторженная женщина, оказался верным. «Все женщины из общества долгие годы что-то получали от Диз, – писала она подруге. – Он лучше, чем кто-либо из известных мне мужчин, способен по достоинству оценить женщину, у которой есть что отдать взамен того, что она получит. <…> Теперь желание отдать возникло у меня, и я точно знаю, как это сделать». Дизраэли предлагал невесте, как в свое время сестре, возможность стать партнером в таком дерзком предприятии, как его политическая карьера; он играл на страсти, которую понимал лучше всего, – на честолюбии. К тому же между ними, скорее всего, существовало и физическое влечение. Как-то раз, еще в период ухаживания, когда Мэри-Энн собиралась прийти к нему, Дизраэли предварил ее визит запиской с целью подготовить некий сокрытый от посторонних взоров момент: «Не забудьте заблаговременно снять перчатку, чтобы мы могли стоять рядом друг с другом и я сжимал вашу руку и ощущал ее восхитительную нежность».
Все это вместе и привело к тому, что брак Дизраэли слыл союзом счастливым. «Диззи женился на мне ради денег, – говорила Мэри-Энн, – но, случись такая возможность еще раз, женился бы на мне по любви». А поскольку в викторианскую эпоху консервативные «семейные ценности» значили немало, репутация Дизраэли как любящего мужа внесла заметный вклад в восстановление его доброго имени. Слухи о взаимной преданности супругов получили распространение. Чаще всего упоминали такой эпизод: Мэри-Энн, направляясь вместе с мужем в Палату общин, где предстояли дебаты по важному вопросу, случайно защемила пальцы дверцей экипажа и, чтобы Дизраэли не отвлекался от размышлений, подавила крик боли и продолжала улыбаться, пока он не скрылся из вида.
Дизраэли ответил на эту преданность по-своему. После десятилетий брака он оставался романтическим, рыцарственным супругом. В 1867 году, когда они оба были больны и лежали в разных спальнях, он написал жене записку, где говорилось, что их дом превратился в больницу, «но больница с тобой, – закончил Дизраэли, – стоит дворца с кем-либо другим. Твой Д.». Он остался верен Мэри-Энн, даже когда в глазах общества она превратилась в нелепую фигуру, продолжая наряжаться и кокетничать словно девушка, хотя ей перевалило за семьдесят. Положение не улучшали и ее «непосредственные речи» (так их назвал один из друзей), которые иногда «просто пугали». Она удивила друзей Дизраэли, признавшись, что никогда не знала, кто был раньше – греки или римляне. В другом случае, когда кто-то обмолвился о бледной коже одной дамы, она сказала: «Ах, жаль что вы не видели моего Диззи в ванной! Тогда бы вы получили представление, что такое на самом деле белая кожа». Впрочем, несмотря на подобные faux pas[56]56
Оплошность, промах (фр.).
[Закрыть], Дизраэли оставался целиком и полностью преданным «милому сердцу спутнику жизни». В 1872 году, незадолго до смерти, Мэри-Энн сказала подруге, что «ее жизнь была длинной дорогой счастья благодаря его любви и доброте».








