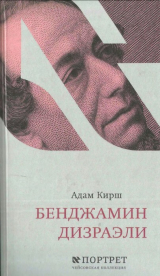
Текст книги "Бенджамин Дизраэли"
Автор книги: Адам Кирш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
5
Но Дизраэли не умер. У него случился нервный срыв. Пока ажиотаж вокруг «Вивиана Грея» постепенно затихал, Дизраэли в обществе Сары Остен и ее мужа на два месяца отправился путешествовать по Европе. Они проехали Францию и Швейцарию, а затем, перевалив через Альпы, оказались в Северной Италии; все путешествие Дизраэли описал в ярких письмах домой. Осенью, вернувшись в Англию, он завершил работу над вторым томом «Вивиана Грея», малоприметной книгой, явно написанной исключительно ради заработка. Психологический автопортрет в первом томе здесь уступает место разрозненным надуманным эпизодам, в которых Вивиан выступает всего лишь бледной тенью былого героя. Контраст оказывается настолько сильным, что даже автор задает вопрос: «Неужели перед нами тот же самый дерзкий юноша, который в прежние времена ухитрялся сплачивать в безумные союзы этих чванливых старых недоумков?»
Вивиан, как и его создатель, изменился. В течение последующих трех лет Дизраэли был полуинвалидом: он страдал от одного из не нашедших четкого определения недугов девятнадцатого века, которые современному взгляду представляются психосоматическими расстройствами. Он замкнулся в отчем доме, отдав себя заботам родителей, пока его без видимого результата лечили сменявшие друг друга врачи. Лучшее из медицинских заключений гласило, что он поражен «хроническим воспалением оболочек головного мозга», но в наши дни его заболевание, скорее всего, назвали бы острой депрессией. Впрочем, Дизраэли не оставался совсем уж бездеятельным и даже сумел написать две небольшие вещи: в 1828 году появилась «Попанилла» – короткая сатира в духе «Путешествий Гулливера», а в 1830-м он закончил «Молодого герцога». Однако в сравнении с неуемной деятельностью и обширными планами Дизраэли 1824–1826 годов, период с 1827 по 1830 год, по словам Исаака, стал в жизни его сына «пустым». «Его недуг, – писал Исаак, – относится к тому виду расстройств, которые сбивают с толку врачей и остаются неразгаданными, пока больной в конце концов от них не избавится. А тем временем уделом его должны стать терпение и смирение – два снадобья, облегчающих жизнь, но весьма горьких для пылкого, не знающего покоя ума».
Исаак хорошо понимал мучительное состояние сына, поскольку сам в прошлом пережил нечто подобное. В возрасте двадцати девяти лет, пишет Дизраэли в своих воспоминаниях, «отца поразил тот загадочный недуг, которому часто подвержены молодые мужчины с обостренной чувствительностью, особенно писатели; он проявляется в нервном истощении, вызываемом малоподвижной работой за письменным столом, рано развившейся неотступной мечтательностью, тревогой и неясностью целей. Симптомы такой болезни, физические и нравственные, весьма неприятны: апатия и уныние». Без всякого сомнения, Дизраэли описывает здесь и собственный «загадочный недуг», и упомянутые им причины депрессии, охватившей Исаака, в еще большей степени приложимы к его случаю: «Я думаю, что эта болезнь его молодости, растянувшаяся, пусть с промежутками, на много лет, рождена неспособностью отца направить в правильное русло умственные силы, которые он в себе ощущал».
Главная причина болезни Дизраэли, длившейся три года, крылась в крахе честолюбивых надежд. Как показано – и без каких бы то ни было экивоков – в «Вивиане Грее», в начале карьеры Дизраэли был полон порожденных нарциссизмом иллюзий. Убежденный в своей гениальности, он полагал, что и мир отнесется к нему соответственно и незамедлительно признает его безусловное превосходство, как он того и заслуживает. Когда же этого не случилось, собственный образ, творимый им в годы издевательств со стороны соучеников и уединенных мечтаний в отцовской библиотеке, разлетелся вдребезги. Впрочем, со временем Дизраэли сможет вновь обрести веру в себя и подвести под нее более прочное основание. В результате ему удастся достигнуть всего, о чем мечтал Вивиан, и даже более того.
И все же на протяжении всей карьеры Дизраэли не покидает чувство разочарования: власть и слава, пришедшие поздно и завоеванные с большим трудом, так и не оправдали его надежд. «Стать знаменитым в молодости – это воистину дар богов, – писал Дизраэли, подкрепляя это утверждение перечнем героев, прославившихся в юности. – Подумайте только, Италию завоевывали величайшие полководцы древности и нового времени в возрасте двадцати пяти лет! Персидское царство ниспровергли молодые, совсем молодые люди. <…> Кортесу было едва за тридцать, когда он любовался золотыми куполами Мехико». Подобно Юлию Цезарю, который проливал слезы у статуи Александра Македонского, юного Бенджамина мучила мысль о том, как мало он успел совершить. Когда Дизраэли, уже в годах, обрел наконец реальную власть, он не мог избавиться от ощущения, что она пришла слишком поздно. «Когда-то, просыпаясь, я чувствовал, что у меня достанет сил сменять династии и правительства, – говорил он в 1878 году, – но это время прошло».
К 1830 году Дизраэли окреп, воспрял духом, и он захотел перемен. Одним из признаков улучшения (а может быть, и его причиной) стала первая зафиксированная биографами любовная связь Бенджамина – по иронии судьбы, с женой одного из его врачей Кларой Болтон. Как и Сара Остен, Клара была старше Дизраэли и замужем – оба эти качества он искал в своих любовницах. И уж конечно, ее привлекательности для честолюбивого молодого человека способствовало и то, что Клара была хозяйкой модного салона, среди гостей которого встречались и члены парламента. Дизраэли постепенно возвращался в общество, деля свое время между Лондоном, где щеголял в изысканном платье и скрывался от кредиторов, и Браденхемом, новым загородным домом отца в графстве Бакингемшир, куда семья переехала, чтобы жить в более здоровом климате.
Теперь Дизраэли овладела жажда путешествовать. Но он не собирался отправиться в обычный Гран-тур[34]34
Гран-тур – длительное путешествие по Европе – составная часть образования молодого английского джентльмена.
[Закрыть], который совершают молодые английские богачи по салонам Парижа и соборам Рима. Вместо этого он вознамерился поехать на Восток – в Грецию, Турцию, Египет и на Святую землю. Дизраэли и тут брал пример со своего кумира: Байрон умер в Греции, участвуя в войне за ее независимость, а некоторые из наиболее известных его произведений – это легенды с ярким восточным колоритом, полные первозданных необузданных страстей.
Однако для Дизраэли путешествие на Восток имело и некий символический смысл, неведомый Байрону: оно давало возможность воочию увидеть родину еврейского народа. Это не значит, что посещение Палестины превратилось бы для него в религиозное паломничество. Светское воспитание и крещение предполагали, что Дизраэли отнюдь не был погружен в еврейские обряды с их постоянными обращениями к Сиону и Иерусалиму. Однако именно потому, что Дизраэли не рассматривал Палестину в религиозном плане, то есть как сцену, где разыгрывается мессианская драма изгнания и искупления, он мог представлять ее в историческом и политическом аспекте как место зарождения еврейского национального суверенитета. Незадолго до путешествия, читая книги из отцовской библиотеки, он заинтересовался личностью Давида Алроя, курдского еврея, который в двенадцатом веке возглавил восстание против турок-сельджуков. Для Дизраэли Алрой демонстрировал немыслимую ранее возможность: оказывается, еврей мог заявлять права на политическую власть, оставаясь евреем. Именно эта мечта, не получившая еще названия «сионизм», сильнее, чем обещание теплого климата, сильнее, чем пример Байрона, влекла Дизраэли на Восток.
В мае 1830 года, получив гонорар за «Молодого герцога», Дизраэли покинул Лондон. Спутником Бенджамина был Уильям Мередит, жених его сестры Сары. Позже к ним присоединился Джеймс Клей, еще один их знакомый, путешествующий по Средиземному морю на своей яхте. Присутствие Клея наталкивало на мысль, что в их планы входил не только осмотр достопримечательностей: он был известным распутником и непревзойденным проводником для любителей секс-туризма из числа молодых европейцев, приехавших на Восток. В отличие от Гюстава Флобера, который посетил те же места двадцатью годами позже, Дизраэли не оставил скабрезных записей о своих сексуальных приключениях. Однако то обстоятельство, что по возвращении в Англию он и Клей лечились от венерического заболевания, не оставляет сомнений в том, чем они занимались во время этого путешествия. И действительно, в подходящей компании Дизраэли охотно рассказывал о своих похождениях. В 1833 году художник Бенджамин Хейдон оставил в своем дневнике запись о званом обеде, за которым Дизраэли «распространялся о Востоке и, похоже, был склонен оправдывать печально известные пороки тех мест».
Первую остановку Дизраэли сделал в Гибралтаре, где его байронические манеры и стиль в одежде ошеломили британский гарнизон. По крайней мере, так он описывает произведенное им впечатление в письме домой: «Я также заслужил славу первого, кто прибыл на континент с двумя тростями – утренней и вечерней. <…> Поразительно, какой эффект производят здесь эти волшебные палочки». Позже это щегольство приобрело восточный колорит: он нарядился в «костюм греческого пирата. Алая рубаха с серебряными запонками величиной с шиллинг, широченный шарф или кушак с заткнутыми за него пистолетами и кинжалами, красный колпак, красные туфли без задников, просторный синий полосатый камзол и синие же шаровары. Все сверх меры – кошмар!»
Впрочем, манера одеваться была для Дизраэли не просто выражением любви к маскараду. Таким стилем – все сверх меры – он подтверждал, что не может смешаться с толпой. Как далеко он заходил в этих стараниях, можно понять из письма с Мальты, где он общался с британскими офицерами: «Претенциозность здесь значит больше, чем остроумие. Вчера на корте я сидел на трибуне среди незнакомых мне людей, когда залетевший мяч легонько ударил меня и упал к моим ногам. Я его поднял и, заметив молодого пехотного офицера, застывшего словно изваяние, со всем почтением попросил его бросить мяч на корт, поскольку сам я никогда в жизни не устраивал бала[35]35
Смысл каламбура в том, что выражение throw a ball имеет два значения – бросить мяч и устроить бал.
[Закрыть]». Эту шутку могли вполне оценить его друзья в Лондоне, где подобные дендизм и манерность речи были в моде.
Однако этот эпизод безусловно свидетельствует и о защитной реакции. Понимая, как далек он от образа идеального офицера или джентльмена, Дизраэли отнюдь не желает и даже не пытается к этому идеалу приблизиться. Что бы он ни писал, ему хорошо известно: подобная «претенциозность» не поможет ему заслужить признание офицеров мальтийского гарнизона и, как подтверждает Клей, не заслужила. Через несколько лет, вспоминая об этом путешествии, Клей называет «фатовство» Дизраэли совершенно «непереносимым» и отмечает, что офицеры вскоре вообще перестали приглашать «этого надутого еврейского мальчишку» на обеды в свою столовую. Но преувеличенный дендизм – как на Мальте, так и в Англии – удовлетворял самую сокровенную потребность Дизраэли: позволял ему чувствовать, что его экстраординарность – следствие собственного выбора, а потому – своего рода достоинство, а не что-то врожденное и потому – проклятье. Как всегда, если он не мог приспособиться, решительно предпочитал выделиться.
Однако, если Дизраэли чувствовал, что в среде англичан вынужден фиглярствовать, то путешествия давали ему возможность окунуться в атмосферу, где, как ему казалось, он обретал свободу и чувство собственного достоинства. Когда пожилая дама, показывая ему Альгамбру, великолепный мусульманский дворец в Гранаде, донимала его вопросом, не мавр ли он, Дизраэли был счастлив. Мысль о том, что его средиземноморские черты, из-за которых он испытывал унижения в Англии, за границей воспринимались как признак благородного происхождения, будоражила воображение. Возможно, он уже выстраивал исторически сомнительную, но психологически убедительную теорию, будто евреи и арабы принадлежат одной расе и, стало быть, славными делами обоих народов вправе гордиться каждый из них – в «Танкреде» эту идею он выразил во фразе: «Арабы – это те же евреи, только верхом». Так или иначе, Дизраэли приходил в восторг от мысли, что может оказаться законным наследником властителей, построивших Альгамбру. Покидая дворец, он бормотал: Es mi casa – «Это мой дом».
Обаяние власти для тех, кто ее лишен, помогает объяснить, почему Дизраэли незамедлительно полюбил турок. Для последователя Байрона это было поразительной ересью. Ведь в конце-то концов поэт умер, сражаясь на стороне греков против Турции; для европейских либералов Оттоманская империя вообще была символом упадка и реакции. Но когда Дизраэли приехал в Албанию, где бушевало восстание, он немедленно встал на сторону турок. «У меня были мысли, – писал он домой, – и вполне серьезные, вступить добровольцем в турецкую армию, чтобы принять участие в албанской войне». А уже в Испании он упивался мыслью о возможности более не чувствовать себя англичанином и слиться с могущественной семитической расой, какой она представала в его воображении. Хотя турки в действительности не были семитами, Оттоманская империя стала домом для большой сефардской общины, то есть потомков тех же выходцев из Испании, от которых вел свое происхождение и Дизраэли. Легкий поворот колеса фортуны – и английский джентльмен мог бы превратиться в турецкого. Дизраэли был в восторге от слов встреченного им турка: «Он сказал, что не принял меня за англичанина, потому что я так медленно хожу, – я и правда считаю, что обычаи этих неторопливых, расточительных людей вполне совпадают с моим уже ранее сложившимся отношением к правилам приличия и развлечениям, а греков я недолюбливаю еще больше, чем прежде».
Греческое восстание, возможно, и не было той борьбой за свободу, какой оно представало в идеализированных описаниях поэтов-романтиков. Но презрительное отношение Дизраэли к грекам и ко всем последующим движениям девятнадцатого века за национальное освобождение указывает на то, чему суждено будет стать чертой его представления о власти, которая причинила ему больше всего неприятностей. Дизраэли испытывал тяготение к мусульманскому государству, каким оно было в Испании и Турции, поскольку воспринимал его как некое замещение еврейского государства. В его представлении пышное мавританское и турецкое великолепие было своего рода упреком высокомерию англичан, так как доказало, каких успехов мог достигнуть восточный, семитический народ. В своей прозе он вновь и вновь с подчеркнутым удовольствием противопоставляет древности семитов незрелость англосаксов – «плосконосых франков, суетливых и заносчивых, – так он пишет в „Танкреде“, – народа, зародившегося, как видно, в северных болотах и лесных дебрях, по сю пору не расчищенных».
И утверждаясь таким образом в своей еврейской гордости, Дизраэли упустил из виду, что в действительности у евреев гораздо больше общего с греками, чем с турками. В девятнадцатом веке евреи не имели государственности, они находились в подчинении, и особенно тяжелым было их положение в Оттоманской империи. В 1840 году, всего через десять лет после путешествия Дизраэли, в Дамаске распространился кровавый навет: еврейского цирюльника обвинили в убийстве католического священника. Последовала волна террора, которая сопровождалась пытками наиболее известных в городе евреев, несколько человек умерли. Только вмешательство западных дипломатов, энергично поддержанное английским евреем, известным финансистом Мозесом Монтефиоре, заставило египетское правительство Мехмета Али положить конец «дамасскому делу».
По иронии судьбы одним из ярких эпизодов восточного путешествия Дизраэли оказалась его встреча именно с Мехметом Али. Он был поражен «двором паши, блестящим кругом придворных в роскошных одеяниях, а особенно чернокожими евнухами в алом и золотом». Дизраэли даже утверждал, будто Мехмет Али беседовал с ним о политике (что маловероятно). И все же восхищаться пашой как воплощением семитической власти он мог, только закрыв глаза на то, что власть эта использовалась в ущерб его народу, евреям. Дизраэли и в самом деле не поддержал кампанию Монтефиоре по спасению евреев Дамаска, хотя и был к тому времени членом парламента. Красноречивый пример того, как Дизраэли, представлявший себе еврейство источником вдохновения в психологическом плане, по сути дела оставался равнодушным к судьбе реально существующих евреев. То, что представления, рожденные его фантазией, никак не соотносились с современным ему реальным политическим положением евреев, объясняет, почему место Дизраэли не в истории сионизма как такового, а лишь в его предыстории.
Зная, насколько глубоко во время своего путешествия Дизраэли был погружен в размышления о еврейской истории, мы могли бы ожидать, что его письма из Палестины будут полны прозрений. На самом деле, хотя он и пишет, что посещение Иерусалима стало для него «самым восхитительным переживанием за все время путешествия», его описания этого города разочаровывают. Пейзаж Дизраэли передает, используя стандартный набор эпитетов: «Невозможно представить себе что-либо более дикое, ужасное и безлюдное, чем окружающие нас картины, более мрачное, неспокойное и суровое». Его письма не поднимаются над уровнем обычного праздного путешественника. Не исключено, что он так скупо писал о реальной Палестине, поскольку в то время она вовсе не являла собой впечатляющей картины еврейского величия. Из Яффы, портового города, до Иерусалима Дизраэли пришлось два дня добираться верхом по дорогам, не проезжим для экипажей, то и дело откупаясь от местных вождей. В самом Иерусалиме жили всего тринадцать тысяч человек, в том числе тысяч пять евреев; он еще не распространился за пределы своих средневековых стен и выглядел скорее как захудалый провинциальный городишко, чем как древняя столица. Английский священник, побывавший в Иерусалиме в 1849 году, писал, что город произвел на него впечатление «неприглядного и отвратительно грязного <…> где путешественник <…> вынужден пробираться, нащупывая дорогу между разбросанных камней, нечистот и всякой гадости».
Возможно, Дизраэли именно потому и уделил описанию плачевного состояния Иерусалима так мало внимания, что в своих фантазиях уже представлял этот город будущей еврейской столицей. Еврейскую часть города он, по-видимому, посещать не стал да и в романах упоминает отнюдь не еврейские места Иерусалима – это Храм Гроба Господня и, особенно часто, Купол Скалы[36]36
Купол Скалы – древнейшая мусульманская святыня, находится на Храмовой горе рядом с мечетью Аль-Акса.
[Закрыть] («череда великолепных внутренних дворов и легкие воздушные ворота, помнящие триумф сарацинов»). Насколько важным для него оказалось время, проведенное в Палестине, станет понятным лишь позже, когда реально увиденное в Иерусалиме он превратит в еврейские фантазии «Алроя» и «Танкреда».
После Палестины Дизраэли провел несколько месяцев в Египте, изучая страну. Первоначально он намеревался оставаться за границей еще дольше и возвращаться через Италию. Но в июле 1831 года, когда Дизраэли был в Каире, его спутник Мередит внезапно умер от оспы, и он решил немедленно отправиться домой, чтобы утешить свою сестру, потерявшую жениха. Сообщая в письме Саре о случившейся трагедии, Дизраэли клянется восполнить эту утрату: «Живи, о сокровище моего сердца, живи ради того, кто всегда любил тебя безграничной любовью. <…> Будь моим гением, моим утешением, моим спутником, моей радостью». Сейчас эти слова звучат странно в устах брата, утешающего сестру, хотя бы из-за выраженной в них нескрываемой самовлюбленности. Однако Саре, которая в двадцать восемь лет встретилась с реальной перспективой на всю жизнь остаться старой девой, они могли и не казаться такими уж странными.
На самом деле Дизраэли предлагал сестре точно такой же дар, которым он оделил на протяжении многих лет не одну женщину, – возможность принять участие (пусть и косвенное) в общественной и политической жизни, обычно для них закрытой. Положение «гения» и «спутника» набирающего силу политика стало для Сары определенного рода карьерой и главным источником радостных переживаний в последующие тридцать лет. Разумеется, это во всех отношениях устраивало и самого Дизраэли: к моменту возвращения домой в октябре он уже имел план дальнейших действий, для реализации которого ему бы понадобилась практическая и моральная поддержка сестры. Наконец, после долгих лет, Дизраэли твердо решил стать членом парламента.
6
Дизраэли вернулся в Англию в разгар конституционного кризиса. Через полтора года после того, как он отправился в свое путешествие, дебаты о парламентской реформе, долгое время вяло булькавшие на самой дальней конфорке британской политической кухни, дошли наконец до точки кипения. Французская революция 1830 года, сменившая старую династию Бурбонов на конституционную монархию, разбудила надежды реформаторов в Британии и показала правящим кругам, что их ждет, если не воспоследуют перемены. В ноябре к власти пришло первое за полвека правительство вигов, возглавляемое лордом Греем, которому и надлежало провести в жизнь Билль о реформе, чтобы раз и навсегда успокоить страну.
Когда по ходу путешествия Дизраэли выдавался случай получить какие-то сведения из дома или найти англоязычную газету, он следил за развернувшейся в Англии политической борьбой. В марте 1831 года Палата общин приняла Билль о реформе с перевесом в один голос, но вскоре это решение было заблокировано в комитете. Тогда виги назначили общие выборы, и в результате их перевес сторонников реформы в Палате общин оказался более весомым. Однако в октябре Палата лордов вторично отклонила Билль, после чего по стране прокатилась волна протестов и беспорядков. Упрямство землевладельцев и партии тори, которая сохраняла сильные позиции в верхней палате, толкало страну к революционному взрыву. И только после того, как недавно вступивший на престол Вильгельм IV пообещал создать столько новых пэров, сколько потребуется для одобрения Билля о реформе, Палата лордов уступила. В июне 1832 года Билль о реформе стал наконец законом.
В наше время, когда всеобщее избирательное право считается само собой разумеющимся в любом свободном обществе, результат принятия Билля о реформе выглядит довольно скромным. Прежде право голоса имели около полумиллиона мужчин при общей численности населения в шестнадцать с половиной миллионов. Снизив имущественный ценз для избирателей, Билль дал право голоса еще примерно тремстам тысячам, в основном горожанам и представителям среднего класса. Не менее важно, что Билль упразднил десятки «гнилых местечек»[37]37
«Гнилое местечко» – так в Англии называли обезлюдевший избирательный округ.
[Закрыть], передав их депутатские места новым промышленным городам на севере страны. Однако хроническая коррупция не исчезла, обновленный электорат все еще не превышал одной седьмой части взрослого мужского населения, а вопрос о предоставлении права голоса женщинам даже не поднимался.
В то же время символично, что Билль о реформе и его сторонниками, и его противниками воспринимался как революция. Впервые с 1688 года, когда Славная революция[38]38
Славная революция – государственный переворот, завершившийся свержением Якова II и утверждением на престоле Вильгельма III и его супруги Марии. Привел к установлению конституционной парламентской монархии.
[Закрыть] установила закон, согласно которому верховная власть принадлежит не королю, а парламенту, Британия сделала решающий шаг к расширению демократии. Был закреплен определенный принцип, и последующие полвека заданному реформой направлению предстояло господствовать в британской политике. На вершине политической пирамиды по-прежнему оставались, в основном, аристократы (семь из десяти премьер-министров, занимавших этот пост после Грея, имели титул), но теперь средний класс получил голос в парламенте, и голос этот набирал силу. Главными достижениями в области законодательства средневикторианского периода стали модернизация, либерализация и рационализация общественных и государственных институтов страны. Суд, образование, колонии, армия, церковь – все они будут реформированы на протяжении последующих пятидесяти лет.
Следует отметить, что инициатива реформ почти всегда исходила от вигов и их преемников – либералов. Монополия либералов на реформаторство помогает объяснить, почему за сорок лет после принятия Билля о реформе тори находились у власти лишь десять лет. Уже в 1832 году, когда Дизраэли только готовил почву для своей первой избирательной кампании, было ясно, что вигам предстоит управлять страной довольно долго. Тем не менее Дизраэли, для которого самой желанной целью была власть, с самого начала своей политической деятельности объявил себя противником правящей партии. В одной из своих ранних речей он сказал: «Господа, будь я политическим авантюристом, мне оставалось бы только примкнуть к вигам; но, следуя искреннему убеждению в совершеннейшей пагубности их политики, я полагаю своим долгом им противостоять».
Однако летом 1832 года, когда Дизраэли намеревался избираться в парламент в Хай-Уикоме, округе отца, он вовсе не был уверен, что хочет примкнуть и к тори. Тори отвергали реформу и оттого выглядели архаичными и на избрание надеяться не могли; никто не сомневался, что первые выборы на основе нового закона приведут вигов к внушительной победе. В результате Дизраэли решил испытать судьбу, не опираясь на поддержку какой-либо партии в надежде, что непредсказуемые течения, возникшие на реформенной волне, принесут ему победу. «Я начинаю как крайний радикал, – писал он. – Консерватизм себя изжил, а до либералов я не могу снизойти». Мягко говоря, странное начало для политика, которому суждено в будущем стать иконой консерватизма. Это решение, подобно многим опрометчивым шагам молодого Дизраэли, со временем ему дорого обойдется. То обстоятельство, что он начал карьеру как «крайний радикал», положило на него клеймо ненадежного, даже беспринципного политика, которое сохранялось еще долго после того, как Дизраэли стал стойким приверженцем партии тори.
В действительности главную ставку Дизраэли делал не на принадлежность партии и не на свою позицию по определенным вопросам, а исключительно на силу своего характера. Несмотря на ранние неудачи, он не утратил присущего Вивиану Грею ощущения своего великого предназначения. Дизраэли был увлечен политикой задолго до того, как в его голове сложились хоть какие-то политические взгляды, и всегда верил в себя больше, чем в любую политическую платформу. Именно это он, по сути, и выразил в брошюре, выпущенной к избирательной кампании 1833 года под довольно нескромным заголовком «Кто же он?»: «Не будем забывать и о значении, которое в сильнейшей степени недооценено в наш век, век торжествующей посредственности, – о значении личных качеств. Сильные духом люди еще могут встать у скрипучего кормила, чтобы направлять судно сквозь бури этого мира, – это люди, чье гордое предназначение заключается одновременно в утверждении величия нашей страны и обеспечении счастливой жизни нашего народа».
Избиратели Хай-Уикома, как оказалось, не проявили желания, чтобы их интересы в парламенте представлял человек, сильный духом. Дизраэли проводил там свою первую кампанию в июне 1832 года, когда из-за отставки одного из членов парламента возникла необходимость в дополнительных выборах. Билль о реформе был только что принят, и Дизраэли уже собирался участвовать в намеченных на декабрь общих выборах на основе нового закона. Однако он не мог пропустить шанс побороться за освободившееся место, надеясь, что сторонники тори и радикалов проголосуют за него, чтобы не допустить победы вигов. Это была смелая попытка, и украсила ее легендарная речь перед зданием местной гостиницы «Красный лев». «Когда объявят результаты, я окажусь здесь, – сказал он, указывая на голову льва, – а мои соперники – там», – и Дизраэли показал на хвост.
Однако соперником Дизраэли был Чарлз Грей, сын премьер-министра, и громкое имя обеспечило ему победу. Грей получил двадцать голосов против двенадцати, поданных за Дизраэли, – эти цифры показывают, сколь ничтожным было до реформы число избирателей в некоторых округах. Когда в декабре те же кандидаты участвовали в общих выборах, теперь уже с большим числом избирателей, Дизраэли, как и прежде, не пожелал навешивать на себя ярлык принадлежности к какой-либо партии, насмехаясь над обеими: «при всех своих разногласиях виг и тори – это два имени с одним значением», – но Грей снова вышел победителем, на этот раз с соотношением голосов 140 против 119.
Два поражения за полгода – подобное унижение прежде могло бы ввергнуть Дизраэли в глубокую депрессию. Но в двадцать восемь лет он был уже не тот, что в двадцать один год. Неудача (а их будет немало) никогда более не лишит его веры в себя. Через пару месяцев с галереи Палаты общин Дизраэли слушал речи депутатов, которые – в этом он не сомневался – станут его коллегами. «Между нами говоря, – делился он с сестрой, – я мог бы превзойти их всех. Скажу entre nous: я абсолютно уверен, что способен преодолеть любые препятствия в Палате. И это время придет».
Он доказал свое упорство, снова заявив о себе как кандидате, на сей раз от Марилебона[39]39
Марилебон – фешенебельный район в северо-западной части Лондона.
[Закрыть], где в начале 1833 года ожидалась вакансия. Выборы, впрочем, не состоялись, но настойчивость Дизраэли привела к тому, что его имя стало приобретать известность во все более широких политических кругах. Примерно в это же время одна газета поместила на своих страницах едкую шутку в его адрес, которую он процитировал в письме Саре: «Некто спросил Дизраэли, предложившего свою кандидатуру от Марилебона, на что тот предполагает опираться. „На свою голову“, – был ответ». Дизраэли не комментирует эту шутку, но она скорее всего доставила ему удовольствие. В ней отразился его бесшабашный юмор, который будет и впредь отличать Дизраэли от прочих английских политиков. (В последнем своем романе он язвил: «Островной стране, подверженной туманам, с влиятельным средним классом нужны государственные деятели с угрюмым характером».) Однако Дизраэли «опирался на свою голову» и в более серьезных вещах. Большинство кандидатов на места в парламент находили опору в своей родословной и в местных связях. Еврейское происхождение лишало Дизраэли этих немалых преимуществ. Заменить их он мог только своим интеллектом и твердым намерением пустить его в ход. Ведь прозвище «смекалистый еврей» неизбежно предполагало наличие острого ума.
Однако еще с детства Дизраэли усвоил, что удивить англичанина светлой головой недостаточно. Потребуется еще доказательство, что и чувства его отвечают ожиданиям, что его верность Англии не вызывает сомнений. Поэтому не удивительно, что, излагая свои политические взгляды в статьях, брошюрах и речах, Дизраэли никогда не забывал особо выделить идею величия нации. Уже в тридцатые годы он нашел принцип, которым ему следовало руководствоваться в своей политической карьере. В то время как виги были партией класса себялюбцев, утверждал он, тори представляли интересы всей нации. Они защищали не только английские традиционные институты, включая аристократию и церковь, но также рабочих и фермеров, для служения которым эти институты предназначались. Придя к такому заключению, Дизраэли без колебаний стал членом партии консерваторов. Чтобы явить людям лелеемый им образ аристократа, а также продемонстрировать благонадежность, требовалось вступить в партию, как он ее называл, «английских джентльменов».








