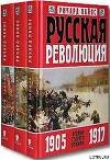Текст книги "Русская революция. Россия под большевиками. 1918-1924"
Автор книги: Пайпс
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 52 страниц)
В Советской России к моменту смерти Ленина все капиталы и все производство были собственностью государства. С коллективизацией сельского хозяйства в конце 20-х, лишившей крестьянство права распоряжаться землей и плодами своего труда, частная собственность была упразднена окончательно. В 1938 году, согласно советским статистическим данным, государство владело 99,3% национального дохода103.
Муссолини пошел по пути, которым воспользовался и Гитлер. Он счел, что в фашистском государстве частная собственность может иметь место, но без объявления ее «естественным» и тем самым неотъемлемым правом. Владение имуществом он считал правом, обусловленным интересами государства, которое может оспорить его и там, где речь идет о средствах производства, отменить путем национализации104. Фашистские власти беспрерывно вмешивались в дела частных предприятий, не оправдывавших их ожиданий, из-за плохого ли руководства, из-за дурных ли производственных отношений, или по каким-либо иным причинам. Нередко им приходилось вступать в конфликт с промышленниками, не желавшими считаться с профсоюзами. Они вмешивались и в процесс производства и распределения, «упорядочивая» прибыли и смещая руководителей. Один современник заметил, что рассматривать фашизм как «победивший капитализм» неправомочно, поскольку при нем частное предпринимательство оказывалось под не менее строгим контролем, чем трудящиеся105.
Нацисты тоже не видели смысла в запрещении частного предпринимательства, поскольку оно охотно шло на сотрудничество и готово было оказать помощь в перевооружении, в котором Гитлер видел основную задачу экономики. Терпимость по отношению к частному сектору определялась конкретной целесообразностью, а не твердым установлением. Как и фашисты, нацисты признавали принцип частной собственности, но отрицали его священный характер на том основании, что производственные силы, как и людские ресурсы, должны служить нуждам «общества». По словам нацистского теоретика, «собственность... не столько частное дело, сколько уступка государства при условии, что она будет использоваться правильно»106.Понятно, что «собственность», которая перестала быть частным делом, более уже не частная собственность. Фюрер, как олицетворение национального духа, пользовался правом «ограничить или экспроприировать собственность по своему усмотрению, если таковое ограничение или экспроприация согласуется с задачами общества»107. 14 июля 1933 года, в день, когда НСРПГ была объявлена единственной легальной партией, закон позволял конфисковывать все «враждебное» партии и государству имущество108. Четырехлетние нацистские планы, прямо позаимствованные из коммунистической практики «пятилеток» и преследовавшие те же цели, а именно ускоренное перевооружение, создавали широкие возможности для вмешательства государства в экономическую деятельность.
«Невзирая на целое поколение марксистской и неомарксистской мифологии, вероятно, никогда в мирное время управление явно капиталистической экономикой не велось такими не– и даже антикапиталистическими методами, как в Германии в период между 1933 и 1939 гг. ... Статус предпринимательства в Третьем рейхе определялся в лучшем случае социальным договором между неравными партнерами, в котором подчинение было условием успешности»109.
На право фермера распоряжаться своей землей накладывались строгие ограничения, предусматривающие сохранение ее за семьей110. Постоянное вмешательство вдела предпринимателей доходило даже до ограничения объема прибыли, который корпорации могли выплачивать в виде дивидендов. В 1939 году Раушнинг предостерегал благодушную Европу, что экспроприация нацистами имущества евреев была только первым шагом, прелюдией «тотального и необратимого разрушения экономической позиции» немецких капиталистов и прежних правящих классов111.
Присвоение нацизму «буржуазного» характера традиционно опиралось на два аргумента, опровергаемых историческими фактами. Широко распространено было мнение, что на своем пути к власти Гитлер пользовался финансовой поддержкой промышленных и банковских кругов. Однако документы говорят о том, что большой бизнес пожертвовал Гитлеру весьма незначительные суммы, гораздо меньше того, что было передано соперничающим консервативным партиям из страха перед его социалистическими лозунгами: «Лишь с большой натяжкой можно приписать большому бизнесу решающую, или даже важную, роль в падении [Веймарской] республики... Если роль большого бизнеса в распаде республики преувеличена, то тем более это справедливо в отношении восхождения Гитлера... Начальный рост НСРПГ протекал без какой бы то ни было существенной поддержки со стороны кругов крупных предпринимателей»112.
Во-вторых, невозможно утверждать, чтобы когда-либо при нацистском режиме большой бизнес мог оказать сопротивление нацистской политике, не говоря уж о том, чтобы диктовать свою волю. Немецкий историк-марксист следующим образом описывает место капиталистов при Гитлере: «В самоощущении фашизма фашистская система правления характеризуется приматом политики. Пока примат политики сохраняется, фашистам все равно, какой группе более всего выгоден их режим. Поскольку экономический уклад, в фашистском восприятии мира, имел второстепенное значение, они приняли существующий капиталистический порядок»*. Национал-социалистское движение, по словам другого ученого, «было с самого начала правлением новой и революционной элиты, которая терпела промышленников и аристократов лишь постольку, поскольку они удовольствовались статусом, который не давал им реального влияния в определении политики»113. Тем более не было у них смысла быть недовольными крупными государственными заказами и прибылями, ими обеспечиваемыми.
* Kuhn A. Das faschistische Herrschaftssystem. Hamburg, 1973. S. 85. Автор использует термин «фашисты» для обозначения нацистов. Было отмечено, что в Веймарской республике деловые круги «высказывали.... удивительное безразличие к формам правления» (Turner H. // American Historical Review. 1969. Vol. 75. № 1. P 57).
В этой связи полезно вспомнить, что Ленин не стеснялся брать деньги у русских миллионеров и даже у правительства имперской Германии114. Придя к власти, он стремился наладить контакты с русским большим бизнесом, ведя переговоры с крупными картелями о взаимовыгодном сотрудничестве с новым режимом. Из этого ничего не вышло, из-за сопротивления левых, которым не терпелось приступить к строительству коммунизма 115. Однако намерение такое было, и, если бы к 1921 году, когда Ленин перешел к нэпу, в России сохранилось хоть что-нибудь из крупной капиталистической индустрии или торговли, можно не сомневаться, он поладил бы с ними.
* * *
Если мы обратимся к различиям между коммунистическим, фашистским и национал-социалистическим режимами, то увидим, что в главном все они относятся на счет неодинаковых социальных, экономических и культурных условий, в которых этим режимам выпало осуществляться. Иными словами, они явились результатом тактического приспособления одной и той же философии правления к местным условиям, а не плодами различных философий.
Самое существенное различие между коммунизмом, с одной стороны, и фашизмом и национал-социализмом, с другой, заключается в их отношении к национализму: коммунизм – движение интернациональное, тогда как фашизм, по словам Муссолини, не предназначен для «экспорта». В речи в Палате депутатов в 1921 году дуче обратился к коммунистам со следующими словами: «Между нами и коммунистами нет политического родства, но есть интеллектуальное. Как и вы, мы считаем необходимым централизованное и единое государство, требующее железной дисциплины ото всех, с той лишь разницей, что вы приходите к этому выводу через концепцию классов, а мы через концепцию нации»116. Будущий министр пропаганды Гитлера Йозеф Геббельс тоже считал, что коммунизм от нацизма отделяет только интернационализм первого117.
Насколько фундаментальны эти отличия? При более пристальном изучении становится понятно, что они объясняются главным образом особыми социальными и этническими условиями трех упомянутых стран.
В Германии в 1933 году 29% взрослого населения работало в сельском хозяйстве, 41% – в промышленности и ремесленном производстве и 30% – в сфере обслуживания118. Здесь, как и в Италии, распределение между городским и сельским населением, между наемными рабочими, мелкими частными предпринимателями и крупными работодателями, между имущими и неимущими было гораздо сбалансированней, чем в России, которая в этом отношении более напоминала Азию, чем Европу. Учитывая сложность социальной структуры и значение, какое имели группы, не принадлежащие ни к «пролетариату», ни к «буржуазии», было совершенно нереально надеяться столкнуть между собой классы в Западной Европе. Здесь рвущемуся к власти диктатору нельзя было отождествлять себя с тем или иным классом, не ослабив при этом своей политической позиции. О справедливости этого утверждения свидетельствуют неоднократные неудачные попытки коммунистов разжечь социальную революцию на Западе. Во всяком случае в Венгрии, Германии, Италии той части интеллигенции и рабочего класса, которую им удалось поднять на мятеж, успешно противостояли коалиционные силы иных социальных групп. После Второй мировой войны даже в странах, где у коммунистов было больше всего сторонников, в Италии и Франции, они, опираясь только на один класс, так и не смогли вырваться из изоляции.
На Западе диктатору, идущему к власти, следует использовать скорее национальные, а не классовые противоречия. Муссолини и его фашистские теоретики искусно связали одно с другим, заявляя, что в Италии «классовая борьба» есть не столкновение двух классов граждан, а битва всей «пролетарской нации» с «капиталистическим» миром119. Гитлер видел в «международном еврействе» не только «расового», но и классового врага немцев. Фокусируясь на ненависти к чужакам – или «врагам», по Карлу Шмитту, – он уравновешивал интересы среднего класса, рабочих и фермеров, не определяя открыто своих предпочтений к тем или иным из них. Национализм Муссолини и Гитлера определялся тем обстоятельством, что структура их общества требовала, чтобы недовольство было направлено вовне, потому что путь к власти пролегал через сплочение различных классов против чужеземцев*. В некоторых странах – особенно в Германии и Венгрии – коммунисты тоже, не колеблясь, апеллировали к шовинистическим настроениям.
* Наиболее благоразумные деятели Коминтерна это прекрасно понимали. На июньском 1923 года Пленуме Радек и Зиновьев убеждали, что немецким коммунистам, чтобы вырваться из изоляции, нужно наладить связи с националистически настроенными элементами. Оправданием такому маневру должно было служить рассуждение, что националистическая идеология «угнетенных» народов, одним из которых является Германия, носит революционный характер. «В Германии, – заявлял по этому поводу Радек, – упор на национальность есть акт революционный» (Luks L. Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie. S. 62).
В Восточной Европе ситуация была совсем иной. Россия в 1917 году была страной по преимуществу одного класса – крестьянства. Промышленных рабочих было сравнительно мало, и, по большей части, они все еще были прочно связаны с деревней. Эту удивительно однородную группу «трудящихся», которые в губерниях Великороссии составляли 90% всего населения, отделяли от остальных 10% не только социо-экономические, но и культурные характеристики. Они не ощущали национального единения с достаточно европеизированными помещиками, чиновниками, военными, предпринимателями и интеллигенцией. С точки зрения русских крестьян и рабочих, они с таким же успехом могли бы быть и иностранцами. Образ классового врага революционной России, буржуя, выражался не только его социо-экономическим положением, но и речью, манерами и обликом. И путь к власти в России пролегал, тем самым, через гражданскую войну между крестьянскими и рабочими массами и европеизированной элитой.
Но если Россия имела не столь сложное социальное устройство, как Италия и Германия, то этого нельзя сказать об ее национальном составе. Италия и Германия были странами этнически однородными; Россия была многонациональной империей, в которой господствующая группа составляла менее половины населения. Политик, апеллирующий открыто к русскому национализму, рисковал настроить против себя нерусскую половину – что было понятно царскому правительству, избегавшему прямого отождествления с великорусским национализмом и опиравшемуся на этнически нейтральную «имперскую» идею. По этой же причине и Ленину пришлось избрать путь, отличный от Муссолини и Гитлера, и придерживаться идеологии, не имеющей национальной окраски.
Одним словом, в России, учитывая высокую однородность ее социальной структуры и разнородность этнической, предприимчивому диктатору целесообразней было апеллировать к классовому антагонизму, в то время как на Западе, где ситуация была прямо противоположной, упор делался на национализм.
Следует, однако, заметить, что со временем классовый и националистический тоталитаризм стремятся к сближению.
Сталин на исходе своей политической карьеры дал ход великорусскому национализму и антисемитизму: во время Второй мировой войны и после ее окончания он вполне открыто и бесстыдно вел шовинистскую кампанию. Гитлер, со своей стороны, считал немецкий национализм слишком сковывающим его амбиции. «Я могу достичь своих целей только через мировую революцию», – говорил он Раушнингу и предсказывал, что растворит немецкий национализм в более всеобъемлющей концепции «арийства»: «Концепция нации потеряла смысл... Мы должны избавиться от этой ложной концепции и поставить на ее место концепцию расы... Новый порядок не может формулироваться в понятиях национальных границ народов с историческим прошлым, но только в понятиях расы, преодолевающей эти границы... Я прекрасно, не хуже всех этих ужасно умных интеллектуалов, знаю, что в научном смысле нет такого понятия, как раса. Но вы, как фермер и скотовод, не можете успешно выводить породу, не имея концепции расы. И я, как политик, нуждаюсь в концепции, которая позволит упразднить порядок, до сих пор существовавший на исторической основе, и установить совершенный и новый антиисторический порядок и дать ему интеллектуальное обоснование... И для этой цели мне вполне подходит концепция расы... Франция вынесла свою великую революцию за пределы своих границ на концепции нации. С концепцией расы национал-социализм понесет революцию за пределы страны и переделает мир... Тогда мало что останется от националистских клише, и менее всего среди нас, немцев. Вместо того установится понимание между различными языковыми элементами одной большой правящей расы»120.
Коммунизм и «фашизм» имеют разное интеллектуальное происхождение: один уходит корнями в философию Просвещения, другой – в антипросветительскую культуру эпохи романтизма. Теоретически коммунизм рационален и конструктивен, «фашизм» – иррационален и деструктивен, почему коммунизм и был всегда гораздо привлекательней для интеллектуалов. На практике, однако, эти различия стираются. Тут и в самом деле «бытие определяет сознание», поскольку тоталитарные институты подчиняют себе идеологию и переиначивают ее по своему усмотрению. Как мы отмечали, оба движения используют идеи как пластичный инструмент, с помощью которого можно добиться от своих подданных послушания и создать видимость единства. В конце концов тоталитаризм ленинско-сталинского и гитлеровского режимов, при всем различии их происхождения, оказывается одинаково нигилистским и одинаково деструктивным.
Самым ярким подтверждением этого, пожалуй, следует признать восхищение тоталитарных диктаторов друг другом. Мы упоминали о высокой оценке, какую давал Ленину Муссолини, и о похвалах, которые он расточал Сталину, ставшему, по его мнению, «тайным фашистом». Гитлер признавался, что преклоняется перед «гением» Сталина: в разгар Второй мировой войны, когда его войска вели тяжелые бои с Красной Армией, Гитлер тешил себя фантазиями о соединении враждующих сил для совместной борьбы с западными демократиями. Он даже подумывал о назначении Сталина своим наместником в побежденной России121. Одно важное препятствие на пути к такому сотрудничеству – присутствие евреев в советском правительстве, – казалось, было вполне преодолимым в свете тех заверений, которые советский лидер дал гитлеровскому министру иностранных дел Риббентропу: как только у него появятся подходящие кадры, он уберет с командных постов всех евреев122. И Мао Цзэдун, самый радикальный коммунист, в свою очередь, восхищался Гитлером и его методами. Когда в разгар «культурной революции» раздались упреки в том, что он пожертвовал столькими жизнями своих товарищей, Мао ответил: «Посмотрите на Вторую мировую войну, на жестокость Гитлера. Чем больше жестокости, тем больше энтузиазма к революции»123.
Тоталитарные режимы правого и левого толка объединяют не только сходные политические философии и практика, но и одинаковая психология их основателей: их движущая сила – ненависть, а их выражение – насилие. Муссолини, самый откровенный из них, говорил, что насилие подобно «моральной терапии», поскольку вынуждает ясно осознать свои убеждения124. В этом, а также в решимости всеми средствами и любой ценой разрушить существующий мир, в котором они ощущают себя отщепенцами, и состоит их родство.
ГЛАВА 6
КУЛЬТУРА КАК ПРОПАГАНДА
«Но это и была цель всего предприятия: выдрать виды с корнем безвозвратно; ибо как еще можно построить новое общество? Вы начинаете не с фундамента и не с крыши, вы начинаете изготавливать новые кирпичи».
Иосиф Бродский1
Для большевиков социальная революция была немыслима без революции в культуре. Тема культурной революции привлекла к себе особенное внимание ученых как более благоприятная, чем мрачные описания нескончаемых репрессий и страданий, характеризующих этот период. В первое десятилетие большевики проявляли по отношению к творческой деятельности терпимость, какой не выказывали ни в экономике, ни в политике. Такая позиция кажется особенно поразительной в контексте суровости и грубости сталинской эпохи. Однако при ближайшем рассмотрении все новшества в литературе, искусстве и образовании, наблюдавшиеся в первые годы существования большевистского режима, оказываются лишь побочными аспектами культурной политики, с самого начала определявшейся чисто идеологическими соображениями. В самом понятии «культурная политика» кроется противоречие, поскольку собственно культура не может быть управляемой, и тем самым легко угадывается стоящая за этим цель, ради достижения которой большевики стремились подчинить себе культуру.
Таковой целью была пропаганда, то есть интеллектуальное и эмоциональное руководство. Ленин, как и его комиссар по делам культуры Луначарский, видел назначение всех советских культурных и образовательных институтов во внедрении коммунистической идеологии, призванной воспитать новую, совершенную породу людей. Литературе отводилась в этой схеме функция пропаганды; те же задачи возлагались и на изобразительное искусство, и на кино, и на театр, и прежде всего на систему образования. Ни одно правительство до сей поры не пыталось в такой степени влиять на мысли и чувства подданных.
Безусловно, пропаганда не была изобретением большевиков. Ее идея зародилась в начале XVII века, когда папство для распространения католичества создало Congregatio de Propaganda Fide. В секуляризованной форме к пропаганде часто прибегали правительства в XVIII и XIX вв.: ею весьма искусно пользовались и Екатерина II, и французские революционеры, и Наполеон. В период Первой мировой войны для ведения агрессивной пропаганды главные воюющие страны создавали специальные учреждения. Но до большевиков пропаганда никогда не занимала такого значительного места в жизни людей: если раньше она была призвана приукрасить или преподнести реальность в нужном ключе, то в Советской России она должна была полностью подменить собой действительность. Коммунистическая пропаганда стремилась создать – и, надо заметить, весьма успешно – в разительном противоречии с повседневным опытом вымышленный мир, в который должны были уверовать советские люди. Это стало возможным благодаря контролю коммунистической партии над источниками информации и общественным сознанием. Эксперимент проводился с таким размахом и с такой изобретательностью и рвением, что подчас иллюзорный мир, им созданный, затмевал для многих советских граждан живую реальность.
Первые шаги советской культуры обнаруживают удивительную двойственность. С одной стороны – дерзкое экспериментаторство и безграничная свобода творчества, с другой стороны – неустанное стремление поставить культуру на службу политическим интересам нового правящего класса. Хотя современные иностранные историки уделяют все свое внимание причудам творчества большевистских художников и их «попутчиков» – однотонным полотнам Александра Родченко, так и не воздвигнутым фантастическим небоскребам Татлина и его же планерам, приводимым в действие мускульной силой и никогда не отрывавшимся от земли, стильным моделям рабочей одежды, сконструированным Родченко и Любовью Поповой для голодающих рабочих и крестьян, – гораздо знаменательней был внешне малоприметный рост «культурной» бюрократии, для которой культура была лишь формой пропаганды, а пропаганда – высшей формой культуры.
Еще задолго до того, как Сталин пришел к власти и покончил с экспериментаторством, для свободного творчества уже ковались жесткие кандалы2.
Поскольку, согласно марксистскому учению, культура есть лишь побочный продукт экономических отношений, большевики считали само собой разумеющимся, что революционные преобразования, произведенные ими в сфере имущественных отношений, неизбежно повлекут соответствующие революционные преобразования и в культуре: Троцкий всего лишь следовал марксистской аксиоме, говоря, что «каждый господствующий класс создает свою культуру»3. И пролетариат не должен был составлять исключения из этого правила. Однако во взглядах на природу новой культуры и пути ее создания единого мнения у большевиков не было. Одним из поводов расхождений стал вопрос о свободе творчества. Многие большевики считали, что «работники культуры» обязаны подчиняться той же дисциплине, что и все другие члены коммунистического общества. Другие утверждали, что, поскольку творчество не поддается регламентации, творческим работникам нужно предоставить большую свободу. Отношение Ленина к этой проблеме было двойственным. В 1905 году он говорил о литературе как о деятельности, менее всего поддающейся «механическому равнению». Конечно, литература должна быть неразрывно связана с партией: в социалистическом обществе писатели должны состоять ее членами, а издательства подчиняться ей. Но, поскольку новую социалистическую литературу не создашь за сутки, писателям нужна свобода4. Однако тут же Ленин распространял понятие «партийности» на литературу. После революции 1905 года он заявлял, что «литература должна стать партийной»: «Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков!»5 И хотя Ленин проявлял по отношению к литературе и искусству гораздо большую терпимость, чем к иным сферам человеческой деятельности, поставленный перед выбором, он всегда становился на сторону тех, кто видел в литературе служанку политики.
Не меньше споров вызывал вопрос о содержании новой пролетарской культуры: должна ли она воспользоваться наследием «буржуазной культуры» и строить на ее основе свою или полностью отвергнуть прошлое и начать с нуля. Последний тезис отстаивали деятели Пролеткульта. Пользуясь покровительством Луначарского, возглавившего комиссариат просвещения, в первые два года новой власти, когда Ленин был занят более важными проблемами, пролеткультовцы главенствовали в культурной жизни. Но вскоре им пришлось уступить арену, ибо для Ленина культура означала нечто совсем иное: не столько литературное и художественное творчество, на которое, с его точки зрения, русский народ едва ли был способен, сколько новый образ жизни, озаренный научно-техническими знаниями: «Ленинская концепция "социалистической культурной революции" подчеркивала рационально-планирующие задачи новой революционной государственной власти, а также ведущую роль знания и неотложную задачу начального народного образования. Лишь когда будут заложены прочные основы, высшая культура станет доступной крестьянским и пролетарским массам, будут установлены культурные социальные отношения, и народ, обученный технике, претерпит перемену сознания. Согласно этой концепции, "культурная революция" означает не создание новой "пролетарской культуры", а освоение научных, технических и организационных методов преодоления отсталости страны и ее населения»6.
И хотя Троцкий выступал за менее утилитарное представление о культуре, он также отрицал философию Пролеткульта. Поскольку историческая миссия пролетариата – уничтожение всех классовых различий, его культура не может нести отпечатка какого-либо одного класса: рабочее государство должно произвести на свет «первую подлинно человеческую культуру»7. В конце концов Пролеткульт потерпел поражение. По причинам, которые мы рассмотрим ниже, его идеи были объявлены еретическими и его организации, влияние которых в период наивысшего расцвета соперничало в области искусства с влиянием самой Коммунистической партии, были распущены. Режим предпочел более эклектичный путь.
В вопросах организационных Ленин тяготел к крупным, величественным формам – гигантским учреждениям по модели капиталистических картелей, которые управляли бы всеми сферами человеческой деятельности. Так, Совнархоз должен был управлять всей промышленностью, Чека – всем, что касается безопасности, а Реввоенсовет всеми аспектами гражданской войны. Подобным образом он бюрократизировал и сконцентрировал управление культурой, подчинив ее единому учреждению – Наркомпросу. В отличие от соответствующего министерства в царской России, Наркомпрос отвечал не только за образование, но и за все грани интеллектуальной и эстетической жизни, включая и развлекательные учреждения – науку, литературу, печать, изобразительное искусство, музыку, театр и кино. Как было сформулировано в 1925 году, Наркомпрос «руководит научной, учебной и художественной деятельностью республики как общего, так и профессионального характера»8. Наркомпрос управлял издательским делом и вводил все более строгие цензурные нормы. В силу мягкости характера самого Луначарского, пока он заведовал Наркомпросом (смещен в 1929 году), эти функции исполнялись не слишком решительно, предоставляя служащим наркомата и всем, пользующимся его материальной поддержкой, сравнительную независимость, непредставимую в других правительственных департаментах.
Невдохновляющая деятельность наркомпроса не могла привлечь к нему истинные таланты, превратившись в уютное прибежище жен и родственников советских начальников9.
Но человеческие качества Луначарского были не единственной и не главной причиной не свойственного режиму благодушия по отношению к интеллектуальной элите нации. Невозможно было закрывать глаза на тот факт, что буквально вся интеллигенция, и профессиональная и «творческая», отрицали большевистскую диктатуру. Интеллигенция первой в царской России освободила себя от всеобщего долга служения государству10. Какие бы грехи ни лежали на совести интеллигенции, но она искренне верила в свободу и, насладившись целым столетием независимости, не желала идти в услужение к государству. Большинство русских писателей, художников и ученых, каждый в отдельности и все вместе, отвернулись от новых правителей, отказываясь работать на них, находя убежище либо в эмиграции, либо в частной жизни. Молодой Владимир Набоков в статье, появившейся в эмигрантской газете по поводу 10-й годовщины революции, выразил мнение многих: «Я презираю не человека, не рабочего Сидорова, честного члена какой-нибудь Ком-пом-пом, а ту уродливую, тупую идею, которая превращает русских простаков в коммунистических простофиль, которая превращает людей в муравьев, новую разновидность formica marxi, var. lenini... Я презираю коммунистическую веру как идею низкого равенства, как скучную страницу в праздничной истории человечества, как отрицание земных и неземных красот, как нечто, глупо посягающее на мое свободное я, как поощрительницу невежества, тупости и самодовольства»11.
О том, насколько непривлекателен был новый режим для «творческой интеллигенции», можно судить по тому факту, что, когда в ноябре 1917 года, через несколько дней после переворота, большевистский ЦИК пригласил петроградских писателей и художников на встречу, пришло только семь или восемь человек. Та же участь постигла Луначарского в декабре 1917 года, когда из 150 приглашенных – самых выдающихся представителей интеллигенции – явилось 5 человек, среди них двое симпатизирующих – поэт Владимир Маяковский и театральный режиссер Всеволод Мейерхольд, да еще мятущийся Александр Блок12. Луначарскому пришлось буквально умолять студентов и преподавателей прекратить бойкот новой власти13. Максим Горький был единственным всенародно известным писателем, сотрудничавшим с большевиками, но и он подвергал их уничтожающей критике, которую Ленин предпочитал не замечать, вынужденный дорожить поддержкой писателя. Книга Троцкого «Литература и революция», написанная в 1924 году, обливает презрением и ненавистью русскую интеллигенцию за то, что она отвергает большевистский режим. Взбешенный их нежеланием влиться в русло нового искусства, Троцкий высмеивает «ретроградное тупоумие профессиональной интеллигенции» и объявляет, что Октябрьская революция обнажила их «невозвратный провал»14. Со временем многие интеллигенты примирились с властью, подчас лишь ради того, чтобы избежать голодной смерти, но и их можно считать в лучшем случае лишь подневольными сотрудниками власти. Те представители «творческой интеллигенции», кого властям удалось привлечь на свою сторону, были по большей части эпигонами и поденщиками, не способными на самобытное творчество, и точно так же, как посредственности в нацистской Германии, они устремились в правящую партию, ища ее высокого покровительства. Политика сравнительной терпимости в сфере культуры помогла по крайней мере нейтрализовать остальных. Ленин, относившийся к русской интеллигенции с не меньшим презрением, чем Николай II, полагал, что может купить ее за небольшую долю свободы и некоторые материальные блага.