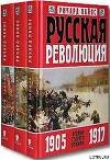Текст книги "Русская революция. Россия под большевиками. 1918-1924"
Автор книги: Пайпс
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 52 страниц)
Говоря об антиреволюционном духе западноевропейских рабочих, следует принимать во внимание, что в развитых промышленных странах им было доступно социальное обеспечение, придававшее ощущение устойчивости их положению.
В Германии после прихода «государственного социализма» Бисмарка рабочим гарантировалось пособие по болезни и при несчастном случае, пенсия по старости и нетрудоспособности. В Англии страхование на случай безработицы было введено в 1905 г., пенсии по старости – в 1908-м. Закон о государственном страховании, принятый в 1911-м, предусматривал обязательные льготы для малообеспеченных рабочих за счет правительственных отчислений, средств нанимателей и рабочей кассы, в которые входили медицинское обслуживание и пособие по безработице. Рабочие, получавшие подобную поддержку от государства, не проявляли готовности его свергнуть и рискнуть сменить уже полученные ими от «капитализма» льготы на возможно более щедрые, но гораздо менее безусловные блага социализма. Большевики не принимали во внимание этого обстоятельства, поскольку в дореволюционной России не существовало ничего подобного.
Анализ коммунистического движения в Европе показывает, что в течение первого года после Второго конгресса Коминтерна были достигнуты значительные успехи. К концу 1920 г. коммунистам удалось, по крайней мере формально, прибрать к рукам большую часть Итальянской социалистической партии, более половины состава Французской. У них оказалось много последователей в Германии, Чехословакии, Румынии, Болгарии и Польше95. Все соответствующие партии приняли 21 условие и предоставили себя таким образом в распоряжение Москвы. Если бы Ленин проявил большее уважение к европейской традиции политического компромисса и национализма, влияние Коммунистического Интернационала очень сильно бы возросло. Но он был привычен к российским традициям, где жесткое управление решало все, а патриотизм – ничего. Бестактное вмешательство Ленина во внутренние дела европейских коммунистических партий, склонность прибегать к интригам и клевете в каждом случае, когда с ним осмеливались не согласиться, вскоре заставили отвернуться от него самых идеалистических, самых преданных последователей. Их место заняли оппортунисты и карьеристы – ибо кто еще согласился бы работать по правилам, навязанным Москвой, когда самостоятельность мышления и следование голосу совести расценивались как измена?
Еще одним фактором, послужившим деградации коминтерновских деятелей, явились деньги. Анжелика Балабанова изумлялась тому, с какой легкостью Ленин готов был тратить столько, сколько требовалось, чтобы купить последователей и их поддержку. Когда она сообщила ему о своих сомнениях, он ответил: «Умоляю Вас, не экономьте. Тратьте миллионы, много, много миллионов»96. Деньги, вырученные от продажи российского золота и царских драгоценностей, окольными путями, с помощью спецкурьеров и советских дипломатических агентов, доставлялись западным коммунистическим партиям и «попутчикам»*. Как еще будет сказано, в 1920 г. в Англию двумя советскими дипломатами, Красиным и Каменевым, были ввезены десятки тысяч фунтов стерлингов, предназначенных для финансирования дружественной левой газеты и разжигания волнений среди промышленных рабочих. Москва использовала и другие каналы, многие из которых остаются неизвестными и по сей день. Есть сведения, однако, что в Англии одним из агентов при перевозке денег служил Федор Ротштейн, гражданин Советской России и впоследствии ее посланник в Иране, а также главный агент Коминтерна в этой стране, лично передававший кремлевские деньги британским коммунистам97. После 1921 г., когда Москва установила торговые отношения с западными странами, советские торговые представительства стали служить дополнительными каналами для перекачивания средств. Операции производились под большим секретом, и мы мало о них знаем, но, судя по всему, практически все компартии и многие прокоммунистические группы кормились от московских щедрот: по мнению французского коммуниста, только его партия не жила «московской манной»98. Заявление это подтверждается внутренним финансовым отчетом Коминтерна, согласно которому денежные субсидии в российской и иностранной валюте, а также «ценности» (в основном золото и платина), щедро раздавались в 1919 и 1920 гг. коммунистическим партиям Чехословакии, Венгрии, США, Германии, Швеции, Англии и Финляндии**. Субсидии обеспечивали Москве контроль над соратниками в Европе; в то же время они приводили к тому, что качество руководства этими партиями ухудшалось.
* Центральная фигура среди американских коммунистов, Луис Фрайна, признавался, что получил в Москве 50 000 долларов, из которых 20 000 долларов или больше передал английскому коммунисту Джону Мерфи (см.: Draper T. Roots of American Communism. New York, 1957. P. 294). Фрайна являлся редактором начавшего выходить в США в 1919 г. журнала «The Revolutionary Age», где восхвалялись Ленин и Троцкий; возможно, часть денег шла на это издание.
** Документ представляет собой две страницы написанного от руки текста, с конца 1920-х хранится в РЦХИДНИ (Ф. 495. Оп. 82. Д. 1. Л. 10). Просьбу финских коммунистов прислать 10 млн. финских марок в золоте, платине и прочих драгоценностях с личной резолюцией Ленина см. также: РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1299.
Одной из причин той наглости и жестокости, с которой Москва обращалась со своими западными последователями, было убеждение, что революция в Европе надвигается и что только методы, применявшиеся в России, принесут успех. «Большевики просто считали, что партии не полностью коммунистические могут последовать примеру колеблющихся, и это помешает им воспользоваться революционной возможностью взять власть, как это сделали большевики в 1917-м, установить советскую диктатуру пролетариата»99. Это великодушное объяснение. Лицо не менее авторитетное, Анжелика Балабанова, считала, что за подобным поведением лежит иной мотив, а именно желание достичь власти. Размышляя над поведением своих русских соратников, она неохотно приходит к выводу, что ими движет не забота о пользе дела, а стремление доминировать в европейском социалистическом движении. Враждебность Зиновьева в отношении к Серрати и настойчивость, с какой тот добивался изгнания последнего, заставляет ее думать, что «целью являлось не истребление правых элементов, но устранение самых влиятельных, самых видных членов [движения], чтобы проще было манипулировать оставшимися. Для того чтобы подобная манипуляция стала возможной, всегда следует иметь две группы, которые можно натравливать друг на друга»100. Мстительность, с какой Ленин добивался раскола западного социалистического движения и изгнания из Коминтерна деятелей, имевших наибольшее число сторонников, оставляя послушных прихлебателей, говорит она, исходила непосредственно из желания установить гегемонию Москвы – то есть его, Ленина, – над западными социалистическими партиями. Подозрение подкрепляется письмом, написанным Сталиным в 1924 г. коммунистическому немецкому издателю: «Победа германского пролетариата несомненно переместит центр мировой революции из Москвы в Берлин»101.
Поскольку все попытки российских коммунистов воспользоваться революционной ситуацией в Европе окончились провалом, единственным наследием ленинской стратегии стали попытки расколоть и, таким образом, ослабить социалистическое движение. Это позволило, в свою очередь, радикальным националистам в нескольких странах, особенно в Италии и Германии, сокрушить социалистов и установить тоталитарные диктатуры, при которых коммунистические партии оказались вне закона и которые обратились против Советского Союза. Так в конце концов ленинская политика привела к тому, чего он больше всего хотел избежать.
* * *
Основное внимание Коминтерн уделял развитым промышленным странам, однако интересовался и колониями. Работа Д.А.Гобсона «Империализм» (1902) задолго до революции убедила Ленина, что колониальные владения имеют большое значение для развитого, или «финансового», капитализма, который смог выжить только потому, что колонии снабжали его дешевым сырьем и предоставляли ему дополнительные рынки сбыта готовой продукции. В книге «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916) Ленин развивает мысль, что этот экономический строй не смог бы выжить без колоний, поскольку на получаемую оттуда прибыль он «подкупает» рабочих. Вот почему «национально-освободительное движение» в этих регионах может ударить по самому чувствительному месту.
Непосредственно после захвата власти большевики выпустили пламенные воззвания к «народам Востока», побуждая их восстать против чужеземных хозяев. Коммунисты из мусульманских районов Советской России, горстка секуляризированной интеллигенции, оказались задействованными в качестве посредников. Обращаясь к съезду коммунистов мусульманских республик, собравшемуся в Москве в ноябре 1918-го, Сталин говорил: «Никто не мог бы перекинуть мост между Западом и Востоком так легко и быстро, как вы. Ибо для вас открыты двери Персии и Индии, Афганистана и Китая»102.
Проблема с подготовкой почвы для марксистской революции на Востоке (под этим подразумевались Ближний Восток, Дальний Восток и даже то, что впоследствии стало называться «Третьим миром») состояла в отсутствии там промышленного рабочего класса. Чтобы приспособиться к этому обстоятельству, Ленин обратился в Коминтерн с просьбой принять колониальную программу, построенную на двух посылках: 1) колонии могут перескочить этап капиталистического развития и перейти сразу от «феодализма» к «социализму» и 2) ввиду малочисленности революционного элемента на Востоке ему следует выступать объединенным фронтом совместно с национальными «буржуазными националистами» против империалистов.
Вторая идея мало понравилась радикальной интеллигенции из колониальных регионов, поскольку для них национальная «буржуазия» казалась ничем не лучше завоевателей-империалистов. По этому вопросу разразились едкие дебаты на Втором конгрессе Коминтерна103. Первоначальные тезисы Ленина гласили, что «Коммунистический Интернационал должен идти во временном союзе с буржуазной демократией колоний и отсталых стран, но не сливаться с ней и безусловно охранять самостоятельность пролетарского движения даже в самой зачаточной его форме»104. Российские социал-демократы приняли подобную двойственную политическую установку с легкостью, поскольку проводили ее в отношении собственной «буржуазии» еще с 1890-х. Делегаты из Азии, однако, нашли ее неприемлемой. Выступавший от их имени индус М.Н.Рой требовал, чтобы коммунисты вступали в антиимпериалистическую борьбу единолично, рассматривая и зарубежных империалистов, и национальную буржуазию как общего врага. Коммунистов из Азии было так мало, что Ленин с готовностью проявлял по отношению к ним большую терпимость, нежели к делегатам с Запада, поэтому он согласился внести небольшие изменения в формулировку своих тезисов. Однако в том, что касалось принципиальных вопросов, он не шел ни на какие уступки. Основное внимание должно быть направлено на крестьянство, но одновременно, настаивал Ленин, коммунистическим партиям колониальных стран следует «активно поддерживать освободительные движения». Он хотел, чтобы коммунисты «особенно бережно и внимательно относились к национальным чувствам, какими бы отсталыми те ни были, в тех странах и у тех народов, которые долго находились в рабстве», и «вступали во временное сотрудничество с революционным движением колоний и отсталых стран, даже заключали союз... однако никогда не сливались с ними»105.
Для содействия революции в колониях советское руководство созвало в сентябре 1920 г. в Баку Съезд народов Востока, на который прибыло 2000 делегатов – коммунистов и сочувствующих – из Советской Азии и зарубежных азиатских стран. Когда Зиновьев призвал к джихаду против «империализма» и «капитализма», объединенные неистовым вдохновением делегаты стали махать в воздухе саблями, кинжалами и револьверами. Съезд этот не имел никакого продолжения, и весьма трудно уяснить, каковы были плоды его работы106.
Практические трудности осуществления коминтерновской тактики сотрудничества с «буржуазными» националистическими движениями не замедлили выйти на поверхность в отношениях Советской России с Турцией. Сразу после капитуляции последней в ноябре 1918 г. войска союзников заняли ее столицу, Константинополь. Интервенция породила движение национального освобождения, которое возглавил Кемаль Паша (Ататюрк), сформировавший в сентябре 1919 г. в Анатолии повстанческое правительство. Кемаль был преисполнен решимости изгнать иностранные армии со своей земли и, поскольку силы его оказались невелики, стал искать сближения с Советской Россией. 26 апреля 1920 г., через три дня после того, как он провозгласил себя президентом Турецкой республики, Кемаль предложил Москве совместно бороться против «империалистов»107. Плодами этой инициативы в виде нейтралитета, которого придерживалась Турция, воспользовалась Красная Армия, когда завоевывала одну за другой и присоединяла к РСФСР республики Азербайджан, Армению и Грузию. Турцию Москва вознаградила, отдав Кемалю незначительные армянские территории (Каре и Ардаган). 16 марта 1921 г. был подписан советско-турецкий Договор о дружбе, где говорилось, что две страны впредь ведут совместную войну против «империализма»108.
Казалось, оформление такого сотрудничества доказывает правильность ленинской колониальной стратегии. Однако возникла большая проблема: в то время как Кемаль любыми средствами изыскивал возможность заручиться поддержкой Москвы в его борьбе против Запада, он не собирался терпеть коммунистов на собственной территории. Немногочисленную Компартию Турции возглавлял Мустафа Субхи, член Коминтерна и председатель Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока. Субхи был послан из Москвы в Турцию в ноябре 1920 г., чтобы взять на себя заботы о здешней компартии, возникшей в начале того же года. Через два месяца он и пятнадцать его товарищей были найдены убитыми при обстоятельствах, намекавших на ответственность за происшедшее правительства Кемаля. Советские власти и ИККИ осудили злодеяние, но не пожелали, чтобы инцидент отразился на взаимоотношениях правительств двух стран109. В этом случае, как и во всех остальных, интересы РКП(б) и советского государства возобладали над интересами зарубежной компартии. Кемаль создал государство, в котором Республиканская народная партия стала единственной легальной политической организацией в стране, и Национальная ассамблея оказалась заполнена исключительно ее представителями (1923—1925). Сам он стал первым в череде национальных диктаторов, принимающих коммунистическую модель однопартийного государства, но отказывающихся от коммунистической идеологии110.
Москва не оставила попыток экспортировать коммунизм в страны Третьего мира и пользовалась любой возможностью, чтобы создавать фиктивные «советские республики» возле их границ, рассматривая их как «окна» для проникновения на смежные территории. Так, например, в Гилане, в северозападной Персии, она поддержала националистическое, но «прогрессивное» движение, возглавлявшееся Мирзой Кучук Ханом, восставшим против Тегерана. В мае 1920 г. советские войска под командованием Ф.Ф.Раскольникова, некогда предводителя кронштадтских большевиков, оккупировали столицу провинции Решт и объявили Гилан советской республикой. Кучук Хан обменялся приветствиями с Лениным и Троцким; советская пресса с энтузиазмом расписывала новые победы коммунизма на Востоке. Тем не менее, когда Москве вскоре пришлось делать выбор между марионеточным режимом в Гилане и правительством Персии, она не задумываясь пожертвовала Кучук Ханом. В феврале 1921 г. Москва и Тегеран подписали Договор о дружбе, согласно которому России пришлось вывести свои войска с территории Персии. Как только Красная Армия вышла из Гилана (это произошло в сентябре 1921 г.), его заняли персидские войска и авантюре был положен конец. Кучук Хана повесили111. Последний опыт убедил Сталина, одной из обязанностей которого было присматривать за делами на Ближнем Востоке, что коммунистическая революция в бывших колониях нереальна. «В Персии, – писал он Ленину, – возможна лишь буржуазная революция, опирающаяся на средние классы, с лозунгом: изгнание англичан из Персии... соответствующие указания даны иранским коммунистам»112.
Успех сопутствовал Москве на Дальнем Востоке. Воспользовавшись слабостью Китая и незаинтересованностью остальных стран в Монголии, этой отсталой и удаленной стране, она учредила там в ноябре 1921 г. марионеточную республику Внешняя Монголия. В результате этого завоевания Россия получила удобный плацдарм для продвижения дальше, в Китай. Присваивая принадлежащие Китаю территории, Москва не забывала оказывать знаки внимания его правительству. В октябре 1920 г. в Россию прибыла дипломатическая миссия из Пекина, и Ленин сказал ее руководителю генералу Чжан Сылину, что «революция в Китае... вызовет неотвратимый крах мирового империализма». Генерал в ответной речи выразил уверенность в том, что «принципы истины и справедливости, провозглашенные советской властью, не могут исчезнуть, и рано или поздно они восторжествуют»113. Затем он заявил, что надеется увидеть Ленина президентом Мировой республики. Сближение между двумя странами было приостановлено протестами, вызванными у Китая советской оккупацией Внешней Монголии, а также заявлением Советов, будто Китай проводит в Монголии «империалистическую политику»114.
* * *
Если бы России в ее внешнеполитических предприятиях приходилось опираться только на коммунистов, перспективы ее были бы невелики: весной 1919 г., когда создавался Коминтерн, в Англии можно было отыскать больше вегетарианцев, а в Швеции – нудистов, чем коммунистов. К 1920– 1921 гг. число сторонников Третьего Интернационала за рубежом значительно возросло, но и тогда их было слишком мало, чтобы говорить о каком-то их влиянии на политику других государств в отношении России. Успехами за рубежом, особенно на Западе, которыми Москва могла бы похвалиться в начале 1920-х, она была обязана в основном либералам и «попутчикам», тем людям, которые оказывались готовы поддержать советское правительство, не вступая в рады коммунистов. В то время как либералы отвергали и теорию, и практику большевизма, соглашаясь с некоторыми моментами в них, попутчики положительно оценивали его как феномен, однако не хотели ограничивать себя строгой партийной дисциплиной. И те, и другие оказывали Советской России бесценные услуги во время, когда она, изолированная ото всех, противостояла остальному миру.
Связь между либерализмом и революционным социализмом была проанализирована в главе о русской интеллигенции115. Связь эта основывается на общей для обеих идеологий вере, будто человечество сформировалось и продолжает формироваться исключительно путем сенсорного восприятия (то есть не имеет заведомо присущих ему идей и ценностей), а потому может достичь морального совершенства только вследствие преображения окружающей его действительности. Расхождения начинаются при обсуждении средств достижения этой цели: либералы предпочитают добиваться желаемого результата постепенно, мирным путем, через реформу законодательства и образования, в то время как радикалы предпочитают скорое и насильственное разрушение существующего порядка. При этом психологически либералы занимают охранительную позицию в отношении собственно радикалов, поскольку те более откровенны и готовы идти на риск – либералам никак не удается избавиться от чувства вины, возникающего оттого, что они только говорят, в то время как радикалы действуют. Либералы, следовательно, предрасположены к тому, чтобы защищать и отстаивать революционный радикализм, а при необходимости и помогать ему, даже если они и отвергают методы последнего. Подобное отношение западных либералов к коммунистической России не сильно отличалось от отношения российских социал-демократов к большевикам до и после 1917-го – ему сопутствовала некая интеллектуальная и эмоциональная «шизофрения», сыгравшая такую большую роль в ленинском триумфе. Русские социалисты в эмиграции закрепили эту установку. Призывая западных социалистов осудить «террористическую диктатуру» Компартии, они тем не менее настаивали, что «долгом рабочих всего мира» было «отдать все свои силы борьбе против попыток империалистических держав вмешаться во внутренние дела России»116.
Подавляющее большинство тех, кто говорил от имени западных либералов и попутчиков, принадлежали к интеллигенции. Несмотря на все его отталкивающие черты, большевистский режим импонировал им, поскольку являлся первым со времен Французской революции правительством, отдавшим власть людям их сословия. В Советской России интеллигенция могла экспроприировать собственность капиталистов, казнить политических противников, выступать против реакционной мысли. Не имевшие опыта власти, интеллектуалы выказывали тенденцию чудовищно переоценивать ее возможности. Наблюдая за коммунистами и попутчиками, съезжавшимися в Москву в 1920-х, несмотря на нищенские условия жизни и круглосуточную слежку, которой их там подвергали, американский журналист Юджин Льонс писал: «Только что выбравшиеся из городов, где их презирали и преследовали, они впервые подступили к источнику власти, и хмель ударил им в голову. Это была не призрачная власть руководства гонимой подпольной революционной партией, но – заметьте! – власть, воплощенная в армиях, самолетах, полиции, беспрекословном подчинении простого люда, власть, выливающаяся в прозрение о грядущем мировом господстве. Сбросив с себя и риск, и ответственность, отягощавшие дома их труды, они востребовали должностей, карьеры, привилегий, и их аппетиты не знали ни меры, ни закона... Человек, не имевший отношения к революционному движению в собственной стране, не может понять того всеобъемлющего возбуждения, с которым западный радикал воспринимает реалии установленного и действующего пролетарского режима. Или вдохновения, с каким он наконец встает лицом к лицу со знаками и символами этого режима. Это что-то вроде самоосуществления, пьянящего отождествления со Властью. Фразы, и картины, и краски, мелодии и повороты мысли, соединявшиеся в моем сознании с годами пылкого упования, даже самопожертвования, теперь окружали меня повсюду, им отводилось почетное место, они преобладали над остальным, обладали бесконечной властью!»117.
Уверенные в своих способностях управлять делами лучше, чем политики и предприниматели, они идентифицировались с советскими властями, даже критикуя их, стремясь удвоить и улучшить достигнутое ими. Какие бы ошибки ни совершали Ленин, Троцкий, Зиновьев, Радек или другие комиссары – с ними у этих людей складывались отношения, каких они никогда не могли бы установить с Клемансо, Вильсоном и Ллойд Джорджем. Именно это ощущение личной причастности заставляло многих западных интеллектуалов симпатизировать российскому коммунизму, игнорируя, сводя на нет или оправдывая его неудачи, и оказывать давление на свои правительства, пытаясь принудить с ним договориться.
Большевикам потребовалось некоторое время, чтобы осознать всю пользу либералов и попутчиков. Посетителям, приезжавшим в Москву из западных стран с дружественными намерениями, приходилось преодолевать непонимание Лениным ситуации, сложившейся в послевоенной Европе, его глубоко укорененное недоверие к либералам, пытаясь убедить его, что во многих странах, включая Англию, они, а не коммунисты, могут много сделать для России. Они были правы. В то время как коммунисты устраивали бессмысленные путчи, либералы помогали предотвратить военную интервенцию и экономические эмбарго против Советов, прокладывали путь к торговым и дипломатическим соглашениям с ними.
Примеры могут проиллюстрировать тогдашние умонастроения западных либералов лучше, чем любые обобщения*. Мы уже говорили о том, насколько решительно Лейбористская партия Британии и съезд тред-юнионов пресекли попытку компартии вступить в их ряды. В 1920 г. лейбористская партия и съезд тред-юнионов направили в Советскую Россию миссию для сбора фактов. Желая обеспечить такое положение дел, при котором иностранные гости смогут вынести благоприятные впечатления от визита, но не сумеют заразить российских рабочих тред-юнионистскими идеями, Ленин отдал ЦК распоряжение выработать соответствующие инструкции. Советской прессе надлежало организовать систематическую кампанию по «разоблачению» гостей как «социал-предателей, меньшевиков, участников английского колониального грабежа и пр.», следовало также подобрать рабочих, которые стали бы задавать гостям «острые вопросы». Травля должна была быть организована в «архивежливых» формах. Прибывших британцев внешне, в целом, принимали хорошо, однако им не предоставлялось возможности ознакомиться с истинными чувствами русских рабочих, поскольку, опять же по ленинскому приказу, их постоянно сопровождали специальные «надежные» переводчики118.
* В данном случае мы называем либералами социалистов-демократов.
Среди членов делегации находилась Этель Сноуден, жена видного лейбориста и член левой фракции Международной лейбористской партии. Умная, одаренная острой наблюдательностью женщина, она твердо вознамерилась узнать правду. Подобно своему мужу и немногим среди британских социалистов и тред-юнионистов, она не симпатизировала коммунистической идеологии, октябрьскому перевороту и большевистской диктатуре. Госпожа Сноуден увидела изнанку советской жизни: бесправие, террор, социальное неравенство, мнимую демократию. Встреча с Лениным не изменила ее мнения: он произвел впечатление жестокого фанатика, «догматичного профессора политологии». Из России она выехала, преисполненная теплых чувств к народу, но для коммунистов в ее записках не нашлось доброго слова. Книгу, которую Этель Сноуден выпустила по возвращении в Англию, в Москве сочли враждебной119. И тем не менее... посреди уничтожающего описания коммунистического разгула мы встречаем апологию, идущую не от ума, а от сердца, поскольку она никак не связана с теми фактами и наблюдениями, на которые опирается все повествование: «Местоположение правительства – Москва. Это дом комиссаров. Это арена, на которой разворачивается удивительнейший эксперимент, какого еще не знал современный мир. Это место, куда приковано внимание всего дивящегося мира. Это точка опоры потрясающих мир событий. И она заслуживает того, чтобы к ней относились с уважением, а не с тем невежественным презрением, которое изливают на нее глупцы. Здесь совершались ошибки, здесь творятся жестокие дела; однако ошибки эти не больше, а жестокость не чудовищнее, чем ошибки и жестокости, творимые и совершаемые в других столицах людьми, которые, если оценить их характер, цельность, способности и личные дарования, не достойны завязать шнурки на ботинках лучших мужчин и женщин Москвы»120. Автор сумела убедить себя – возможно, не без помощи хозяев столицы, – что многие, если не практически все, отталкивающие стороны коммунистической жизни явились следствием враждебного отношения Запада к Советской России. Если Запад перестанет вмешиваться во внутренние дела этой страны и будет помогать ей продовольствием, одеждой, медикаментами, техникой – всем, в чем она так отчаянно нуждается, – Россия превратится в то, чем «ей суждено было стать еще при основании мира – великим вождем гуманитарных движений на планете»121.
Составленный британской делегацией официальный отчет грешит той же противоречивостью. Его авторам попалось на глаза меньше материала для критики, чем госпоже Сноуден, и то, что им не понравилось, они отнесли непосредственно к наследию царизма и следствиям враждебного отношения со стороны союзных держав. Россия, объясняется в отчете, просто еще не доросла до демократии: «Можно ли при имеющихся обстоятельствах управлять Россией иначе – стоит ли, в частности, ожидать, что здесь возможен нормальный демократический процесс, – на этот вопрос, нам кажется, мы не способны ответить с полной компетентностью. Насколько нам известно, не имеется никакой практической альтернативы, кроме фактического возврата к самодержавию; "сильное" правительство – это единственный тип управления, с которым знакома Россия; когда же к власти в 1917 г. пришли противники советского правительства, они начали репрессии против коммунистов... У русской революции не было еще шанса показать себя. Мы не можем сказать, стал ли бы успешным этот частный социалистический эксперимент в нормальных условиях или потерпел поражение. Сложившиеся здесь условия оказались таковы, что сделали задачу социальных преобразований необычайно трудной, кто бы ни брался за ее решение и какие бы средства ни привлекались. Мы не можем закрыть глаза на то, что ответственность за создание подобных условий, следствия иностранного вмешательства, лежит не на русских коммунистах, но на капиталистических правительствах других стран, включая и нашу»122. В заключение высказывалась мысль, что ввиду переживаемых Советской Россией внутренних трудностей она не может представлять собой серьезную угрозу для Запада*.
* Во время визита в Советскую Россию британская делегация потребовала устроить ей встречу с социалистической оппозицией. На организованном хозяевами мероприятии сильное впечатление произвело появление Виктора Чернова: он в течение длительного времени прятался от ЧК и буквально умирал от голода. Очевидцы рассказывают, что он заклеймил большевиков как «растлителей революции и заявил, что их тирания хуже царской» (Berkman A. The Bolshevik Myth. London, 1925. P. 150; Snowden P. Through Bolshevik Russia. London, 1920. P. 160). Британская делегация расценила появление Чернова на встрече как мужественный поступок, однако его критика коммунистов не произвела на нее большого впечатления. После встречи Чернову снова удалось скрыться от ЧК, вследствие чего его жену и 11 -летнего ребенка посадили в тюрьму как заложников (Braunthal J. History of the International. New York, 1967. Vol. 2. P. 223).
Не так уж отличались от этого и выводы, сделанные Гербертом Уэллсом, автором «Машины времени», пылким прозелитом научной утопии, посетившим Россию по приглашению Льва Каменева в сентябре 1920 г. Писателя потрясло жалкое состояние Петрограда, который он помнил еще Петербургом, живым и элегантным. Под властью большевиков, решил он, Россия «понесла чудовищный невосполнимый урон»123. Хотя Уэллс не мог сказать ничего хорошего о социалистической доктрине – Маркс, по его словам, был «занудой самого экстремистского толка», а «Капитал» – «памятником претенциозного педантизма», у него тем не менее возникло ощущение, будто в том, что он для себя назвал «величайшим крахом в истории», нельзя винить большевиков. Коммунизм, рассуждал Уэллс, стал результатом разрухи; ее же причиной являлись империализм и упадок царской России: «Россия впала в свое теперешнее убожество вследствие мировой войны и из-за моральной и интеллектуальной ограниченности правящих и состоятельных классов... Коммунистическая партия, как бы критически мы к ней ни относились, воплощает идею, и можно быть уверенным, что она от этой идеи не отступится. До сих пор она оставалась морально выше всех, кто когда-либо выступал против нее»124. Занимавшие антибольшевистскую позицию русские эмигранты казались Уэллсу «политиканствующими презренными» распространителями не заслуживающих доверия «бесконечных историй о „бесчинствах большевиков“». Несмотря на то, что знакомые в России предупреждали писателя не принимать на веру того, что ему говорят, он вернулся на родину в убеждении, будто «лучшая часть образованного населения России... постепенно вступает, хотя и неохотно, в честное сотрудничество с большевистским режимом»125. Он рекомендовал дипломатически признать коммунистическое правительство и гарантировать ему экономическую помощь – ту «полезную интервенцию», которая, безусловно, умерит эксцессы советской власти. Как и в случае госпожи Сноуден, в какой-то момент объективность наблюдателя была забыта, а на первый план вышли оценки и рекомендации, основанные исключительно на вере.