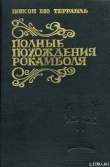Текст книги "Садовница"
Автор книги: Аномалия
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
– Вы грустите, – нарушил молчание юноша через несколько десятков шагов. – Вас что-то печалит… Скажите, вы тоже не любите воскресенья?
– Почему? – заставила себя вяло поинтересоваться девушка, глядя под ноги.
– Потому что это праздник, а вслед за ним всегда случаются будни – серые и гладкие, похожие на холодные булыжники, из которых свили ожерелье и повесили на шею…
– С чего это вы взяли, что мне грустно? – довольно-таки резко осведомилась девушка. – Может, мне, напротив, очень весело, а вы мне как раз веселиться мешаете!
Себастьян смешался. Его глаза тут же стали сдавленными и побитыми.
– Извините, – сказал он глухо. – Я правда не хотел… Наверное, это оттого, что у меня самого не слишком весело на душе, вот и вообразил себе невесть что…
Эрле нашла в себе силы примиряюще улыбнуться.
– Это ты извини. Просто у меня сейчас не очень хорошее настроение, и мне не хочется, чтобы меня утешали.
– О-о… – протянул Себастьян расстроенно, и его лицо стало таким огорченным, что девушка сделала над собой усилие и заговорила с ним еще мягче:
– Да, наверное, ты прав. Я и в самом деле не люблю праздники.
Юноша криво улыбнулся.
– У праздников, как и у любого обмана, есть одно положительное качество: иногда они заканчиваются.
Они помолчали еще несколько десятков шагов. Длинные черные тени двигались по снегу впереди них, тонкие и целеустремленные, как взявшие след собаки. Под ногами хрустел лежалый снег, параллельно стене двухэтажного заставенного дома по нему вышагивала какая-то птица. Эрле показалось, что это голубь, она сморгнула – и птица оказалась облезлой вороной с встопорщенными перьями на затылке, похожими на костяной гребень дракона.
– Смотри! – тихо воскликнул Себастьян, коснувшись руки Эрле. Она недовольно поморщилась – его ледяные пальцы обжигали даже сквозь ткань пелерины.
– Что? – спросила она, выражая голосом заинтересованность.
– Вон там! Ты видишь? – он возбужденно тыкал пальцем куда-то вправо и вверх. – Нет, ну ты видишь?!
– Ничего не вижу, – призналась Эрле, честно прищурившись на небо в указанном направлении. – Ну, дом, ну, крыша, ну, сосульки висят… упасть, наверное, собираются… так не на нас же, мы туда не пойдем…
– Да нет, я не про то! – Себастьян чуть не плакал с досады. – Неужели ты совсем-совсем ничего не замечаешь?!
Эрле промолчала.
– Они всегда не замечают, – сказал он шепотом. – Не… не пугайся, все ничего, это я один такой… ненормальный…
– Что ты завтра делаешь? – неожиданно и мягко спросила Эрле. Слова ее застали юношу врасплох.
– Я?..
– Ты когда-нибудь обращал внимание на ивы около Ранницкого Университета? – продолжала она неторопливо, делая вид, что не расслышала его последнего вопроса. – Нет? Зря, зря… Хочешь, завтра туда сходим?
– Не надо меня жалеть. – Себастьян остановился, настойчиво взглянул ей в глаза – она едва выдержала, потом нагнулся, зацепил голой рукой горсть снега и сильно сжал пальцы – ногти впились в мякоть ладони, снег начал таять. Долго смотрел на руку, дожидаясь, пока она не закоченеет, с видимым усилием разжал пальцы. На ладони все еще оставалось немного нерастаявшего снега, он безразлично уронил его, придавил носком сапога и брезгливо отер руку полой плаща.
– Жалеть? А что это такое? – приподняв одну бровь, полупрезрительно обронила Эрле, и Себастьян хмуро улыбнулся в ответ.
…Девушка доставала из-под ширмы кожаный наперсток, который ухитрился туда загнать хулиганистый Муркель, и нечаянно стукнулась головой о край подоконника. Потирая ушиб над бровью, поднялась на ноги, случайно глянула в окно – и обомлела. Наконец-то она увидела то, что безуспешно пытался показать ей Себастьян.
Над миром стояла золотая радуга. Один ее конец уходил в крышу соседнего дома, а другой – куда-то далеко, из окна и не увидишь. Она широко раскинула концы огромной дуги, словно пыталась обнять весь город, и исходящее от нее золотисто-медовое свечение колебало промерзший воздух, как пар над горячей водой.
А еще радуга улыбалась.
В сумерках пошел снег, и с залитой белизной земли к радуге потянулись белые пчелы, неся в лапках корзиночки, до краев наполненные золотистым сиянием. Эрле стояла у окна, прислонив лоб к ледяному стеклу, и капля по капле роняла тоску, и грусть вытекала из нее, как вода из треснувшей клепсидры.
– Здесь очень спокойно, – сказал Себастьян. – Можно подумать, что это дом Вечности.
Начавшийся вчера снегопад все еще не закончился, и снег под ногами был чистым, мягким и доходил едва ли не до колен. Подол юбки промок безвозвратно, сапожки, кажется, тоже… Положение Себастьяна было немногим лучше, но он, казалось, совершенно этого не замечал – стоял у самой кромки льда, придерживаясь рукой за ивовую ветку, и по-хозяйски оглядывал серую гладь замерзшей реки, низкий купол заснеженного неба и тонущие в тумане башни Университета. Эрле же куда больше интересовал крутой склон берега у них за спиной – она с трудом представляла, как они будут по нему взбираться.
– Лучше бы это был мой дом, – вздохнула Эрле жалобно. – Тогда в нем был бы камин, и мы бы смогли просохнуть…
– Что ты, тут же так красиво!
– Красиво, красиво, – подтвердила девушка уныло. Еще раз смерила взглядом склон – его наискось пропахали две глубокие борозды следов – спуститься-то мы спустились, а вот как будем забираться обратно – не подумали… Два идиота.
Одной рукой подбирая юбки и придерживая муфту, а другой – запихивая прядь волос под капор, Эрле двинулась к Себастьяну, стремительно и величественно рассекая бескрайнюю вздыбленную гладь. Снег цепко держал ее за ноги, и сначала она чуть не потеряла сапог, а потом – равновесие… к счастью, вовремя успела схватиться за услужливо подвернувшуюся под руку ивовую ветвь и удержалась на ногах.
– Смотри, – тронул ее за локоть Себастьян. – Небо похоже на жемчужину…
– Похоже, – обреченно согласилась девушка, застывшими пальцами отряхнула муфту, быстро окунула руки в рыжую и живую мякоть меха и прижмурилась от зябкого тепла. Где-то посреди муфты руки встретились, обожгли друг друга ледяной несгибаемостью пальцев и поспешили расстаться, зарывшись обратно в мех.
Себастьян медленно провернулся на каблуках, все еще держась за ветку, и Эрле вздрогнула, услышав ее жалобный хруст.
– Осторожнее! Она, между прочим, тоже живая, – проговорила девушка недовольно, и тут же продолжила чуть иронично, пытаясь смягчить резкость, – вот проснется ива весной, спросит у меня: "А кто это сломал мою любимую веточку?" И я ей, конечно, тут же радостно на тебя наябедничаю, и каждый раз, когда ты тут будешь проходить, она начнет на тебя сердито шелестеть.
– Ну, так уж прямо и начнет, – усомнился Себастьян. – Станет она тебя слушать, как же!
– Станет, еще как станет! – заявила Эрле уверенно. – Она меня вообще очень любит… А знаешь, много-много лет тому назад жил на свете один человек, а звали его Садовником. И с тех самых пор, как он, тогда еще совсем мальчишка, ухаживал за цветами в саду герцога, была у него мечта: вырастить такое дерево, чтобы оно умело разговаривать. Он прожил много лет, странствовал, исходил сотни земель и посадил тысячи деревьев – но ни одно из них так и не заговорило. А потом он взял себе ученицу, и она продолжила путешествовать и искать говорящее дерево вместо него, потому что он состарился и остался жить в маленькой деревушке к северу от Ранницы: он ведь не только деревья умел выращивать, но и репу, и тыкву, и чеснок, и бобы… Весной он посадил эти ивы, а летом ученица пришла его навестить – но в живых уже не застала, он умер за неделю до ее прихода… А потом она шла этой дорогой и нечаянно услышала разговор двух ив – и так поняла, что Садовнику все-таки удалось вырастить говорящее дерево. А может быть, это ему удалось намного раньше, только он об этом никому не сказал… А возможно – все деревья говорящие, только их язык мало кто понимает.
Эрле встревоженно замолчала, уловив восторженные огоньки в глазах жадно слушавшего ее юноши.
– А ты можешь научить меня понимать их язык? Можешь, да? – забывшись, он подался к Эрле, нервно облизнул побледневшие губы. – Ты меня научишь, как Садовник – тебя?
Девушка улыбнулась вымученно и бледно.
– Но Себастьян, это же всего лишь сказка…
– Сказка? – протянул он недоверчиво.
– Ну да… Посмотри на эти ивы, им же лет двадцать, не меньше – а теперь посмотри на меня…
– Сказка, – повторил Себастьян глухо, отворачивая от девушки лицо. Нагнулся, скатал снежок и – Эрле чуть не вскрикнула – с силой запустил его в переплетение тонких ветвей. Потом, словно утратив к ивам всякий интерес, снова повернулся к реке и вперился тяжелым немигающим взглядом в башни Университета. Эрле подошла, осторожно коснулась края его плаща:
– Себастьян… Нам уже домой пора…
– Да-да, конечно, – сухо согласился он, не меняя интонации и не глядя ей в лицо. – Пора… – и безразлично зашагал по льду к противоположному берегу реки – на той стороне обрыва не было, так что подняться наверх не составляло никакого труда. Девушка немного помедлила и тоже зашагала вслед за ним.
…– Но все-таки ты показала мне красивое место, – вздохнул Себастьян, когда они миновали городскую стену. Эрле обрадовалась – это были первые слова, которые она услышала от него с тех пор, как предложила идти домой.
– Еще бы, – отозвалась она шутливо. – Воспитание иначе, знаешь ли, не позволяет… А летом ты можешь показать это место Доротее. Только не говори ей, что это я тебя к ивам привела, приревнует еще… Что, я что-то не так сказала?
Себастьян дернул уголком губ в подобии болезненной усмешки.
– Доротея не придет туда со мной.
– О-о.
– Ее отец настоял на том, чтобы расторгнуть помолвку. Он сказал, что его дочери не нужен муж, которого то и дело вызывают к магистрату. А я не делал ничего дурного, и меня даже ни в чем не обвиняли. Я просто пересказывал им раз за разом события той ночи – как Марк заговорил о Раннице и герцоге, а Стефан эту тему подхватил и развил, и как я потом этот разговор прекратил и попросил скрипача сыграть "Мою милашку…"
– О-о, – протянула Эрле удивленно. – А я думала…
– Что?
– Ничего, я тебя слушаю…
– А тут и рассказывать-то нечего, – сказал Себастьян с горечью, поддевая ногой комок снега. – Я же знаю, что она все равно никогда меня не любила – кому я нужен, ненормальный… А остальное лишь предлог. Наши отцы сделали ошибку, когда обручили нас еще в детстве… Кстати об отцах: если ты еще не знаешь, вон там мой дом, а навстречу нам идет моя сестра Мария. – Он показал на каменное здание высотой в два этажа: ставни приветливо распахнуты, над заснеженной крышей – дым из печных труб, над парадной дверью козырек, поддерживаемый двумя затейливыми резными петушками, снег со ступенек убран, позеленевшее от времени дверное кольцо в виде змеи, глотающей собственный хвост… Навстречу им шла девочка лет тринадцати – четырнадцати, непохожая на Себастьяна настолько, насколько она вообще могла быть на него непохожа… круглолицая, пухленькие щечки, румянец, покрасневший нос – чуть великоват для этого лица, крупные улыбающиеся губы, мягкий подбородок… Серая шубка с длинным мехом, вероятно, козья, на голове – красный капор, из-под него выглядывают пряди жестких черных кудрявых волос. В руке девочка несла коньки – металлические полозья, которые должны были привязываться к сапожкам веревочками.
– Доброго дня, – поздоровалась девушка, поравнявшись с Марией, и одновременно с этим Себастьян мрачно произнес: – Знакомься, Ри, это Эрле.
– И вам того же, – отозвалась девочка, останавливаясь и беззастенчиво разглядывая незнакомку. Эрле наконец определилась, какой цвет преобладал в ее ауре: густо-малиновый, с лиловатым даже оттенком. Чуть сильнее в лиловый – и девочка могла бы стать неплохой актрисой, но к нему примешивался малиновый, а значит, ее талант – устраивать людям праздники…
– А у вас юбка промокла, – сказала Мария, кивая на Эрле. – И ноги, наверное, тоже. Как придете домой – обязательно разотрите их насухо и выпейте горячего молока с вишневым вареньем.
– Варенье – это чтобы не заболеть? – с улыбкой уточнила Эрле.
– Варенье – это чтобы было вкуснее, – девочка посмотрела на нее с явным упреком. – Между прочим, это все и к тебе, Себ, могло бы относиться, только ты ж опять ругаться начнешь…
– И начну, – подтвердил он с вызовом. – Маленькая ты еще, чтобы старшим братом командовать!
– Я-то маленькая, – согласилась Мария, перекладывая коньки из одной руки в другую. – Я маленькая, а ты небось опять под ноги не смотрел, потому что увидел в небесах серебряную арфу, на которой играют облака… Все, не дуйся, я уже ушла! – и девочка вприпрыжку припустила вниз по улице, всем своим видом показывая, как ей такое отношение к ее словам безразлично.
– Спасибо за совет! – крикнула ей вдогонку Эрле. Ри обернулась, улыбнулась темно-карими, почти сливающимися со зрачком глазами: – Да не за что!
– У тебя забавная сестра, – сказала девушка Себастьяну чуть погодя, когда они остались одни. Проглянувшее сквозь плотную пелену неясное солнце подтвердило ее слова, послав на землю первый за день луч.
– Скорее – занудная, – мрачно поправил ее юноша, пряча руки под плащ и изучая взглядом трехтелую сосульку на соседней крыше.
– Да нет же, – запротестовала Эрле, так яростно мотнув головой, что пришлось вытаскивать руку из муфты и поправлять капор. – Она о тебе беспокоится…
Юноша упрямо молчал и смотрел в сторону.
– Себастьян, – прошептала Эрле, повернувшись вслед за ним так, чтобы следить за выражением его лица. – Мы ведь не виноваты, что не видим того же, что и ты… Мы просто не умеем…
– А ты и правда так и не увидела ту радугу? Ну, которую я тебе пытался показать? – спросил он точно таким же шепотом, избегая смотреть ей прямо в глаза. – Золотую, над домами?
Эрле опустила голову. На утоптанном снегу появился еще один слабый оттиск ее маленького сапожка.
– Я пойду, Себастьян, ладно? – проговорила она после непродолжительного молчания. – Мы ведь еще встретимся, хорошо?..
…Он смотрел ей в спину – как девушка, спотыкаясь и оскальзываясь чуть ли не на каждом шагу, прижимая к груди спрятанные в муфту руки, спешит прочь от него, склонив увенчанную капором голову – и в памяти стыло свежее воспоминание: мир – пустая оболочка, и если смотреть сквозь него, можно увидеть, как, обнимая ствол ивы, сидит у самой воды светловолосая девушка и молчит о чем-то своем, и река, словно медленный ласковый щенок, припадает к ее босым ногам…
…На следующий день она проснулась вялой и разбитой. Саднило в горле, голова казалась набитой одновременно и мягкими тряпками, и звенящими колоколами – они эхом отдавались в висках, бухая призывно и гулко; а когда она попыталась встать с кровати – у нее тотчас потускнело в глазах, а следом окатило волной слабости.
Короче говоря, Эрле простудилась.
К полудню зашла узнать, в чем дело, тетушка Роза. Застала свою жилицу все еще лежащей в постели, неодобрительно поцокала языком и велела пить липовый отвар, который сама же незамедлительно и занесла. Эрле приняла его с благодарностью, и даже нашла в себе силы, чтобы об этом сказать. Между ног уходящей тетушки Розы в комнату проскользнул еще с вечера отправившийся на мышиную охоту Муркель. Погуляв немного по комнате и удостоверившись, что в его отсутствие там никто новый не завелся, он недовольно покосился на лежащую Эрле, после чего взобрался на кровать, осторожно ступил девушке на грудь и затоптался, устраиваясь там поудобнее. Эрле сморщилась – хорошо хоть без когтей! – в губы ткнулся холодок кошачьего дыхания, и она спихнула кота с себя, укоризненно при этом прошептав:
– А я как дышать буду?
"Ничего не знаю", – с невинным видом ответствовал Муркель, но обратно залезть не пытался. Правда, и на одеяле рядом с хозяйкой лежать не захотел – ушел на другой конец кровати, где и устроился у девушки на ногах, торжественно провозгласив, что их надо держать в тепле и он даже знает, кто этим теплом будет. Эрле улыбнулась ему и сама незаметно задремала.
Проболела она целую неделю. На третий день температура спала, и Эрле встала и принялась за шитье. Не то чтобы это было так уж необходимо, просто от безделья ей всегда болелось дольше – так она и объяснила велевшей лежать еще как минимум два дня тетушке Розе.
В конце недели зашел Себастьян. Принес с собой букет роскошных полураспустившихся тюльпанов, обернутых в длинные кожистые листья, с яркими продолговатыми головками цвета свечного пламени и короткими изогнутыми стеблями. Эрле восхищенно всплеснула руками – Себастьян, и где же ты эту красоту достал, зима же! – пожурила за растрату денег – и не говори, что они не дорогие, все по глазам вижу! – и умчалась за водой и хоть какой-нибудь вазочкой, потому что букет было ставить ну совершенно некуда. Потом Себастьян смущенно сознался, что не представляет, какие цветы она любит, но, может быть, она ему об этом скажет, чтобы в следующий раз он выбрал более подходящие? Эрле замахала на него руками и энергично забранилась, что никакого следующего раза не будет, ты что, и так невесть сколько потратил, а если хочешь меня порадовать – напиши лучше поздравительно-выздоровительное стихотворение – я ему только больше обрадуюсь, потому что это будет совсем твой подарок! Себастьян явно задумался, но соглашаться не торопился – как выяснилось много позже, он опасался, что Эрле начнет смеяться над его поэтическими опытами по примеру Доротеи.
Правда, опасался он недолго, потому что когда все-таки отважился показать ей свои стихи, то смеяться она не стала, а напротив, сказала, что все очень хорошо и пусть он обязательно занимается этим дальше. Хотя, по совести говоря, хвалить там было особенно не за что, разве что за сам факт написания – Эрле перевидала на своем веку слишком много талантов, чтобы не суметь отличить плохие стихи от хороших, но истинное мнение свое до авторов доводила редко, предпочитая скорее хвалить, нежели ругать – в крайнем случае отделываться ничего не значащими фразами. Но Себастьяна ничего не значащие фразы не устраивали, ему требовались восхищение, признание и подтверждение его таланта – и Эрле дала ему все это, немного даже покривив при этом душой, не забыв, впрочем, добавить и подчеркнуть, что ему еще многому надо научиться. Себастьян ушел окрыленный и вдохновленный; Эрле улыбнулась и снова принялась за шитье: она, конечно, подозревала, что аура может потускнеть довольно быстро, но чтобы чуть ли не за один вечер!..
Следующие поэтические опыты Себастьяна были немногим лучше первого. Он прибегал к ней домой радостный и возбужденный, она терпеливо выслушивала его и непременно повторяла, чтобы он писал еще – талант, мой милый, талантом, но само по себе в этом мире еще никогда ничего не получалось… Его первые стихи были похожи друг на друга, как отражения – неумелые еще лирические зарисовки со сложнющими образами и прыгающими рифмами; но музыку стиха он чувствовал уже сейчас, уже сейчас пытался звуками передать настроение и не боялся играть с ритмом, то ускоряя, то замедляя темп, хотя это и выходило иногда немного неуклюже…
Эрле честно пыталась сказать ему обо всех этих недостатках – тщетно: он слушал лишь то, что желал услышать. И еще одно заметила она по его стихам: стремление разделить всех людей на необычных и обычных, на возвышенных, талантливых, умеющих тонко чувствовать – и просто тупое быдло, которым надо лишь пожрать да поспать. Это ей не нравилось категорически, она не раз взывала к нему – дурашка, что же ты делаешь, зачем строишь заборы между людьми, ведь стоит только тебе его построить – как тут же начнешь задаваться вопросом: а по какую сторону забора ты сам? И будешь всю жизнь колотиться в открытую дверь, пытаясь доказать себе, что ты необычный, талантливый, умный и вообще лучше всех… А как доказать? Правильно, самый простейший способ: жизнь дерьмо, а все вокруг гады… Вот так. А потом еще начнешь жаловаться, что такой одинокий-непонятый-непризнанный, а вообще-то очень хороший и замечательный, только настоящих ценителей почему-то рядом нет. А почему нет – опять же понятно: другие тоже небось необычными быть хотят, в быдло никто не рвется… Вот и получается замкнутый круг: построишь один забор – и останешься со своими заборами один. И так и будешь мучиться от одиночества до тех пор, пока не научишься видеть в каждом – равного, такого же человека, как ты…
Но Себастьян опять не пожелал ничего этого слушать. Вернее, слушать-то он слушал, да ничего не понял: все, что она сказала, прошло мимо него и на стихах его никак не отразилось: в них как были тоска и боль, так и остались. Эрле почти не принимала их всерьез; они молили о сочувствии и жалости, Себастьян готов был ненасытно пить эти чувства, как младенец – молоко матери, он напрашивался на них, вольно или невольно – в итоге Эрле окончательно запуталась в своих собственных ощущениях, перестав различать, где понимание, где сопереживание, а где простое подыгрывание. Ей хотелось сказать – дурачок, не кричи ты так, ведь не глухая же я, в самом-то деле, неужели ты не видишь, что я и так не умею не сопереживать?.. – ей невольно думалось – бедняжка, как же ты изголодался по простому вниманию, что даже сочувствие и жалость различать не научился – притворяешься гордым, а сам на жалость напрашиваешься; притворяешься, что одной мне готов все это рассказать, потому что только мне и доверяешь – да ты хоть сам-то знаешь, что расскажешь то же самое любому, лишь бы только тот согласился выслушать?..
Впрочем, у Себастьяна были и другие стихи, которые казались Эрле более искренними. Девушка как-то сама незаметно поняла, что мать Себастьяна вышла за его отца не по своей воле, а повинуясь приказу родителей. Годы шли, а она мужу этого так и не простила; рождение детей ничего не изменило – капля этой глухой не-любви досталась и детям, и Себастьяну больше, чем Марии: девочка пошла в бабку, а он – в отца… Мать никогда не кричала на мальчика, никогда не бранила и не наказывала, следила, чтобы он был одет и накормлен – но во всем этом было так мало живой трепетной любви и так много привычки, что иногда ему казалось, будто его мать – какой-то механизм наподобие часов на башне, и если ее завести – она будет звонить каждый час и заботиться о нем, Себастьяне… За это девушка понимала и прощала ему многое: если человек живет в одном доме с глухими, трудно ждать от него, что он будет говорить нормальным голосом. У него очень скоро кончались чувства и начинался наигрыш – нет-нет, притворством это никогда не было, нарочно он не лгал; ей казалось, что он просто заставляет себя испытывать боль, чтобы потом сказать ей об этом, хотя и вряд ли сознает, что именно делает…
После того, как Эрле выздоровела, к ней пришла Марта с очередным заказом. Ее талантом было управлять людьми, и он начал распускаться еще без вмешательства Эрле. Добавь к этому таланту немного честолюбия – и из Марты могло получиться либо что-то очень хорошее, либо что-то очень плохое; но ее честолюбие простиралось ровно настолько, чтобы сделать мужа старшиной гильдии сапожников, воспользовавшись тем, что зимой в городском Совете начались крупные перестановки, и уговорить дочь выйти замуж за лавочника, а не нищего школяра. Особенно Эрле утешало, что Марта, в общем-то, человеком была неплохим, свои интересы трактовала достаточно широко, чтобы включать туда и интересы многих окружающих, так что мелкой домашней тиранки-интриганки из нее тоже не получилось. А еще она очень любила делать варенье из яблок и гордилась этим своим умением едва ли не больше, чем успехами мужа и старшего сына – тот был писцом в суде и успел даже жениться. Эрле всем этим обстоятельствам чрезвычайно радовалась – ей было бы трудно выращивать талант, знай она, что когда-нибудь он, возможно, будет использован во зло людям…
Комната, где раньше жила Анна, по-прежнему пустовала – тетушке Розе так и не удалось ее кому-нибудь сдать. Проходя мимо двери, Эрле как-то раз поймала себя на том, что ей начинает недоставать Анны, ее скрытности, немного настороженного молчания и рассказов о матери и младших братишках – тех самых, погибших от чумы три года назад…
Но если быть совсем честной, больше всего ей не хватало все-таки Марка.
В тот день они отправились на реку – кататься на коньках. Утро было ярким: морозец, искрящийся снег – как бриллиантовая сокровищница по берегам, черные заледеневшие кусты в перчаточках инея, невысокое солнце в холодном блистающем небе… Дыхание – облачка белого пара, щеки легонько покусывает, поднять воротник – и вперед, стрелой вперед, по гладкому накатанному льду, визжащая детвора съезжает на салазках с заснеженных берегов чуть ли не до середины реки – осторожно, не столкнуться! – вперед, вперед, чтобы стало жарко и захотелось вытащить руки из муфты – а солнце светит в спину, и надо мчаться быстрее, догонять свою тень – интересно, я с кем-нибудь столкнусь? – излучина реки, поворот – тень скользит рядом, вздрагивая от каждой неровности льда – все, догнала, устала, запыхалась, можно остановиться… Плавный разворот – и Эрле скользит навстречу Себастьяну медленно и грациозно, похожая в своей пелерине на элегантного серого лебедя – похожая, но ненадолго: смех, щеки раскраснелись, рука взлетает к виску – опять волосы…
– Когда-нибудь я напишу об этом стихи, – сказал Себастьян задумчиво, прикрывая ладонью глаза от искоса бьющего в них солнца.
– Когда-нибудь? А почему не сейчас? – тотчас же откликнулась Эрле. Она не успела затормозить и ткнулась в грудь Себастьяна, он вскинул руки – то ли обнять, то ли поймать, то ли помочь удержать равновесие, но Эрле уже успела отлететь в сторону – легкая, искрящаяся улыбкой. Не ответив, он заложил руки за спину и медленно покатил по льду назад, в сторону излучины. Девушка легко обогнала его, заступила дорогу.
– Ох, Себастьян… Ну сколько раз повторять тебе, что ты и так очень, очень талантлив – нужно только немного постараться и не строить всякие дурацкие заборы посреди улицы…
Он обогнул Эрле и продолжил тяжело скользить по середине реки. Чуть помедлив, девушка последовала за ним, но обгонять его больше не пыталась.
– Да кому они нужны – стихи мои? – с досадой бросил он, не оборачиваясь.
– Людям, – тихо ответила из-за его плеча Эрле.
– Каким? Вот этим, что ли? – он кивнул на парочку: юноша полуобнимает девушку, склонился к уху, что-то говорит, она несмело улыбается – а на коньках стоит еще нетвердо, верно, только-только учится кататься… кивок вышел злой и дерганый. – Или вот этому? – мальчишка на салазках мчится с горки – быстрота, снег из-под полозьев – не успел свернуть – вынесло на лед, закрутило, завертело, плюхнулся на живот… – Ни черта им не нужно, – подвел итог Себастьян усталым голосом и прибавил скорость; Эрле по-прежнему держалась позади. – Только пожрать посытнее, выпить побольше да поспать подольше…
– А – творить? – спросила девушка еще тише. Он остановился, развернулся, оказавшись с ней лицом к лицу, засмеялся зло, полыхнув темно-синими глазами:
– Творить… Ой, насмешила… Людям, этим тупым бездушным тварям – творить?! Да они же не умеют, понимаешь – не у-ме-ют! – он почти сорвался на крик, кашлянул, добавил уже спокойней: – Не умеют. Нет у них такой способности…
Эрле посмотрела на него, нахмурилась недоуменно – и вдруг рассмеялась звонко и весело, запрокинув назад голову, почти до слез на глазах – остановило только то, что на морозе они неминуемо застыли бы… Отсмеявшись, вытащила из муфты руку, обмахнула глаза.
– Талантов нет, говоришь? Ну-ну, – непонятно к чему протянула она, снова улыбнулась – и сорвалась с места, насмешливо бросив через плечо:
– Ну же, не отставай! Пока ты будешь тут стоять и рассуждать о низменности человеческой натуры, тебя обгонят даже те, кто раньше был позади!
Некоторое время они катили по льду молча: Эрле – впереди, Себастьян – за ней. Потом он тихо спросил:
– Я сказал что-то не то?
– Давай не будем об этом, а? – вздохнула девушка. – Смотри лучше, какой день хороший: солнце, снежок, безветрие, можно дышать полной грудью… И еще посмотри, сколько хорошего у тебя есть – талант, молодость, и столько дней впереди, и много-много непройденных дорог – а сколько стихов, которые еще надо написать! – и глаза, чтобы видеть красоту этого мира, и… – Эрле осеклась, заметив, что он смотрит на нее как-то странно, очень пристально и вдумчиво, машинально пощипывая себя левой рукой за запястье правой. Потом он улыбнулся – это вышло у него нежно и немного печально:
– А еще у меня есть моя муза… Моя собственная личная муза… Так ведь, Эрле?
– Да нет же, – откликнулась девушка живо. – Ну сам посуди – какой из меня источник вдохновения? Я же не даю тебе ничего нового, ты пишешь потому, что ты – это ты, ведь я уйду, а ты – останешься…
– Ты – уйдешь? К кому? – он подкатил сбоку, взглянул в лицо пристально и невидяще. Эрле не ответила, только с силой толкнулась коньками и стремительной стрелой улетела вперед. Себастьян заскользил за ней – с тем же успехом можно было попытаться догнать молнию.
– Эрле, я… – выдохнул он с трудом, пытаясь беречь дыхание. Она чуть мотнула головой – даже не обернулась, целеустремленно глядя вперед.
– Эрле… – он начал отставать. К его удивлению, она тоже немного притормозила.
– А хочешь, я отведу тебя в сказку? – он догнал ее, тронул за руку – быстро, заискивающе. – Там подо льдом – зеленый русалочий дворец, и русалки, одетые в серебристый рыбий мех, играют друг с другом в солнечные зайчики, а зеркала у них… – Себастьян не закончил, остро осознав, что опять говорит не то. Эрле мягко покачала головой:
– Ты опять забыл. Я вряд ли сумею их увидеть.
– Ничего, я покажу! – он говорил горячо, стиснул на мгновение зубы, опять понимая: не то. – Ты увидишь, ты должна, ты – не они, у тебя получится!..
Эрле непроницаемо повернула к нему голову – впервые он не мог понять по ее лицу, что она чувствует.
– Спасибо, что-то не хочется. Я уж лучше домой. – Она свернула в сторону, проскользнула между двумя хохочущими девчонками, влилась в очередную группу людей – исчезла, растворилась, сбежала…
Он остался один. Стоял до тех пор, пока кто-то его не толкнул. Себастьян еле слышно извинился – его не услышали, впрочем, это было и неважно, – развернулся и медленно, с усилием, глубоко впиваясь коньками в беззащитный лед, покатил за своей тенью – туда, где водились русалки. Один.
Больше Эрле его не видела. Через три дня, когда она снова отправилась на речку покататься на коньках – обидно… любимая забава словно потускнела, утратила часть привлекательности… – ей встретилась Мария. Словно невзначай Эрле спросила у нее, как там Себастьян. Девочка посмотрела на нее недоверчиво и угрюмо пробормотала, что он еще третьего дня сбежал из дома – и, судя по оставленной им короткой записке, возвращаться не собирается, потому что твердо решил добраться до моря, устроиться матросом на какой-нибудь корабль и навсегда уплыть в дальние неведомые края. Эрле скептически хмыкнула, выразив тем самым обуревающие ее глубокие сомнения в разумности сей затеи; Мария не сказала ничего, и на том они разошлись.