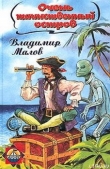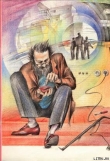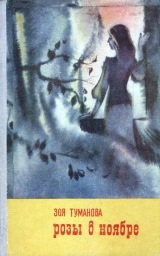
Текст книги "Розы в ноябре"
Автор книги: Зоя Туманова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Это был подарок старого актера – знаменитого исполнителя женских ролей в традиционном китайском театре.
Почтительно склонив атласно причесанную свою голову, он сам вывел тушью надпись на веере и попросил чтобы перевели:
«У актера нет возраста».
Черный блеск его волос запылила седина, а он выбегал на сцену трепетными шажками, в гриме молоденькой девушки, – словно персиковое деревце расцветало… Его героиней всегда была юность, мудрая в своем неведеньи, несгибаемая, безрассудная, побеждающая. Он умер во время спектакля, шестидесяти семи лет.
…В дверь постучали преувеличенно осторожно – этакий намек на стук.
– Да! – отозвавшись, она сейчас же подняла голову и закинула подбородок, чтобы кожа на шее натянулась: это было заученное движение, не требовавшее мысли.
Вкатился администратор Луцкий, захлопотал в воздухе руками – белыми, словно капустный лист:
– Колоссальные новости, Нодира Азизовна! Нас опять зовут – и куда зовут!
Дождавшись, пока человек выговорится, она достала из сумочки помятый конверт – на нем плясали недружные буквы. Красным ногтем подчеркнула слово в нижней строке:
– Вот куда мы поедем!
– Но… – администратор захлебнулся возражениями, и вдруг поймал ее взгляд, устремленный на оконную занавеску. Дыра, что ли, там? Он прощупал глазами – ничего подобного. А она все смотрела и смотрела, словно видела то, что ему не дано видеть.
Лицо Луцкого выразило глубочайшее понимание. Ну, что же, звезда устала сверкать… Это ее право.
Пятясь, бочком, он пробрался к двери.
* * *
Шумела толпа вокруг, а память снова увела его шагать по коротким дорогам прошедшей жизни…
Девушка за стеклом крикнула в окошечко громко, как глухому:
– Пятерку передали, слышите? Смотреть надо! Это ж деньги, молодой человек!
…Деньги. Их было вдвое больше, чем в той пачке – отцовских десятирублевок. Сарвар зажал их в потном кулаке. Били мысли: на что скоплено? На рис – к зиме? На школьную форму – младшим?
Он уходил – с этими деньгами – чувствуя затылком жалостливый взгляд отца. Стыд жег непереносимо…
Вон как они легко теперь достаются, деньги. Колотишь в гулкую кожу – и все. Можно скопить побольше. Вернуться: а ну-ка, Джума, потягаемся, кто у кого перебьет?
– А квитанцию, молодой человек? – крикнули вслед. Он не оглянулся. Бежал, не зная, отчего бежит и куда.
Это был парк, тенистый, безлюдный. В глухой тени тянуло сыростью. Знакомый запах щекотнул ноздри – должно быть, подметали тут полынной метлой.
Полынь. Полынь степная…
В ту осень Сарвар не вернулся в школу. Отец не возражал: потрудил глаза над книгами, пора и за мужское дело взяться. Дед вздыхал осудительно: рано! Но порой взгляд его молодел от счастья. Сарвар знал, чувствовал, что его любят не так, как прочих внуков, круглоголовых, беспечных крепышей, пошедших в «бабкину породу». Сарвар был дедов – по дорожке Шоди-ата ему и идти.
В эту длинную чабанскую зиму он и сам по-новому узнал и полюбил деда. Всю жизнь был среди людей Шоди, как чуткое ухо; вечерами, у чабанского костра, развертывал он перед Сарваром бесконечный свиток памяти.
– И орел – летит, и муха – летит, – начинал он рассказ, покачиваясь, приспустив желтые веки. – Был человек По имени Мухтар-палван. Двухгодовалый, уже изумлял он соседей богатырской статью. В двадцать лет – приезжали поглядеть на него: ноги – что деревянные столбы на айване мечети, руки – молоты; джейрана догонял на бегу…
Ушел отец Мухтара по дороге небытия. За долги отца силач запрягся в кабалу к Сирожиддин-баю. Жил в бараньем загоне. Руками душил волков, нападавших на хозяйские стада. А однажды гости бая, осовелые от жирного плова захотели забав. Хозяин призвал Мухтара, хвастая, заставляя его выполнять неисполнимое. Гости завидовали. Поклялся, наконец, бай, что поднимет его батрак на плечах верблюда, словно трехдневного ягненка. Мухтару обещал за то простить долги. Палван подлез под верблюжье брюхо и выпрямился. Так он стоял, пока гости считали до трех, а потом упал – и умер… Так рассказывали. А теперь скажу о другом человеке. Плечи его были не шире твоих, мальчик, и я, старик, обгонял его на пешеходной тропе. Встретились мы близ колодца Киик-Кудук, там, где вечным огнем горело дыханье земли. Мы, чабаны, грели на нем свой чай, а непривычный человек бежал в ужасе, шепча: «Чудо, чудо…» Этот – был новичок в степи. Солнце слой за слоем снимало кожу с его лица, пока оно не стало розовым и облупленным, как молодая картошка. Но вечного огня он не испугался. Протянул к нему руки, пил наш чай и говорил: «Скоро этот газ, что горит бесплодно, обогревая небо над степью, закуем в железные трубы, приведем к заводским топкам и печам хлопковых сушилок; женщины ваши перестанут лепить кизяк на зиму…» Тогда я не поверил. Все в душе у меня засмеялось от этих нелепых слов. А теперь любой школьник знает о людях Газли, о том, как железная жила с голубой кровью пролегла через пустыню. Что же такое – сила человека? Поразмысли…
Сарвар думал о своем. Он разглядывал сухие, как у джейрана, свои щиколотки, тонкие запястья: «Кто расскажет о твоей силе? Когда же ты вырастешь, эй, малый!»
Прокаленный солнцем, подвижный, как ящерица, весь скрученный из крепких жил, – он уже вырос и не знал об этом. Но настал день…
Дед был усто – мастер своего дела. Он пас овец и зимой, знал места, где снег никогда не накрывает с головой высокоствольные травы, жилистые кустарники…
– Зимой шувак не горчит, – поучал он Сарвара. – Еще запомни: коврак помогает овцам от простуды! А главное – не изнеживай овец. Только в плохую погоду загоняй в кутаны. И еще – корми… Сытой, жирной овце и пять буранов нипочем. Да только не надо их и вовсе, буранов, тьфу, – плевал он, поглядывая на небо.
Текли дни. Однажды дед подозвал их, Джуму и Сарвара.
– Глядите, – сказал встревоженно, – конь мой трясет головой, храпит, морду закидывает. Это к бурану…
– Метеостанция должна была предупредить, – напомнил Джума. – Ракеты не видели ведь?
– Э! В таком тумане что увидишь?
– Ничего, успеем, кутан близко, – Джума отер рукавом лицо, в каплях растаявшего снега. Сарвар взглянул на небо.
Седое, оно казалось тяжелым и низким. Ледяная крупа летела наискось, тонкий звон стоял в ушах, словно кто-то сыпал и сыпал, и сыпал серебряные иглы. Овечьи копытца скользили по раскисшей грязи, отара шла недружно.
Псы заходились в лае, тесня живую эту черно-серую реку в назначенное ей русло дороги. Дед впереди, верхом, то и дело окликал собак: «Эй, корноухие!» Джума вел в поводу верблюда, навьюченного чабанским скарбом. Сарвар подгонял отставших овец. «Эй, погоняй, спеши!» – кричал дед, оборачивая к нему настороженное, хмуро-собранное лицо – точно сжатый кулак.
Они спешили. Ветер обогнал их…
Раздался звук, как будто распоролось небо. В белой мгле, полной бешено крутящихся снежинок, исчезли, как не бывшие никогда, дед с его конем, Джума с верблюдом, собаки. Сарвару показалось, что причудившиеся ему серебряные иглы все разом вонзились в глаза, ослепленный, он тер веки мокрым рукавом, кричал – ветер вбивал в горло бессильный этот крик…
Сарвар разгребал воздух, как воду, а ветер все крепче напирал, валил с ног. Страх жаркой волной прошел по телу, он метнулся – и втиснут был в бурлящее месиво перепуганных овец. Его стукали крепкие лбы, толкали крутые бока. Едва удерживаясь на ногах, он видел себя уже втоптанным в снег, с грудью, пробитой сотнями острых копытцев; отчаянье охватило его, он был как зерно между двумя жерновами – землей и небом…
По-детски всхлипывая, он едва поверил себе, когда в краткий миг затишья услышал дедово протяжное «Куррей! Поворачивай!» и далекий лай собак.
Сарвар знал: нельзя с отарой идти навстречу ветру – овцы застудят легкие. Значит, дед и Джума там, в белом месиве, делали свое чабанское дело. А он?
Яростно, чуть не своротив нос, он мазнул мокрым рукавом по залитому слезами лицу. С натугой, словно из глины, выдирал ноги из живого месива, хватался за длинную шерсть. Вырваться, вырваться, ступить на землю, тогда…
Внезапно то огромное, слепо увлекаемое к гибели, что чуть не перемололо его, вновь обрело силу уверенного стремленья. Плывя вместе с отарой, как щепка на волнах, он почувствовал, что ветер бьет теперь в затылок, и понял, что чабанам удалось повернуть отару. Снег уже не слепил овцам глаза, и животные начали успокаиваться…
Сарвар грудью лег на живой, колышущийся помост, пополз ящерицей по овечьим спинам, хватаясь за что придется. Сбросил себя наконец в снежную кашу – и тотчас вскочил: – Кур, кур! Куррей! Эй, корноухие, рваногубые, тесните их!
Это был его голос. Грубый и сильный голос чабана, работника, мужчины.
Он брел за отарой, потеряв ощущенье времени. Падал, вновь поднимался. Кулаками подталкивал отставших овец, кричал на собак. Темнота упала нежданно, словно на глаза надвинули шапку. Небо, земля, овечьи спины – все было мутно-черное, зыблющееся. Мучила жажда – он, не вытерпев, прихватил губами мягкий комок снега. Во рту высохло, словно он глотнул огня. «Ноги отпадут – доползу, – думал Сарвар, – чабан я…»
Кто-то надрезал темноту золотым ножом – Сарвар с тупым удивленьем считал яркие насечки, пока не сообразил, что это светит костер сквозь щели в камышовых стенках овечьей затиши – кутана.
Кутан был построен в низине, где гаснет ветер: камышовые стены удерживали немного тепла. Под ногами мягко пружинил кий – толстый слой навоза прошлых лет. За изгородью из ветвей юлгуна хранился запас янтачного сена, шувака, нарубленного кетменем, заготовленного для таких вот ночей.
Они еще долго работали – заносили в кутан ослабевших ягнят, развьючивали верблюда. Дед притащил, вскинув на плечи, овцу, повредившую себе ногу.
Настало время отдыха. На огонь поставили чайдуш, достали еду.
Сарвару не хотелось есть. Ему казалось, что даже сердце у него прозябло; кровь в теле была вязкая, стылая, тяжелая, как ртуть. Он отошел в сторонку и лег, распластавшись, как вьюк, из которого вынули содержимое. Дед укрыл его двойным своим чекменем – плащом из овечьей шерсти на верблюжьей подкладке, и все же сырость пронизывала его тело тысячами знобких иголок; смыкались веки, словно была в них тяжесть железа, но сон все не шел.
Овцы в кутане стояли тесно, положив головы друг на друга. Крайние зябли – чихали, теснились к середине, вздыхали и кашляли. В овечьи шкуры набился снег – теперь он таял, от кислого запаха намокшей шерсти першило в груди.
Сарвар слышал, как поет вода, закипая в чайдуше, как жует, потрескивая скулами, Джума… Он слышал, как толкует дедушка с помощником о любимых овцами травах, и ему казалось, что в смутном полумраке вспыхивают, написанные огнем, и тихо угасают таинственные имена этих трав: биюргун, кейреук, ялтырбош, кумарчик… И снова вскрикивал ветер в ушах, летела перед глазами снежная круговерть, мельтешили черные головы овец, седые от снега…
И, неизвестно почему, сильнее, чем стыд и страх, потрясшие его нынче, сильнее, чем холод и боль, грызущие тело, – встало иное виденье: Иннур.
Он и не думал, что так сумел разглядеть и так врезать в память ее лицо, – тогда, в ослепительном свете полудня: суровые брови, с изгибом, как седельная лука, и тонкий, как тень, пушок на щеках – возле уха он завивался полукружьем, и глаза, вобравшие в тайную глубину свою всю черноту осенней ночи, и в горьком напряженьи маленького рта – гнев и непреклонность.
Иннур. Темно-смуглая рука, а ладонь узкая, розовая, как лепесток степного тюльпана. И сердце его – на этой ладони.
Он привстал, словно подброшенный – так ударило в ребра это сердце.
Джума спал, укрывшись с головой. Дед сидел у огня приодев колени полами тулупа, шевеля посохом золотой до прозрачности, рассыпающийся сизой трухой кизяк.
Стыдясь нестерпимо, но уже зная, что не спросить невозможно, Сарвар выговорил с трудом:
– Дедушка, вот что скажите: откуда берется любовь?
Весь он напрягся в ожидании насмешки или окрика, жалея, что сказал. Шоди-ата медленно обратил к нему лицо худое, словно бы еще жестче отточенное едва миновавшей бедой; медленно покачал головой:
– Знаю. Многое знаю. Свойства семидесяти трав знаю и змеиные тропы в пустыне, и вкус воды дальних рек… А любовь? Три невозможности известны: нельзя зажечь море, нельзя построить лестницу до неба, нельзя вылечить влюбленного. И еще послушай песню, – где я заучил ее когда? «Пусть юноши воинственны, а старцы ищут истины лишь девушки таинственны – о, что сравнится с ними?..»
…«Лишь девушки таинственны», – прошептал Сарвар. Железная рука сжала в кулаке его сердце. Он встал и пошел вдоль аллеи, вдыхая горький запах шувака-полыни. Деньги хрустели в кармане.
Деньги. Это очень удобно. Ты заработал – и купил, что нужно. Муку или рис, или черные туфли с резинкой с боку. Но разве можно купить славу? Или доброе имя?
Разве можно купить – глаза Иннур? Разве можно купить любовь?
* * *
Дверь раздраженно пропела: «Брр… ось!» Опять остановили у порога дикие, потерянные глаза. Чабаненка глаза.
– Одет уже как все. Яхья, должно быть, постарался: «Живешь в городе – заламывай шапку по-городскому!» Только эти плечи – не для костюма об одной пуговке посреди живота. И ходит он по паркету, словно по пыли, мягко ступая с носка на пятку. Вот – сел, и спина, полная упругой силы, поникла, и, праздные, повисли руки. Нет света в глазах, они точно окна покинутого дома…
Каждый чем-нибудь переболел. И от всякой ли болезни есть лекарство?
Резко хлопнула в ладоши – «„Шалунью!“ Репетировать будем в костюмах!»
И полетели по паркету шаги, обгоняя недоуменные перешептыванья: «Тысячу и один раз – и еще в костюмах! Это уже чересчур…»
Раздвинув розовые занавески застекленных дверей костюмерной, глянула. Да, чутье не обмануло ее.
Шаг его – мягкие сапоги! – был полетист. Поясной платок, повязанный низко, подчеркивал изгиб стана, тот, не схваченный художниками изгиб, какой примечала она лишь у юношей своей родины.
Она испытала удовлетворение мастера, восстановившего искаженную было, попранную красоту. Сейчас он был похож… на кого? Да, на того самого, чьего имени она так и не узнала…
Огнем был выжжен в памяти этот далекий день.
…Девочка лезет на дерево; дрожь страха и любопытства сотрясает худенькое, ящеричье тело. Как хорошо: в просветы между листьев видно все: толпа народа на площади и тот, кого называют «бесуяк», «без костей». Танцор, акробат.
Ему бросили блюдо – тяжелый глиняный ляган, расписанный небывалыми цветами. Ляган крутится у него на голове. Сбегает, крутясь, по шее на плечи. Танцует на спине. Снова, как живой, взбирается на голову… Что это за ляган такой?
И вот приносят другое блюдо. Оно полно пылающих углей. Угли рдеют – ляган точно плоская корзина с весенними маками.
Огненный ляган так же послушен человеку в полосатом чапане: пробегает по плечам, крутится. Не отцвели огненные маки, не уронили лепестков. Под рев толпы танцор прикладывает руку к сердцу. Отбегает в сторону – прямо под ее дерево. Она слышит трудное дыханье. Видит улыбку, добрую и чуть болезненную улыбку хорошо поработавшего человека.
Он снова выходит в круг – и совершает чудо. Встает на колени, перегибается назад. Ниже, ниже…
За спиной его, на земле, стоит теперь медный поднос, залитый водой. Посвечивают монеты сквозь воду.
«Веками глаз!» – девочка вздрагивает там, у себя на дереве, – веками глаз поднимает он монету и несет ее, тускло поблескивающую, на щеке, напряженной, как тетива лука…
Она кричит, потрясенная восторгом, хорошо, что крик ее тонет в могучем гуле толпы.
Через год девочка Нодира убежала из дому. Танцуя, прошла по огненным и кровавым дорогам тех лет. Узнала, как обжигает щеку камень, брошенный злобной рукой. Как гнет к земле поганое, прошипевшее вслед слово.
Зачем? Во имя чего? Не для того ли, чтобы открыть каждому таящееся в нем чудо?
Она одевалась, торопясь.
Что-то просверкало мимо, Яхья больно ткнул локтем: «Опаздываешь!», Сарвар ударил пальцами…
Парчовый камзол был на ней, цвета пламени, желтое платье и шапочка – вся в блеске звенящих подвесок; руки вылетели из широких рукавов, щелкнули озорные пальчики: «Чики-чики-чик!»
«Така-така-тум!» – отозвалась дойра. Пучок филиновых перьев на шапочке покачнулся, поплыл по кругу. Зазвенели дутые бубенцы браслетов. И снова: «Чики-чики-чик!» – «Така-така-тум!»
«Я ли даю ей опору дойрой или руки ее ткут узор звуков?»– думал Сарвар. Он забыл, кто танцует, он видел девушку и ему был понятен каждый взмах ее бровей, все ее юное озорство и трепетная радость.
…Мяча нет, но она играет с мячом; он летает: невидимый, упруго вспрыгивает ей на ладонь, убегает, вьется. «У кокетки – сто повадок!» Вдруг поскромнела лицом, поплыла, сложив руки перед грудью, гордо откидывая голову, легко пристукивая ногой. Качнула головой, вправо-влево, быстро-быстро, это «кыйгыр бойин» «птичья шея», только девушки его родины умеют так…
Замерла. Распахнулись, взлетели ресницы. Руки протянуты вперед. Ладонь к ладони, мизинец к мизинцу – вот как близки сердца любящих. Руки зовут, рассказывают, лукавят. Изогнутый мизинец коснулся губ: молчи, ведь это – тайна…
И снова – летит, подхваченная ветром веселья. Быстрее, быстрее! Торопись, не отставай, дойра! «Чики-чики-чик!» – «Така-така-тум!»
Она – ветерок, она – золотое веретено! Она – девушка…
…Точно отпечатанный в мыслях, четко проступил голос Атамурада:
– Девушка, что с нее взять! Подойник опрокинет – вот и причина посмеяться!
И такая тоска, такая боль стиснула сердце – рука его дрогнула, и коротко, не к месту прорычала дойра…
– Повезло тебе, парень, – точно кот, дорвавшийся до каймака, сладко прижмурился Яхья. – Сегодня она сбросила с плеч годы, точно змея – старую кожу. Кто знает, что будет. Может, еще увидишь ее в испанском танце. Покажет свои ноги, вот так! – он махнул рукой от бедра к носкам. Сарвар, не остывший еще от игры, уколотый нежданным воспоминаньем, вздрогнул.
– Искусство, искусство! Только и слышишь! – бросил яростно. – В чем же оно – женщина показывает то, что другие прячут?
Одутловатое лицо стало алее петушьего гребня. Словно с высокой горы – на муравья, поглядел на него дутарист.
– Мальчишка, щенок трехдневный, – сказал с презрительным сожалением. – Что ты знаешь об искусстве? И – о женщине? О той, кому дана власть взять душу и встряхнуть ее так, что мир завертится перед глазами? Ты о женщинах мыслишь просто: жена варит обед и няньчит ребят. Что ты знаешь о любви, которую несут через всю жизнь, тайно и бережно?
Гнев преобразил его лицо – крыльями взметнулись вислые брови, отвердели щеки, сумрачный, вспыхнул свет в глазах. И вдруг глянула на Сарвара былая, угасшая красота…
Сарвар молчал, не оправдываясь и не вступая в спор.
«Что я знаю о любви?» – думал он горько, глядя вслед дутаристу. Тот уходил скорыми, сердитыми шагами, мешковатый, сутулый, тяжелый на ногу, в прекрасном костюме, в узких, как лодки, туфлях…
Разве дано душе – понять душу? «Ничего, никому не расскажу, пусть все – во мне, пусть источит меня: имя – есть, человека – нет… – думал Сарвар. – Нет слов, чтобы сказать – как было…»
Вот как было. Сарвар увидел: бежит тень облака по траве, гася зеленое ее сиянье, Шариками ртути катятся серые ягнята-ширази. Сверкает каждая былинка, словно обмакнули ее в хрустальную воду…
Весна. Жуют овцы. Губы их зелены.
Весна. В небе серебряная строчка – журавли.
Весна. Поет кровь, и сердце стало летящим.
Все знакомое – неузнаваемо ново. Разве сассык-курай это – курчавое желтое солнце соцветья на зеленой трубе-стебле? Вечно плачущие четки песчаной акации куям-суяк: несут теперь лиловые серьги. В сиреневом дыму цветенья жесткий кандым. Что это за праздник, эй, люди?
Весна! Просвистел крыльями, сверкнул розовым зобом чернобрюхий бульдурук – «Тчурр!» «Напиться летит, – сказал Шоди-ата. – Пора и нам…»
Холмы прилегли, горбатые, как верблюды. Пыльным облаком в низину рушилась отара. Стоя у суженного горла тропы, дед осаживал, успокаивал ревущих овец, пускал цепочкой, чтоб не лезли ошалело к воде. Хватал за густую шерсть, отталкивал буйных, оберегал слабых.
Сарвар вел верблюда. Над плечом у него покачивалась брезгливая оттопыренная верблюжья губа. Скрипел блок, по нему на канате вытягивался из колодца ковги – кожаный пятиведерный бурдюк. Его подхватывал Джума, – твердели сизые, обветренные щеки; хэкнув натужно, выпрастывал в лоток. В падающем столбе воды вспыхивали и гасли иглы света…
И снова с древней важностью, покачивая гнущейся шеей, шагал до колодца верблюд. Вниз, на сорокаметровую глубину колодца, шурша, полз ковги. Поскрипывал блок.
Ягнята, напившись, потягивались, напрягая спинки. Играли – бегали, неумело расставляя ноги, стукали друг друга крутыми лбами. Не прерывалась топотня их крепких копытцев. Овцы блеяли, тянули морды к лотку.
И так – час за часом: поскрипывает деревянный блок, мельтешат овечьи спины, неслышное кипенье пыли окружает колодец.
Края папахи у Сарвара были мокрые от пота; вытирая лоб рукавом, он сказал сердито:
– Взад-вперед, взад-вперед, точно маятник у ходиков! И ковги этот словно чугуном налит! Давно пора и у нас завести водоподъемники. Насос с мотором – «Эл-100»! Я видел: чабан запускает двигатель, на ворчанье мотора живо сбегаются овцы – привыкли…
– Дедушка ваш осторожен, – ухмыльнулся Джума. – Боится напугать новшеством ягняток, ребяток своих. Да и председатель… Он особого подхода требует! Вот, если сбудутся наши пожелания, попробую сам с ним столковаться…
– Что? Или уходить задумал? Разве все секреты разузнал уже? – засмеялся Сарвар, – Смотри, не прогадай!
– Ничего. Справлюсь. Своя рука своего не обронит, – острым, как взмах ножа, был взгляд этого человека, и Сарвар вдруг понял, что совсем не знает, каков он, Джума, хоть и немало они отшагали по скотоперегонным дорогам, плечо рядом с плечом. «О чем его мысли?» – подумал и тотчас забыл о Джуме. Рваногубый пес Каплан вскинулся, зашелся лаем: всадники вынырнули из-за холма.
Первый сидел грузно. Сверкнуло серебро бороды. Второй… Вторым была девушка. Иннур…
Сарвар узнал ее – и время остановило бег. Как во сне, как сквозь две шапки, пробился к слуху его удивительный голос:
– Книги вам привезли…
И ответ Джумы – с непонятным, беспричинным смешком:
– Автолавка бы лучше приехала!
И степенное возраженье деда:
– Не скажи! Книга – точно знающий друг… Дню – заботы, ночи – раздумья!
Сарвар перебирал, рассматривал книги. Уши у него пылали, словно облитые кипятком. И не глядя, он видел блеск и черноту волос ее, гладко зачесанных, напоминающих о темном глянце ласточкина крыла. «Счастлив камень, на который ступила ее нога», – кружились смятенные мысли. Где-то в другом мире звучал будничный голос старика, приехавшего с ней:
– Вот и я за внучкой. Книгоноша, хэ! Ни девушку, ни деньги не оставляй без присмотра…
…Иннур была рядом. Вольно и гибко двигалась она, перекладывая книги, и медовый ее смех тек в уши:
– Эй, чабан! Дождем ты умыт, ветром причесан…
Это был непостижимо длинный и полный удивительных событий день. Гостей позвали к чабанскому казану. Иннур ломала лепешку узкими пальцами, поглядывала из-под косо взлетающих бровей…
Старики, отобедав, повели степенный разговор. Сарвар взглядывал на гостя – и холод сбегал по спине: ее ведь дедушка!
Старик был величав; седые волнистые усы сливались с бородой, морщины только подчеркивали красоту тяжелого, крупного лица. Как положено, в разговорах осуждал он нынешнюю молодежь, скорую на слово, поспешную в делах, неосмотрительную: молодое вино бродит, молодой конь копытами бьет…
Шоди-ата улыбался вежливо, поглаживая реденькие усы:
– Стариковской силой не сдвинуть гору; все, что знал я, передал молодым.
– Знание не весь еще человек. Вы у нас известный каракульчи, рука у вас легкая, – Атамурад протянул раскрытую ладонь, словно на подносе подал лестные слова. Шоди-ата рядом с ним (жесткий обрез щек, дергливая бороденка) – казался вдруг постаревшим мальчишкой.
И камни мягчит лесть, – старый чабан распрямил плечи, поднял подбородок:
– А что? Плохи разве овцы мои? Выпасаю на участках, известных мне одному…
Оглядевшись сторожко, как маленький ястребок, он нырнул в гущу овец. Вышел, подталкивая коленом в курдюк, подогнал барана:
– Поглядите, почтеннейший…
Баран был горбонос, словно сайгак, с длинной, точно из дерева точеной мордой; уши прятались в завитке четырехоборотных рогов, в шерсти его рука тонула почти до локтя.
Гость, заглянув в янтарные выпуклые глаза барана, умело похвалил. Щрди-ата засветился, будто его зажгли, как лампу:
– Ох-хо, каракуль… Всякий скот дает пользу человеку, но в каракуле – красота, радующая душу. Тридцать две топки я в жизни разжег, семьдесят мастей каракуля различаю!
И, закинув голову, полузакрыв глаза, – так поют длинные и полные страсти песни, – начал припоминать:
– Араби – цвет сажи. Османы булут – цвет неба в облаках. Нукран-пулат – это как вороненая сталь с серебром. И еще шамчирог, что значит «светильник», – этот словно вспыхивает, когда расправляешь его на руке. А ширази? Как описать ширази, цвета дыма, но сверкающий, словно ртуть? Еще бывает камбар, желтый, как осенний лист, или такого цвета, словно кожица спелого ореха. А сур? Это когда у ягненка на темном волосе рыжий или серый кончик. Или гулигаз – когда белый кончик на коричневом. Однажды я видел шкурку гулигаз – розовую, как цветы юлгуна! И еще случалось: ягненок рождался белый, словно вылепленный из снега…
Джума сказал, кашлянув почтительно:
– Людям все мало! В Сурхандарье, я читал, выводят новые сорта каракуля: «серебряный», «янтарный», «бриллиантовый», «червонный»…
– Взглянуть бы на чудесные его шкурки! – покачал головой Шоди-ата. Атамурад сплюнул пренебрежительно:
– Э! Зряшное дело! Из таких шкурок – слишком редкостных – не соберешь лот! Главное в каракуле – не цвет, а завиток! Больше ценится такой, где валик завитка делает полный круг; хуже, когда он идет гривками, еще хуже – горошком. Шкурка не должна быть тусклой, словно пыльной, и не надо ей сверкать, как темная бутылка, у нее свой блеск… Каракуль должен быть «антика» – дивный, шелковистый рисунчатый, как узор ветра на пустынном бархане…
У Шоди-ата глаза мигали растерянно: старик не знал, что такое «лот». Сарвар понял это. Ему, молодому, спрашивать было не зазорно. Он спросил. Блеснули надменные зрачки Атамурада:
– Вы слышали, что я был представителем нашей области на международном аукционе в Ленинграде?
Еще бы не слышать! Все кивнули.
– Там было двести купцов из двадцати четырех стран! – Атамурад замолчал и поглядел на слушателей так, как будто сидел на крыше, а они проходили внизу. – Аукцион – это ведь не кишлачный базар, где два часа торгуют один арбуз. Там продается сразу «лот» – целая партия шкурок, подобранных одна в одну по цвету, размеру и качеству. И зачем им, заграничным, наш гулигаз? Там каракуль красят. Будет в моде зеленый – сделают зеленый, зеленее травы, розовый – так розовый, синий – так синий…
Сарвар, слушая, перестал понимать, о чем речь: подошла Иннур. Он видел ее, не глядя; отвечал наугад: кровь гремела в висках, сердцу тесно было в груди. «Чудо мое, белый ягненок, – думал он смятенно, – ни с кем в мире не бывало такого…»
Уехали гости.
– Каракуль красить, а? – дед забрал бороденку в кулак. – Почему бы им не выкрасить небо? И этот – тоже! Лишь бы продать. Кому, зачем – не думает. Купец!.. И отец его торговал, и дед. В крови, в костях у него торгашество это…
Джума хмыкнул неопределенно. Встал, потянулся, – лицо, как из камня, серое, равнодушное, – начал собирать посуду.
Отдирая прилипший к стенкам казана жир, думал Сарвар: «Упасть бы лицом на землю, где прошла она…»
* * *
Можно ли говорить с человеком, когда его нет рядом? А Иннур говорила с ним.
Тогда, в тот удивительный день – роняя отвыкшими пальцами, – хватал он книги и откладывал снова. Иннур сама отобрала стопку: «Вот, прочти. Это – о людях высокой жизни».
Люди высокой жизни? Что это значит?
Он читал ночами, лежа на животе, направив на страницу луч карманного фонаря. Шепот трав, звон ветра, хруст пережевываемой овцами травы – не мешали ему.
Беззвучно кричали черные буквы. О разных, совсем не похожих людях. О юноше, прозванном «Лукмонча», об этом маленьком парикмахере в очках, который встал на дороге у смерти, и она отступила – взяла лишь его одного. О человеке, «оседлавшем тигра», о том, кто не вынес бремени славы и удачи в мире униженных и несчастных. О красавице Джамиле, о любви ее, горькой, как полынь, и широкой, как степь, о правой неправоте ее…
Люди высокой жизни говорили с Сарваром. Отрываясь от книги, он смотрел вокруг, словно внезапно пробужденный, не узнавая своей степи, деда, себя…
А в степи догорала весна. Травы сменили обличье. На склонах холмов лежали, как оброненные газеты, огромные листья сары-андыза, пожелтелые, прожженные солнцем. Шапками спутанных, пружинящих веток скатывался в лощины сассык-курай. Ветер покачивал белые султаны селина, надламывал стебли ширача, сухие, утратившие розовую весеннюю красу…
Сарвар глядел с холма на текучее пятно отары в низине. Вон Джума – объезжает отару верхом. Собаки обегают ее с другой стороны. Застыл дед на холме, подперев подбородок таяком. И всюду – степь, и виточка горизонта лишь отделяет ее от бесконечного неба…
Мир – широк! «Чу!» – Сарвар страгивал с места Солового, мчался вдаль, безоглядно. Сила не вмещалась в сердце, оно торопилось, обгоняло топот коня…
Все тут спит, все застыло – степь, овцы, дед…
Раньше он думал: я чабан, потому что мой дед чабан. Потому что чабанское дело – мужское, суровое дело. Ты чабан – значит, ты силен, ловок, смел, не боишься степных буранов, не боишься волков. Ты горд собой, и люди тебя уважают.
Теперь ему думалось: за что?
За то, что ты – щедр. За то, что твоя сила и смелость – ради других, чтобы дать им, людям, то, в чем нуждаются они, чтобы жилось им тепло, удобно и сытно, чтобы могли глаза видеть красоту, а сердце – радоваться ей…
Ведь и они думают о тебе – другие люди. Зажгли в твоем приемнике зеленый глазок – чтобы музыка гремела, побеждая свист ветра, чтобы в степи своей, заметенной снегами, ты слышал дыханье мира. Дали тебе одежду и обувь, и ружье, чтобы бить волков, и фонарик, чтобы светить на страницы книги.
И если есть в тебе сила – не дремать же ей, не ходить крепким, как сталь, ногам одними проторенными тропами, не кружить же мысли, как, мошкаре, вокруг прежде зажженного света…
Он налетел на деда:
– Годы наши-похожи один на другой, точно кусты полыни. Все крутимся, как верблюд на привязи. От колодца к колодцу, по истоптанным овцами путям. Скажете, без воды не проживешь.-.. Скважины надо бурить! Из-под земли доставать воду! Узун-дара, если обводнить, – отарам там не тесно!