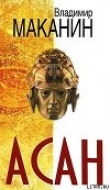Текст книги "Знамя Журнал 8 (2008)"
Автор книги: Знамя Журнал
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Алексей Дидуров
В раю беспросветного ада
Алексей Дидуров.
Райские песни. – М.: Время, 2008.
Соотношение текста (стихотворения) и контекста (можно сказать, судьбы) – ключ к пониманию любого поэта.
Бывает, что контекст превалирует над текстом. Знаю многих широко известных, даже овеянных славой авторов, прошедших войны, лагеря, ссылки, психушки и т.д. и т.п. и пишущих (увы, увы!) стихи на уровне плохого литературного объединения. И биографии им помочь не могут.
Известны другие случаи, когда в высшей степени превосходные поэты (скажем, Георгий Оболдуев) так и остались авторами для узкого круга, потому что не обладали легендарными биографиями и не сумели, говоря словами классика, “привлечь к себе любовь пространства”.
Важен баланс. Баланс между словом и жизнью.
Алексей Дидуров (1948 – 2006) был, безусловно, харизматической личностью, постоянно находящейся в центре внимания; он создал в глухом застойном 1979 году легендарное рок-кабаре, где выступали Виктор Цой, Майк Науменко, Юрий Шевчук, Александр Башлачев, Булат Окуджава и многие-многие другие знаковые фигуры, воспитал десятки достойных поэтов, написал множество песен (в том числе и незабываемый шлягер “Когда уйдем со школьного двора”). То есть абсолютно состоялся как личность, организатор, лидер неформального творческого коллектива. Об организаторских способностях Дидурова, его приключениях и похождениях, возлюбленных и женах ходили и до сих пор ходят легенды. Важно, что при этом он не разбазарил свои недюжинные литературные способности и сумел (усилия в этом деле все-таки нужны!) состояться как поэт. Не “проклятый поэт”, как пишет автор предисловия Дмитрий Быков, не великий поэт (как наверняка напишет кто-нибудь другой). Как поэт. Эпитеты в данном случае необязательны.
Дидуров при жизни (особенно в постсоветскую эпоху) был достаточно известным литератором, он печатал стихи в престижных “толстых” журналах, в частности, “Новом мире”, “Дружбе народов”, “Волге”, как публицист регулярно выступал на страницах “Огонька”, старой мальгинской “Столицы”, в других изданиях. Выпустил пять сборников стихов. Его книга прозы и поэм “Легенды и мифы Древнего Совка”, согласно рейтингу журнала “Огонек”, в 1995 году вошла в десятку лучших книг России. Словом, вниманием этот талантливый и энергичный человек, конечно, обделен не был. Несмотря на то что долгие годы он существовал в андеграунде, основные свои стихи он успел увидеть опубликованными.
Очень точно о поэте написал на сайте http://www.bard.ru/article/19/36.htm известный прозаик и публицист Леонид Жуховицкий: “Если Алексея Дидурова назовут неудачником, это будет чистая правда… …Если Алексея Дидурова назовут счастливчиком, это тоже будет чистая правда”. Лирический герой Дидурова абсолютно экзистенциален – это человек, понимающий, что земная жизнь это и есть ад, но в аду он умудряется быть счастливым (“и в раю моего / Беспросветного ада). Поэт совершенно не чурается жутковатого быта (“диких коммунальных нор, / Откуда шаг до нар”), более того – он дорожит этим бытом, этой треклятой советской и постсоветской чернухой (она тоже жизнь и тоже любовь!) и даже воспевает ее, как, например, в замечательной поэме “Рождение, жизнь и смерть сонета”: “…я потому и жил, / и жив, что из меня тянули жилу, / и тянут кто-нибудь зачем-нибудь / и как-нибудь – и тянется житьишка, / а не тянули бы – глядишь, и крышка, / о чем и ты, читатель, не забудь”.
При этом Дидуров как истинный поэт очень явственно чувствовал приближение кончины, видимо, сама жизнь диктовала ему трагические строки: “В переулке, где мы отлюбили, / Тишины стало больше и мглы. Постояли, пожили, побыли, / Разошлись за прямые углы”. Или еще более конкретно в суггестивном и горестно-лаконичном стихотворении “Ровесникам” – “Когда-то были мы. Теперь нас нет”.
Что за этими словами? Смерть, пустота? Для кого угодно, но только не для Дидурова. У него, как мы заметили, все рядом. И уже в стихотворении “Старый рок”, опубликованном в книге, читаем самоироничные, печальные и легкие одновременно, невероятно дидуровские стихи: “Мы проиграли, ну так что ж! / Наш финиш разве не хорош?”
Какие же выводы? Выводы жизнеутверждающие. Мы проиграли, но это не страшно. Важно, что мы играли. Нас нет, но мы все-таки есть. Все по проверенным классическим пушкинским канонам – “Нет, весь я не умру”.
Вот так все переплелось в поэзии Алексея Дидурова: жизнь и смерть, андеграунд и номенклатура (одно время он умудрился быть секретарем Союза писателей Москвы), высокий стиль, жаргонная и обсценная лексика, протестные рок-интонации и нежнейшая лирика, влияние (нередко взаимовлияние) самых разных поэтов (от Слуцкого и Евтушенко до Ряшенцева и Башлачева) и собственный, ни на кого не похожий голос. На этих социально-культурных изломах и пересечениях и выкристаллизовался поэт. Поэт, мастер, улавливающий абсолютным музыкальным слухом тончайшие нюансы слова.
Здравствуй, мое искаженье, сезамский близнец!
Эк мы: из склепа – да в смежную комнату смеха:
Вот и пузец не влезец в молодецкий куртец,
Вот нас и оттепель мочит в торец, наконец, -
Шепчешь: “Эпоха!” – “Э, плохо…” – читаю, как эхо.
Дидуров, верный сын центрового московского двора, “введенный им во дворянство” (Окуджава), аккумулировал в своем творчестве просторечный и бытовой городской словарь, переработал его, и опоэтизировал, и вернул назад – своему читателю и слушателю.
В приведенной выше строфе, написанной, безусловно, крепким профессионалом, перекликаются и подростковые жаргонные словечки (пузец, куртец), и высокие патетические размышления о главном – о времени, о поколении, об Эпохе, которая одновременно, выражаясь его языком, и склеп, и комната смеха.
Интересно, что при всем своем эпическом сознании Дидуров оставался весьма самокритичным и самоироничным автором (“Ты прожил больше полувека – / А ничего не понял в ней”), не избегал (особенно в песнях) дворовых, полублатных интенций, имплантировал глобальные и афористичные рассуждения о жизни в нежную ткань трогательных и щемящее-пронзительных лирических стихотворений.
Живем в тисках минут, хватаем, что дают,
Забыв про Страшный Суд, все чушь и ложь несут,
Рождают горы мышь, в рабах у ней коты,
Скажи мне, с кем ты спишь, и я скажу, кто ты.
Родился – и давай, по рельсам, как трамвай!
Сошел – не обессудь: по кочкам понесут.
Не прешь за наш рубеж – имеешь гладь и тишь!
Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, с кем спишь!
И жизнь бежит вперед, а мы спешим назад!
Молчанья полон рот, звучанья полон зад…
Сгущается удел, сжимаются мечты.
Скажи, чего хотел, и я скажу, кто ты.
От нашего мурла краснеют зеркала.
Вот-вот при виде нас начнут кричать “атас”.
Ничто не сходит с рук, пока не свистнет рак.
Скажи, что ты мне друг, и я скажу, кто враг.
Книга “Райские песни” очень квалифицированно составлена – здесь нет проходных стихов (вообще они у Дидурова встречались), собраны воедино его поэмы – “Детские фотографии”, “Рождение, жизнь и смерть сонета”, “Кафе на Васильевском”, “Бумажные часы”, “Посрамленье лимита”, “К самому себе”, “Снайпер”, “Из записок Казановы”.
Хорошо, что к сборнику прилагается диск, где Алексей Дидуров исполняет собственные сочинения. Песни Дидурова требуют отдельной вдумчивой рецензии, а точнее – исследования (исследований). На двадцатиминутном диске представлены замечательные песни – “Опять я трогаю рукой”, “Москва моя, мама, невеста”, “Дом-“хрущевка”, дворик проходной”, “Топот, смрадное дыханье, трели мусоров”, “Когда это было, века ли промчали, года ли”, “Сядь на скамейку – посмотри на перспективу”, “Секу точней и голоднее волка”, “Не пиши мне, прелестница, писем”, “Ярится над Столешниковым лето”, “Я подошел сейчас к окну”, “Я жил с вокзала – да в подвал”.
Как бард Дидуров воспитан городским романсом, дворовой песней и французским шансоном (есть некоторое влияние Брассенса). Конечно, в основе песен Дидурова – самоценные стихи, а не мелодия. Это песни, трогающие своей неподдельной мальчишеской искренностью, выражающие и личность художника, и время. Алексей Дидуров стоит в первом ряду мастеров бардовской песни – наряду с Галичем, Хвостенко и Башлачевым. Со временем, я думаю, это станет все более очевидным.
Евгений Степанов
М.Б. Горнунг. Зарницы памяти
Кентавр
М.Б. Горнунг
. Зарницы памяти. – М.: Нумизматическая литература, 2008.
“Блажен, кто, получив родителей честных, / Воспитан в строгости обычаев святых”, – эти слова ставит эпиграфом не только к главе “Начало памяти и фотографии из детства”, но и к своей жизни географ-африканист Михаил Борисович Горнунг, в течение многих лет возглавлявший в Институте географии РАН лабораторию глобальных проблем, выдающийся московский нумизмат (гены) и, как оказалось, прирожденный литератор (гены). Он выпустил книгу, жанр которой в издательской аннотации определен как мемуарный; по сути, это книга рассказов non-fiction, как мы сегодня именуем этот любимый читателями (и писателями) “отсек” современной словесности.
“Должно быть преодолено по-прежнему встречающееся мнение, что такие крупнейшие таланты того времени, как А. Ахматова, О. Мандельштам, Б. Пастернак и еще несколько поэтов и писателей, в основном уходящие своими творческими корнями в дореволюционную эпоху, должны считаться хотя и гениальными, но как бы одиночками “в могучем потоке советского литературного процесса”. Они не были одиночками. Вокруг них были жившие одной с ними духовной жизнью сверстники и целое поколение отделенных по возрасту от мэтров всего 5-10 годами – младших братьев по перу. Именно их Анна Ахматова назвала “поколением, которому не дали раскрыть рта”. О многих из них забыли надолго… По существу, была у нас после тех лет своего рода вынужденная “внутренняя эмиграция”, но не политическая, а творческая, о которой мы все еще действительно мало знаем…”
Эти слова – из очерка о Борисе Горнунге, не вошедшего в рецензируемую книгу, – принадлежат перу сына, Михаила Горнунга.
Есть имена и фамилии, без которых невозможно представить культурную (и литературную, конечно) историю России. Фамилия Горнунг – из их числа.
Ни один из тех, кто читает (и пишет) о Пастернаке, Ахматовой, Тарковском, не скажет, что эту фамилию встречает впервые. Без портретов и воспоминаний Льва Горнунга историк литературы ХХ века не обойдется. Но мало кто знает историю самой этой фамилии в старинном смысле этого слова, – фамилии как семьи.
Еще в 1703 году студент-дуэлянт Иоганн-Иосиф Горнунг переменил страну обитания. Из Германии переехал в Голландию, затем в Голландии же завербовался в Российский военный флот, а после – самим Петром Великим был определен в императорскую Иностранную коллегию.
Судьба рода смогла бы представить сюжет не для одного исторического романа; достаточно упомянуть, что обрусевший правнук “первого” из российских Горнунгов, гусар, воевал с Наполеоном; что основоположник московской ветви Иосиф Иванович Горнунг – выдающийся нумизмат, один из учредителей Московского нумизматического общества; что его сын Владимир в годы Первой мировой войны был одним из организаторов Российского Торгово-промышленного союза; что его сын Борис, брат Льва, был филологом, лингвистом, переводчиком и поэтом. В 20-е годы вместе с Ю. Верховским, М. Кузминым, Б. Лившицем, С. Парнок, Г. Шпетом Борис Горнунг участвовал в создании неподцензурных альманахов “Гермес”, “Гиперборей”, “Мнемозина”, позже работал в ГАХН, возглавлял научно-библиографический отдел в “Румянцевке”, был ученым секретарем этой библиотеки (избегая называть ее “Ленинкой”); академиком М.М. Покровским, который высоко ценил его, был приглашен в ИМЛИ и там руководил группой античной мифологии.
“Мандельштамовское общество” в серии книг своей “Библиотеки” выпустило в 2001-м два тома трудов Бориса Горнунга, куда вошли, кроме научных статей, и эссе, и воспоминания, и стихи.
Это никак не размышлизмы, хотя мыслей и горьких наблюдений, над которыми стоит задуматься, в книге хватает, – это собрание пестрых глав насыщенной жизни, эпизодов, динамично (каждый рассказ – не больше нескольких страничек) сменяющих друг друга. Картин и картинок действительности. Прежде всего московской. Автор – коренной москвич, великолепно знающий свой город благодаря еще детским прогулкам с отцом по Москве, “кругами” – от ближайших улиц, где обитало немалое семейство Горнунгов, которых постепенно “уплотняли” в квартире, так что Борис Владимирович до самой своей кончины предпочитал работать в любимом первом зале “Румянцевки”, до расходившихся подальше (особенно если денег, которых всегда у семьи было в обрез, хватало на трамвайную поездку) переулков. Вкус, цвет и запах времени восстановлены, причем восстановлены весело, иронично (и с самоиронией – тоже). “Благословляют” московский корпус текстов слова Ахматовой, поставленные эпиграфом к рассказу “Почему я появился на свет”: “Все в Москве пропитано стихами, / Рифмами проколото насквозь…”.
И неслучайно начало детской памяти положено сильным впечатлением – выносом гроба Маяковского (у гроба – отец) на Поварскую улицу: там напротив дома, на груде битого кирпича, где потом вырастет здание “дома безработных актеров”, стоит маленький мальчик, Миша Горнунг.
Помнит он и взрыв храма Христа Спасителя – вместе с родителями он, шестилетний, “стоял в толпе рыдающих и молящихся”.
Московская родина Михаила Горнунга – это Балчуг; рассматривая свои детские фотографии, он доносит до читателя и запах лавок с “москательными товарами”, и ход “речных трамваев”, что плыли тогда по Канаве, и облик церкви “Георгия в Яндове”, где автор был крещен. Автор фото, конечно, – дядя, Лев Горнунг. “Я помню этот мир, утраченный мной с детства, / Как сон непонятый и прерванный” (строки Валерия Брюсова – эпиграф к еще одной главе-рассказу). Арбат. Малый Власьевский, Александра Васильевна, дававшая уроки французского (как же без французского-то) не только Мише Горнунгу, но и Семену Буденному. Случилась и встреча. Вот – о встрече память: “Возможно, Буденному было не очень приятно чувствовать себя школяром рядом с тщедушным “шкетом”, а может быть, даже нутром он чувствовал во мне этакого недобитка…”. Пятницкая, да и все Замоскворечье, Большой Овчинниковский, Климентовский, Черниговский, две Татарские с “зажатой между ними” мечетью. Эйнемовский магазин. Китайская прачечная в подвале – в больших шайках мужчины-китайцы стирают белье, а дети (и среди них – автор), стоя на корточках, заглядывают в низкие окна…
Горнунги жили более чем скромно, но старались каждое лето вывозить детей на дачу. Если московские детские маршруты прогулок с отцом были продуманны – “чтобы постепенно уяснялась последовательность исторических событий, складывалось понимание архитектурных стилей и ансамблей, откладывались в памяти имена великих людей. Их деяния и многое другое, что должно создавать целостность личности и чувство национальной гордости”, – то в перечисляемых дачных местах тоже застыла живая история. Пешие прогулки – в Мураново, Абрамцево, Хотьково, даже в предместья Сергиева Посада, к исчезнувшим скитам. Вместе с мамой – на станцию Софрино, где в станционном буфете подавали (именно – подавали) чай с двумя кусочками пиленого рафинада (брать больше двух стаканов не разрешалось). И там же, бродя по дачным окрестностям, в лесу дети наталкиваются на высокий забор из ржавой колючей проволоки, за ним копошатся, отрезая и жаря на костре куски мертвой лошади, лежащей тут же, бледные, тощие люди в резиновых, из шин, опорках: “Дети, не надо вам смотреть сюда. Идите домой, идите скорей и будьте счастливы”. Близкие загорянские места – места концлагеря для заключенных, строящих канал “Москва – Волга”.
В “Библиографическом указателе”, выпущенном к юбилею М.Б. Горнунга в 2006 году, автор предисловия и составитель Маргарита Зотикова вспоминает направление социально-культурной антропологии, заданное спецкурсом писателя, профессора РГГУ Даниила Данина, – кентавристика. Именно наш герой, с его библиофильством (уже сто пятьдесят лет насчитывает библиотека Горнунгов – одно из старейших частных книжных собраний в России), собирательской любовью к экслибрисам (в 2001-м 75-летию Михаила Борисовича Горнунга была посвящена выставка “Человек и книга”), с его нумизматикой, географией, африканистикой и проч., и проч. и является живым и энергичнейшим примером “кентавристики”. Научные его интересы, связанные с полевыми маршрутами в Африке, с работой в Экономической комиссии ООН, – не исключают, а подчеркивают общую направленность сей жизни: деятельный гуманизм.
…А после 20-х, после лет замечательно обустроенного родителями (не бытом, более чем скромным, а воспитанием) детства, порой и голодного, – 30-е, студенческие; потом война, эвакуация, Ташкент, армия. Среди имен, населяющих страницы книги, – Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Мария Степановна Волошина (“Левушкин племянник”), Пабло Пикассо (от которого автор получил в подарок парочку рисунков), Рокуэлл Кент. Женева и Брюссель, Лондон и Рим, Аддис-Абеба и Таормина. Насер и ее высочество эфиопская принцесса в качестве секретаря: нет, это не “приключения”, это все – весьма нелегкая работа, о которой поведано со вкусом авантюрности в самом лучшем смысле этого слова.
В книге М.Б. Горнунга ХХ век показан через жизнь и приключения ее автора. Хронология здесь не выдержана – не в ней дело, а в живости изложения событий, как они вспомнились. В живости самого, как скажем мы сегодня, дискурса: “Рассказики писались… исподволь в течение лет тридцати с гаком…”. Автору “на девятом десятке лет уже не осталось времени на долгие размышления” (вот пример горнунговских шуточек), в дискурсе превалируют существительные и глаголы, а повествователь обходится без метафор и сравнений. Без чего он не обходится, так это без чувства юмора: оно его никогда, даже в опасных африканских приключениях, не покидает.
Много слов говорится ныне о значении семьи, о ценности “семейного гнездовья” для общества. Во всех смыслах – в историческом, в культурном, в литературном тоже – и в научном, конечно, – семья Горнунгов, три столетия служащая русской культуре, науке, промышленности, сама служит, на мой взгляд, одним из славных и редкостных, уникальных примеров богатства этого понятия.
Свою не опубликованную при жизни рецензию на “Шум времени”, оставшуюся в семейном архиве, предназначенную для рукописно-нелегального (первые опыты самиздата, еще из 20-х ведущего свое грустное происхождение) журнала “Гиперборей” (“самиздание” которого в 15 экземплярах прекратилось, скорее всего, на втором выпуске) Борис Горнунг начинает цитатой из Мандельштама: “Никогда не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. …Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова”. Да, у разночинца предки теряются в исторической дали – чаще всего даже имен своих прадедов разночинцы не знают; какие уж там архивы. Более того: то, что биография вообще не нужна, вскоре докажет революционная необходимость. Но полемическое mot молодого Мандельштама будет опровергнуто его собственной трагической биографией, – а “семейственные архивы” тех, для кого революция – “факт неприятный и невыносимый”, станут спасительным и драгоценным прибежищем. Наша благодарность тем, кто их любовно сохранил, тщательно разобрал, опубликовал, восстановив историю рода и продолжив ее своей жизнью и своими воспоминаниями. Подтвердив, что “род” и “благородство” – слова однокоренные.
Наталья Иванова
С.В. Светана-Толстая. Русская речь в массмедийном пространстве
Человек говорящий
С.В. Светана-Толстая.
Русская речь в массмедийном пространстве. Под ред. профессора Я.Н. Засурского. – М., 2007.
Уже само имя Я.Н. Засурского, редактора книги и автора вступительного слова, заставляет отнестись к книге с заведомым вниманием. Я. Засурскому привыкли верить, и не только исчисляемые десятками тысяч выпускники возглавляемого им факультета журналистики МГУ – к слову сказать, самого большого во всем университете. Ни он сам, когда писал предисловие, ни автор книги, конечно, не вспоминали оппонентов журфака, любителей рассуждать: дескать, зачем в МГУ нужен факультет, когда, например, в Японии для этих целей есть всего лишь школы журналистики? Журналистика не наука – таков несложный ход их мысли – значит, изучать тут и нечего… Хочется спросить: почему Япония? Почему не Венесуэла, к примеру? Не Франция? Надо ли нам обязательно брать пример с кого-то? Вопросы возникают неизбежно, задавать же их бессмысленно: противники фундаментального, качественного журналистского образования к дискуссии явно не готовы и на нее не рассчитывают.
Последние по времени такого рода сомнения раздавались в конце прошлого года, но были они неновы, а когда начались, никто, скорее всего, теперь не скажет: никому не интересно. Ломать не строить, а книга С. Светаны-Толстой издана к 60-летию журналистского образования в нашей стране и в год русского языка. Это говорит о том, что пока сомневающиеся щедро делятся, устно и печатно, в радиоэфире и Интернете, своим скептицизмом, в МГУ продолжается (и не прекращалась) каждодневная исследовательская работа. Рецензируемая книга – малая, но важная ее часть.
“Проблема текста, – говорит Я. Засурский в предисловии к книге, – выходит из сферы лингвистики в сферу более широкого общения в СМИ и между СМИ. Появляется так называемый универсальный журналист, который с использованием цифровых аппаратов может записать текст, речь, фильм, изображение, материал для радио, телевидения, а затем оперативно его передать”.
Итак, слово постоянно взаимодействует с другими – внеязыковыми – явлениями. Как оно ведет себя при этом? Что меняется в нем от соединения с видеорядом? В прошлом тележурналист, потом студентка и аспирантка факультета журналистики МГУ, ныне доцент, С. Светана-Толстая как лингвист давно исследует телевизионную речь. Первую часть книги составляет монография “Телевизионная речь. Функции и структура”: впервые она была издана в 1976 году. Ее сопровождает состоявшаяся тогда же дискуссия о терминах. Вторая часть книги названа “Очерки новой русской риторики” и состоит из статей, написанных за последующие годы. Во многом они результат общения со студентами и работы С. Светаны-Толстой шеф-редактором периодического издания “Журналистика и культура русской речи”.
Что заставило автора и издателей обратиться к монографии тридцатилетней давности? Переиздание показывает: она не устарела, не потребовались никакие изменения концепции под диктовку времени, но многие проблемы звучат сегодня даже более остро, чем тогда. Единственный термин можно было бы подправить: аббревиатура СМИП (средства массовой информации и пропаганды, как писали в советских условиях), потеряла одну букву. Зато все мы приобрели от этого неизмеримо много. А три десятилетия и совсем не срок для языка. Он выдержал послереволюционный напор, выдержит и новые напластования, которые в свой черед так же отомрут. В этом отношении наше время, думается, не уникально.
Но “новые “языковые переживания” в массмедийном пространстве”, как справедливо пишет С. Светана-Толстая, требуют осмысления. “Телевидение действительно заняло ведущие позиции… Представляется, что как раз настала пора заняться углубленным изучением содержания”. Кажется, будто это написано сейчас.
Вообще многие положения книги сегодня звучат и правда актуально. Например: “Живое, обращенное к аудитории слово телевизионного публициста. Мы привыкли к нему, оно нам нравится, но и требования у нас сейчас к нему повышенные. Нравится то, чему веришь. Доверяешь знающему”. Автор имеет в виду профессиональную компетентность журналиста, его осведомленность, но и понимать специфику звучащего слова, внеязыковой контекст, в котором работает слово на телевидении, тоже нужно. Книга писалась тогда, когда еще в памяти был всеобщий восторг от “голубого экрана”, и хотя уже вряд ли ходили к соседям замирать перед ним, да и сам экран стал цветным (о, чудо!), но от ТВ еще ждали чего-то необыкновенного. Чудеса – что касается новых технических возможностей – действительно имеются. Но вот происходит ли чудо в тележурналистике как творчестве? Тут многие, наверное, испытывают ощущение оскомины, если можно этим словом назвать несбывшиеся ожидания.
А между тем синтез “изображение – звук – слово” дает и особую телевизионную речь (в 1976 году об этом термине спорили, теперь он стал общепринятым), и новые возможности пишущему – говорящему. Благодаря “картинке” можно столкнуть прямое и переносное значения слова, можно переместить слово “в новое лексическое окружение”, и оно приобретет другие оттенки смысла… “В телевидении практически любое слово может стать образным, если его дополнительную семантическую и экспрессивную характеристику создают окружающие слова и параллельный изобразительный ряд”. Даже нейтральные слова способны нести оценку (например, при иронической интонации говорящего).
А в то же время возникает и реально существует другая проблема – речевых клише. Они “удобны как для пишущих, так и для читающих (прибавим – слушающих), потому что, как однажды и на многие годы вперед “оправдал” журналистов ученый, “трудно писать быстро и правильно, не прибегая к избитым выражениям”, – цитирует С. Светана-Толстая французского лингвиста Ш. Балли. А среди отечественных филологов, на исследования которых опирается автор книги, – Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, Б.А. Ларин, В.Г. Костомаров, Г.Я. Солганик… Труды последних двух названных ученых известны, конечно, каждому профессиональному журналисту.
Все это нужно знать телеведущему, диктору, редактору. Р. Кармен, обращаясь к читателям первого издания книги, говорил о ее важности для него как кинодокументалиста. Так что книга, надо думать, своего читателя найдет.
Но проблемы, связанные с экранным словом, еще остаются. С одной стороны – озабоченность многих и многих валом низкой, в том числе блатной и обсценной, лексики, хлынувшей в литературу и журналистику. А с другой – об этом как-то меньше говорят – обезличенная, выхолощенная речь полуинтеллигента, мещанская правильность, “галантерейность”. Что можно противопоставить тому и другому? Только истинную культуру речи свободного, творческого человека, не боящегося собственного слова. А ведь это нельзя сыграть, невозможно имитировать. “Проблемы лингвистики – сущностные”, – пишет Я. Засурский. С ним нельзя не согласиться.
Екатерина Орлова