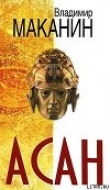Текст книги "Знамя Журнал 8 (2008)"
Автор книги: Знамя Журнал
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
Сергей Гандлевский. Некоторые стихотворения: новые и избранные
Все сбылось
Сергей Гандлевский.
Некоторые стихотворения: новые и избранные. СПб: “Пушкинский фонд”, 2008.
Вряд ли автора кто-то ужимал в объеме книжки: просто-напросто столько написалось нового, столько подверсталось (хронологически) к новому избранного. Сколько, кстати? Из 70-80-х годов всего лишь семь стихотворений. Круто. Мог бы, например, и “Устроиться на автобазу…” вспомнить, – не стал. А не так давно в коробке клуба “Улица ОГИ” я был свидетелем: автор у микрофона затруднился в чтении этого стихотворения – ему помог друг Бахыт и тихий хор всей (!) аудитории, состоящей из молодых с редкими вкраплениями седин и проплешин. Наизусть.
Между тем в “Некоторых стихотворениях” охвачено 35 лет стихописания: с 73-го по сей день. Срок не только репрезентативный, но и вполне укладываемый в целую жизнь – скажем, гумилевскую. По-видимому, Гандлевский, избрав те самые сакральные семь стихотворений, задумал начертить некую линию пути. Его “Будет все” в начале книги отзывается конечным стихом “ты не поверишь: все сбылось”. Порция сарказма не разъедает внятной мысли. В чем она?
Начнем издалека. Очень важно, с прописной или строчной начинается строка. От этого зависит тональность прежде всего, не говоря о графике. Прописная отсылает к высокой ноте. Ранний Гандлевский настроен на высокий звук с постоянным снижением до строчного состояния. Пикируя с вышки прописной, он с головой ухается в материал, нередко неприглядный, часто сильно соленый, с тем чтобы, вынырнув оттуда, в начале следующего стиха опять влезть на оную вышку. Такой пляж. Такая купалка. Собственно, таково мироощущение.
В этом смысле ничего не изменилось. Кроме того, что в новых стихах некоторые нечетные строки изменяют большой букве. Появилось ё вместо е. Столбик порой деформируется, четкая строфика и пунктуация не всегда обязательны. И вообще, кажется, в новом тысячелетии Гандлевскому стал тесен метрический канон, ровный размер расшатывается временем “сукомольцев и прочей шпаны”. (Я не нашел у Даля сих “сукомольцев”, но поверил поэту на слово).
Это чужое время. “И глаза бы мои не глядели, как время мое / Через силу идет в коллективное небытие. / Обездолят, вконец раскулачат – и точка”. Здесь он, заметим, придерживается прописной. Как за ствол дерева держится.
Есть ли что раскулачивать? Иными словами, как насчет вечных и личных ценностей? Вопрос риторический. Основы прежние. Детство да молодость. Все, что входит в эти понятия. Самое простое: любовь, дружба, родители, поэзия, отечество… И оно? Да. “Для отечества нет посторонних, / Нет, и все тут…”. Тут поэт борется с Богом, проще говоря – с учителем. “Учитель, не учи”. Напоминаю мандельштамовскую самоаттестацию: “отщепенец в народной семье”.
Четверть века назад, в 84-м, сказав “нет посторонних”, Гандлевский отвечает на отъездные соблазны той поры, для него, похоже, нет вопроса, где ему быть – там или здесь? “Нет, и все тут”. Проблема отщепенства снята. По крайней мере, для себя. Правда, картина кровной принадлежности отечеству выглядит так: “Пруд, покрытый гусиною кожей, / Семафор через силу горит, / Сеет дождь, и небритый прохожий / Сам с собой на ходу говорит”. Все это – дальний вид из-за колючей проволоки зоны.
Где-то тогда же для Гандлевского начался “вокзал в провинции”, поначалу такой: “Наша станция как на ладони. / Шепелявит свое водосток. / О разлуке поют на перроне. / Хулиганов везут на восток”, – вокзал, очень, кстати, похожий на вокзал того же Осипа: “Далеко теперь та стоянка, / Тот с водой кипяченой бак, / На цепочке кружка-жестянка / И глаза застилавший мрак”. Но есть существенная разница. Мандельштам со своего вокзала “без пропуска в Кремль вошел”. Мы знаем, в какой Кремль он вошел. Гандлевский тоже хорошо это знает. Ему такие сны не снятся. Вокзал оказался вещью вечной, в некоторой мере вечной ценностью, пронизав чуть не целиком и полностью его “Некоторые стихотворения”. В принципе, на русской железной дороге ничего не меняется: “Пусть пройдет вдоль вагона с жестокой зевотой / Милицейский патруль”.
Но вот заявлено же с самого начала: “Отгоревать и не проклясть!” (1973). Отгоревать не получается, вряд ли получится, но и проклятий нет и не будет. При всем врожденном максимализме этот поэт не склонен к решениям истерически крайним и бесповоротным. В юности он имел дело с такими девочками, как провинциалка-душа и длинноногая муза, обе они состарились уже тогда, и те возрастные кульбиты были столь же неподдельно реальным ощущением, сколь данью неистребимому романтизму отечественного строя поэзии.
Блок некогда назвал Тютчева “неисправимым романтиком”, и это – факт, в котором не усомниться, если прочесть, скажем, такие стихи двадцатипятилетнего Тютчева: “И новое, младое племя / Меж тем на солнце расцвело, / А нас, друзья, и наше время / Давно забвеньем занесло!” Романтик начинает стареть в утробе матери.
Когда у двадцатилетнего Гандлевского возникает модернизированный, в соответствии с текущими реалиями, образ горбуна: “Педалями звеня, / Горбун проехал на велосипеде / в окне моем”, – ясно, что автор действительно видел этого уродца, но он еще читал и Блока с Белым – слишком символистически маркирован объект наблюдательности, устроенной так, а не иначе. Да, в стихах многое опосредовано, можно допустить и случайность возникновения того или иного стихового факта, не осознанного тем или иным автором, но давно существующего, однако в случае Гандлевского отрефлектированная укорененность в прежней русской поэзии не подлежит сомнению. Я здесь обронил “романтизм”, сам он некогда придумал “критический сентиментализм” (применительно к Кибирову, кажется), то и другое – от фонаря, метафора, ненаука, нефилология. Однако.
Если уж прибегнуть к девальвированному и в принципе неточному термину “время застоя” относительно 70-х, когда Гандлевский начинал, то, может быть, будет уместно употребить словосочетание “страдальческий застой”. Опять Тютчев. Но привязывать Гандлевского к тютчевской ветви немного оснований хотя бы в силу таких стихов: “Доходи на медленном огне / Под метафизические враки”. – Курсив мой.
По молодости лет Гандлевским было сказано в его эмблематичной вещи: “Самосуд неожиданной зрелости, / Это зрелище средней руки / Лишено общепризнанной прелести…” – возможно, от тютчевской “прелести осенних вечеров”, тем более что тут же добавлено: “Молчание / Речь мою караулит давно”. Недавно он себе посоветовал: “Бери за образец коллегу Тютчева – / Молчи, короче, и таи”. – Курсив мой.
И вообще: “Короче говоря, я безутешен”, “Отсебятина, короче”.
Эхо улицы, между прочим. На которой, если внезапно подслушать, напр., разговор прохожих девушек, ничего внятного, кроме этого “короче”, не услышишь.
Так или иначе, тютчевский призвук у него появился с годами. Звучит вариацией некоторых поздних стихов Тютчева (в частности – “Вот бреду я вдоль большой дороги…”) такая вещь Гандлевского как “Мне нравится смотреть, как я бреду…” Дело не в метрике, но здесь и глагол общий, и все перевернуто с ног на голову, обытовлено, спущено с небес, подобно тому как Ходасевич в “Перешагни, перескочи…” инвертирует тютчевское “Не рассуждай, не хлопочи!..”, оставаясь в колее общей посылки.
Нет ни малейшего сомнения в полнейшей самобытности Гандлевского. Но он сам то и дело толкает читателя к той или иной отправной точке своих устремлений, соответствий и сближений. Помимо глубинных, вряд ли видимых нитей родства, это – внешняя черта поэтики, не им одним принятой и по сути своей традиционной. К тому же за ним филфак МГУ, “Бархударов, Крючков и компания”. Стоит вспомнить попутно, что, скажем, и Тютчев с Фетом, Аполлоном Григорьевым да Блоком посидели-потомились в скучной филологической школе (высшей).
…Но мы говорили о прошедшем времени. То было время разочарования, Боратынский сказал бы: разуверения. Сугубо романтические слова-знаки. Символы. Их почти не было в тогдашней поэтической практике, но именно ими пропитано состояние семидесятнического времени. Эти слова пропускались-проглатывались приблизительно так же, как в строке “С бесцельным беличьим трудом” необязательно присутствие колеса. Элементарная метонимия?
Не совсем. Гандлевский расположен к подробному реалистическому рисунку на размытом импрессионистическом фоне (когда “все громко тикает”). “Нагая женщина тогда встает с постели / И через голову просторный балахон / Наденет медленно и обойдет без цели / Жилище праздное, где память о плохом / Или совсем плохом. Перед большой разлукой / Обычай требует ненадолго присесть, / Присядет и она, не проронив ни звука. / Отцы, учители, вот это – ад и есть! / В прозрачной темноте она пройдет до двери, / С порога бросит взгляд на жалкую кровать / И пальцем странный сон на пыльном секретере / Запишет, уходя, но слов не разобрать”.
Заметим: не плачет, уходя.
Однако дух времени, усвоенный спервоначалу, в цельных натурах остается, как правило, до конца. Это оно, разочарование-разуверение: “Драли глотки за свободу слова – / Будто есть чего сказать”. Говорится, как видим, о других временах, о перестроечных, но мироощущенческая заданность никуда не делась. Да и не было у него стихов с горящими щеками воодушевления в самые наши эйфорические времена.
Так что о “цельных натурах” тут сказано не с кондачка. Нет слов о частном человеке Сергее Марковиче с его, может статься, разодранной душой – имеется в виду целокупность поэзии Сергея Гандлевского. Это опасно не менее, нежели прекрасно. Что на 7-й странице, что на 43-й с нами говорит один и тот же поэт. Так, разумеется, и должно быть. Да?
Дело в поэтике. Автор наверняка мог бы и не републиковать те семь стихотворений, но в его композиционных планах просматривается упор на единство сделанного им. Это получилось. И не могло не получиться. Наделенный инстинктом лаконизма (“короче”), с годами он еще жестче уплотняет стих при одновременном – во избежание инерции – растревоживании речи, о чем уже говорилось выше. Но речь остается той же. Поэтика, выработанная на утренней заре, явила необыкновенную крепость – жизнестойкость на грани самоконсервации – и не желает уходить со сцены “вслепую от блеска заката”. Пара новых верлибров вписывается в нее же. Но понятие “музыка”, в прошлом сакральное, ушло от него, кроме разве что: “Играет музычка, мигает лампочка…” – вокзальный мотивчик, киношно-народная песенка, “Вагончик тронется, перрон останется” на основе “Купите бублички, горячи бублички”.
Да нет. Большая музыка – здесь, в новых стихах, приглушена, упрощена, порой диссонансна, но неизбываема.
Нынче, когда стыдно говорить о лирике, он дает свой вариант: “В черном теле лирику держал, / Споров о высоком приобщился, / Но на кофе, чтобы не сбежал, / Исподволь косился. / Все вокруг да около небес – / Райской спевки или вечной ночи. / Отсебятина, короче, / С сахаром и без. // Доходи на медленном огне / Под метафизические враки. / К мраку привыкай и тишине, / Обживайся в тишине и мраке. / Пузыри задумчиво пускай, / Помаленьку собираясь с духом / Разом перелиться через край – / В лирику, по слухам”. Вот именно – по слухам.
Замечательно, когда поэт пишет коротко, – удобно цитировать.
То есть поэт пребывает на земле, над чашкой кофе, под разговорцы вокруг да около небес. Но есть обстоятельства, разрушающие позицию пускания пузырей. Появляются многострочные стихи, поверх установленного регламента.
В духе и ритме традиционного русского причитания, наподобие отчаянной пляски на поминках, звучит некролог “На смерть И.Б.”, невольно отсылая к двум вещам: во-первых, к его старым стихам о четырех стенах московского алкоголизма (“Сидели, пили, пели хоровую – / Река, разлука, мать-сыра земля. / Но ты зеваешь: “Мол, у этой песни / Припев какой-то скучный…” – Почему? / Совсем не скучный, он традиционный”); во-вторых – к Бродскому, и не только из-за совпадения инициалов И.Б. Существует ведь “Памяти Т.Б.” или “Похороны Б.Б.” Бродского, рядом – “На смерть Жукова”, “На смерть друга”. Гандлевский не мог не иметь их в поле зрения, создавая свою горестную плясовую.
Беспочвенных плачей не бывает. В самом жанре плача испокон века заложена идея сходства. Это самая консервативная форма искусства вообще. Такая уж это тема – смерть. Плач Гандлевского сюжетен, даже многосюжетен: от своих молодых подвигов во имя любимой (их дубль – в прозе: “ amp;lt;НРЗБ amp;gt;“) до встречи с Сопровским: “Воскресать так воскресать!” Тут и родители…
Но и сюжет – фундаментальная основа традиционного многовекового плача. Каждый плач той же Ирины Федосовой, гениальной вопленицы-северянки, увы, не прочитанной подобающе (ее собрали и издали), – полномасштабная фабульная поэма.
“Воскресать так воскресать! Встали в рост отец и мать. / Друг Сопровский оживает, подбивает выпивать. / Мы “андроповки” берем, что-то первая колом – / Комом в горле, слуцким слогом да частушечным стихом”. Тот слуцкий слог наряду с частушечным стихом – вряд ли негатив. Наоборот.
Странным образом этот слог пробивается и здесь – на французской могиле Ходасевича: “Жил беженец и умер. И теперь / сидит в теньке и мокрыми глазами / следит за выкрутасами кота, / который в силу новых обстоятельств / опасности уже не представляет / для воробьев и ласточек”. Впрочем, ничего странного. Слуцкий – ученик Ходасевича. А на самом деле – на той надгробной скамье сидит поэт Гандлевский, ученик Ходасевича. Для этой двойнической путаницы есть резоны, воробьи и ласточки для кладбищенского кота представляют не меньший интерес, чем ходасевичевские мыши.
Повторим: “Отцы, учители, вот это – ад и есть!” В книжке “Некоторые стихотворения” по-прежнему остался след Есенина (“Есть обычай у русской поэзии / С отвращением бить зеркала…”), мелькнул Кузмин (“А ты сидишь, как Меншиков в Березове…”), да и немало других отцов-учителей, однако в сухом остатке, именно сейчас, на уровне декларации провозглашается следующий ряд: “Драли глотку за свободу слова – / Будто есть чего сказать. / Но сонета 66-го / Не перекричать. // Чертежей моих не троньте – / Нехорош собой, сутул, / Господин из Пиндемонти / Одежонку вешает на стул. // День-деньской он черт-те где слонялся / Вечно не у дел. / Спать охота – чтобы дуб склонялся, / Чтобы голос пел”. Шекспир, Пушкин, Лермонтов. Не ахти какие чертежи.
Это принцип. Гандлевский не кичится эрудицией, не похваляется зарубежными вояжами (один восьмистрочный стишок на сей счет: “Выуживать мелочь со дна кошелька…”, и то не дальше Чехии да Польши), не сыплет именами. Иные именосцы упоминаются по необходимости, поскольку и впрямь “Никто – ни Кьеркегор, ни Бубер – / Не объяснит мне, для чего, / С какой – не растолкуют – стати, / И то сказать, с какой-такой / Я жил и в собственной кровати / Садился вдруг во тьме ночной”.
Очень знакомо.
Но этого не объяснит и школьная учителка, п. марьиванна. Она – про “смысл жизни”. Поэт – про то же. Он не знает этого смысла. “Как засран лес, как жизнь не удалась, / Как жалко леса, а ее – не очень”* .
Вообще говоря, “Некоторые стихотворения” – книжка про то, что жизнь не удалась (и, конечно же, про “вселенную всенепременно”). Продолжительно-прерывистый вздох по “дуре-молодости”. Вот оно: “Казалось бы, отдал все, лишь бы снова ждать у метро / Женщину 23-х лет в длинном черном пальто”.
Это тысячелетне-патриархальное сознание набито “признаками жизни, разными вещами”, “дачной рухлядью”, которая “…воскрешает, вроде искусства, / сущую малость – / всякие мысли, всякие чувства, / прочую жалость. // Вплоть до частушки о волейболе / и валидоле…/ Платье на стуле – польское, что ли, / матери, что ли?”. Элегия сведена к частушке. Которая щемит сердце. Именно так: польское, что ли, матери, что ли.
Но это началось еще в молодости. Раннее стариковство не было выдумкой, оно было предощущением, похожим на предвиденье. Он сам расписал свою судьбу, набросал ее чертеж и воплотил в живые формы. Нынче он подтверждает то, что предугадал. Почти теми же словами, изредка прибегая к новым вроде “пубертата”. Ушли свежесть взгляда, широта жеста, глубина дыхания – что образовалось на месте всего этого? Предельность высказывания. Та самая предельность, когда каждое стихотворение пишется как последнее.
Так ведь функция искусства – воскрешать. Истина не из избыточно затейливых, но со шкалы ценностей ее не согнать. Сама сюжетность прежнего и нынешнего Гандлевского, внутренняя балладность, постоянное движение, действие, клочки биографии, строки анкеты, нужные прозаизмы, осколки травматичного пьянства, каталог эпизодов и сцен, происходящих в его стихах, – все это и есть адекватно живая жизнь, “с сахаром и без”. В основном без.
“В черном теле лирику держал, / Споров о высоком приобщился…” Какой-то смысл во всем этом все-таки есть. Честно говоря, я мог бы много к этому подрифмовать – что-то из Межирова, Чухонцева и некоторых немногих других. Не надо. Автор “Некоторых стихотворений” самого себя стоит.
Сейчас, насвежо перечитав Гандлевского, я должен поправить себя. В недавней знаменской публикации** я с размаху записал Гандлевского в старшие братья Дениса Новикова и Бориса Рыжего. Это промах. Гандлевский больше напоминает их отца: достаточно взглянуть на датировку ранних его стихов. Не говоря уж о тематическом круге, поэтике и манере разговора (“небритый прохожий сам с собой на ходу говорит”).
Есть и еще одно уточнение, касаемое на сей раз сказанного только что и чуть выше. “Метафизические враки” у Гандлевского – как предмет отношения к ним – таковыми и остаются, однако в недавнем (2005) верлибре об отце сказано: “Среди прочего, отец научил отыскивать Кассиопею – / небесную “дубль-ве”…”; далее вкратце говорится (верлибр позволяет пересказывать) о подробностях земного бытия, его толчее и бестолочи, в том числе о непристойных россказнях “о загробных проделках усопших” и тому подобное; концовка же такова: “Вот когда новогодней ночью из дюжины свечей на дачном снегу держались до последнего ровно пять, образовав вышеуказанный астрономический зигзаг…” Мысль оборвана. Но ясна.
Кассиопея победила. Впрочем, на земле. На дачном снегу детства.
Илья Фаликов
* Ср.: “Как поздно, как жизнь пролетела, / как быстро настала Москва!” (Е. Рейн).
** “Знамя”, 2008, N 2: “Граду, миру, чему-то еще”.
Галина Ермошина. Оклик небывшего времени
Лестницы Мебиуса
Галина Ермошина.
Оклик небывшего времени. – М.: Наука (Русский Гулливер), 2007.
Эту рецензию можно было бы назвать так: “Способ фотографировать сновидения”. Или так: “Мир непроявленных форм”. Или: “Поперек зрения”, “Изумленное пространство бездействия”, “Продолжающееся отражение”… Проза Галины Ермошиной на редкость обильна такими просящимися в заглавие фразами, отсылающими как бы к чему-то более объемному и глубокому (опыту, взгляду, смыслу). Собственно, каждая фраза этой книги может быть ее названием, ее началом – а предшествующие фразы перенесены из начала в конец (тоже – условный).
Шарообразная проза. Шелестящая листва Мебиуса.
“Горло квадратных фонарей сжимает темноту, разворачивающуюся из твоих ладоней. Карантинное измерение температуры, падающий ртутный столбик, карманные сверчки внутри спичечного коробка. Где оказалась твоя ошибка, когда, открывая двери, выкатывается плотный шар воздуха, – две рыбы задыхаются на песке – черные острые камни перекатывают волны во рту Тихого океана”.
Сразу оговорюсь, что не принадлежу к числу любителей такой прозы – как принципа, как разросшегося дисметрического стиха, уже не подчиненного аскезе рифмы, стопы или хотя бы дискретности смысла, требующей членения на строки, – но еще не подчиненного аскезе прозы (сюжетности, драматургии…). Обретаемая свобода может иметь смысл лишь при сочетании предельной, хищной обостренности восприятия и стыдливой умеренности в эпитетах и сравнениях – что можно найти, например, в лучших кусках прозы Рильке или Мандельштама. Чаще, однако, “освободившиеся” авторы перегружают текст обилием метафор, особенно назойливых среди сюжетных и смысловых пустот.
Тем не менее аморфность письма, при известном мастерстве, может иметь и свои плюсы, давая большую возможность удержаться на мелкой детали, неожиданной ассоциации, микрометаморфозе. Этим интересны тексты Андрея Урицкого; отдельные куски такой стихопрозы у Сергея Спирихина, Александра Иличевского, Лены Элтанг или у Вадима Месяца – кстати, руководителя проекта “Русский Гулливер”, в рамках которого и вышла книга Ермошиной.
“Оклик небывшего времени” – из этого же ряда; выбор рискованного – с точки зрения удержания читательского внимания – жанра растекающегося монолога, монолога, предельно отслоенного от фигуры автора, о котором, кроме двух-трех его перемещений по географической карте, мы не узнаем ничего. Ермошина заговаривает об отправленном письме: будьте уверены, что мы ничего не узнаем ни о том, кто его писал, кому писалось, ни о содержании письма. Вместо этого мы узнаем, что:
“Письмо – такое событие, что разговор происходит между. Две зимы, расходясь, расходуются от центра, края соприкасаются, внутри – воздух. Это как способ подумать о другом, даже не оклик, а взгляд. Рассказ молчания о пути к нему, где можно обойтись без условий”.
Подобная рефлексия устраняет не только автора, но и свой предмет – письмо прямо на глазах превращается в воздух и молчание. Вообще все полагает неравным, нетождественным себе. “Где мое воскресенье – там твоя суббота”. “Ожидание не равно ожиданию”. “Здесь нет ничего, что можно было бы назвать точным или имеющим границы…” “Неспособность на “да” и “нет”. Только – может быть – между – на грани – внутрь – через – рядом – отдельно”.
Неопределенность, текучесть удерживается не авторским Я, но устойчивым словарем образов. Ладонь, воздух, город, вода, губы, мост, речь, фонарь, яблоко, тень присутствуют едва ли не на каждой странице. Хотя порой кажется, что изрядная затертость этих образов, взятых из расхожего лирического словаря, не компенсируется их причудливой оркестровкой.
“Первое спокойное отражение. Возвращение пустого взгляда, прочного каркаса воздуха. Там удивление сохраненной улыбки, падающие зигзаги противоречий, ключицы воды, ключи песка”; “Рост осенних газовых фонарей, примерная Голландия накрененной фантазии” – возможно, моя собственная фантазия недостаточно для этого накренена, но, на мой взгляд, гораздо лучше менее утяжеленные, более прозрачные фразы: “Сниться рыжей кошке, вытаскивать из лап занозы, выпивать молоко, поставленное для домового”; “Рыбы замерзают во льду – в елочных шарах их застывающий выдох”; “Укради из буфета пчел и ос”; “А сон, эта запертая кладовка, шипит и выплескивается на плиту нелепого фрейдовского безумия” – в последнем случае можно даже допустить, что кладовка может выплеснуться на плиту; по крайней мере, обеспеченность смыслом и образным “мясом” в этой фразе гораздо выше, чем во всех “ключах песка”.
Впрочем, обаяние прозы Ермошиной не столько на уровне отдельной фразы – хотя именно к такому “изюмному” чтению провоцируют эти бессюжетные, бесперсонажные тексты, – сколько в чередовании длинных, метафорически избыточных, и кратких, порой ничего не значащих и банальных фраз. “Здравствуй, летняя ночь”. Что это – начало девичьего дневника, перепев школьного: “Здравствуй, лето”? Но в единой партитуре с последующим текстом это непритязательное начало становится ритмически оправданным, начиная звучать и наполняться светом: “Здравствуй, летняя ночь. Твои теплые змеи упруго скользят в воду, твои большие глаза темнеют от приближения ладони ко лбу. И ночная ягода светится, перекатываясь по большому лесу. Твои дома держатся за руки и не пускают тебя в квартиры, где стены ласково прижимаются к человеку и сжимают горло”.
Опять же, повторенное “большие”, “большой” кажется скорее неопрятностью, а аллитеративная пара “прижимаются – сжимают” тоже, на мой взгляд, из разряда сомнительных красот (вроде цитированных выше “ключиц воды” с “ключами песка”). Но то, что может казаться неудачей на уровне отдельной фразы, не выпирает, но растворяется в тексте, в его особой ритмике, возникающей из сочетания разноразмерных кусков, отрывков, мыслей. Именно в этом и кроется магия стиля – хотя порой кажется, что автор сама подпадает под эту магию и забывает о важности пятого подвига Геракла в отношении стилистических “мелочей”.
Еще раз оговорюсь в своей пристрастности к детали, что, возможно, помешало мне как следует увидеть возникающий за деревьями лес – тот самый, по которому “светится, перекатываясь, ночная ягода”. Тексты Ермошиной, при всем их спокойствии, сдержанности, – провокативны; рецензия на них может созреть лишь как ответная провокация, но уже не автора (для авторов рецензия – лишь искривленное эхо), но читателя. Чтобы он – читатель – не испугался ни серого цвета обложки, ни “ученой” аннотации (“Лирико-психологическая проза, исследующая сложность межличностных отношений, восприятие предметов, в контексте культуры…” – бр-р!). Чтобы он попытался прочесть.
Это, например: “Город, чье продолжение – ступени, текущие во всех направлениях, чье застывание вроде мокрого песка, когда ветер высыхания заставляет рассыпаться ненадолго соединившиеся капли”.
Или это: “Львиная вода, зябнущие фонтаны, ты всегда приходишь с опозданием, окно закрыто, словари выговаривают английские извинения”.
И далее – вслушиваясь в оклик небывшего времени.
Евгений Абдуллаев