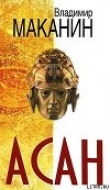Текст книги "Знамя Журнал 8 (2008)"
Автор книги: Знамя Журнал
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Более того, в этом отношении наблюдается даже регресс, связанный с утратой традиционных институтов социального контроля. Если традиционные институты содраны до кожи, а новые не наросли, то массовое сознание становится беззащитным перед угрозами манипуляции им. Отсюда и гигантские качели инверсии. Еще в 1990-м три четверти населения признавали социализм единственно возможной формой политического строя, а к Западу относились настороженно, а уже в 1991-м (всего лишь за один год) СМИ удается перестроить массовое сознание на противоположную волну – и уже столько же россиян поддерживают идею “социализм завел нас в тупик”, а “Запад – это модель для подражания”. Еще через три года новая инверсия: “социализм не так плох, а западная модель не подходит для России”. Начало 2000-х и новая доктрина как ластик стирает в массовом сознании следы предыдущей: “Нет возврата к социализму”, “Нет пути на Запад”. Но маятник не компьютер – не зависает, он снова готов к колебаниям. Если на основании социологических исследований мне кто-нибудь скажет, что действительно точка невозврата к социализму пройдена, то я просто рассмеюсь. В нынешних условиях уже нет плохих “измов”, может быть лишь мало денег на их маркетинг. И это опасно.
Демократия не может быть устойчивой, если нация-общество не способна быть основным хранителем ее базовых ценностей.
Потому что истеблишмент может начать реформы, но не может их завершить. Он доводит реформы только до того состояния, которое соответствует групповым интересам элиты. Все это уже не раз происходило и воспроизводило бесконечный маятник смены реформ и контрреформ. Нужно искать выход из порочного круга.
Однако в действительности круг не столь уж замкнут. Пока я лишь перечислил факторы, которые воспроизводят русскую систему, но ведь это инерционная система, а не вечный двигатель, следовательно, ее ресурс исчерпаем. И как раз в социокультурной сфере это исчерпание уже заметно и будет нарастать, прежде всего в связи с убывающей легитимностью всего политического режима.
Власть – уже не от бога, но и не от выборов
. Пока терпят лидера – в расчете на то, что он защитит от совсем отвязавшихся бояр, но личный авторитет – быстропортящийся ресурс. Если во времена Гоголя только отпетые Белинские осмеливались в частной переписке именовать власть “корпорацией служебных воров и грабителей”, а во времена Зощенко на это решались люди вроде зека Шаламова, то во времена Жванецкого такие оценки стали открытыми и расхожими.
Собственность – никогда не была священной на Руси, но не стала и законной
, она воспринимается как ворованная и усиленно стимулирует рост представлений о несправедливости распределения богатств.
Отношения внутри элит не легитимированы ни религией, ни законом, ни традицией
. Почему московские должны признать верховенство питерских? Почему одним жирные куски, другим объедки? Признать это элитарные группы не готовы. Потерпеть могут: “Банкуйте, пока ветер не переменится”.
У меня нет сомнений в том, что элита, которая не может укрыться за традицией, будет пробиваться к защите закона, будет заинтересована в переходе от власти авторитета – к власти нормы, следовательно, она рано или поздно станет поддерживать политическую модернизацию. Вопрос в том, в каких условиях будет расти социальная база поддержки модернизации. Если в условиях нарастающей грызни между элитарными кланами, то в России это не приведет к “оранжевой” революции, которая, как известно, была бунтом миллионеров против миллиардеров и содействовала вестернизации страны. У нас такой бунт в нынешних условиях может опереться только на ксенофобские настроения, галопирующие в стране. Только радикальным националистическим силам, являющимся одновременно и антимодернистскими, выгоден в настоящее время принцип “чем хуже – тем лучше”. Подавляющему же большинству российского общества и практически всей элите предпочтительнее другой вариант развития – большая коалиция социальных сил: “За модернизацию”. Она, возможно впервые в истории России, дала бы шанс на длительное стабильное и эволюционное развитие страны.
В любом случае могу сказать, что нынешняя социокультурная обстановка в стране, в силу своей неустойчивости и утраты способности к социальному регулированию будет стимулировать скорее перемены, чем сохранение исторической колеи. В то же время социокультурный климат пока не содействует и становлению новых демократических институтов.
Расстаться с утопиями
Одни говорят: “Вначале улучшим культуру, а затем уж будем заниматься демократизацией”. Мне это напоминает анекдот: “Научитесь прыгать с вышки, а потом мы вам воду нальем в бассейн”. Сколько угодно можно внушать людям, что вы – граждане, источник власти в государстве, будьте ответственны, но если на каждом шагу люди сталкиваются с тем, что от них ничего не зависит, то такие проповеди будут бессмысленными. Однако и другой призыв: “Давайте построим демократические институты, а затем появится новый дух” – также лишен практического смысла. В том-то и дело, что в практическом отношении проблема состоит не в определении приоритета материи или сознания, а в их синтезе. В реальности материальные институты и ментальные культурные традиции находятся в нерасчлененном единстве, поэтому современные социологические и экономические теории рассматривают идеальные нормы, “правила игры” в качестве такого же института, как социальные организации. Ведь что такое демократия? Это и есть переход от власти авторитета к власти нормы. Закон становится главным институтом.
Как осуществить такой переход? У нас много и справедливо говорят о разделении властей, обеспечении независимого от исполнительной власти правосудия и т.п. Но при этом забывают об обществе как особом элементе политической системы. А я уверен, что расчет только на государственно-правовые изменения – такая же утопия, как и расчет реформаторов 90-х годов на рынок, который сам выведет Россию на путь прогресса. Опыт тех же 90-х показывает, что без общественного надзора демократическая государственность быстро портится. А в перспективе она грозит перерасти и в диктатуру. Поэтому задача выращивания общества не менее важна, чем задача строительства государства. А для интеллигенции это и есть главная задача.
Не мы одни десятилетиями жили в условиях тоталитаризма, и не мы одни из него выходим. И тот опыт, который имеется, – опыт Испании, опыт Италии, опыт Чили после Пиночета, – показывает, что новые демократические институты, то самое гражданское общество прорастают через использование традиционных. В Испании это были соседские хунты (то есть квартальные общины), а в Чили и в Польше – религиозные приходы. В Италии – это возрожденные цеховые организации плюс региональные ассоциации. На них опирались новые институты, через них укоренялись в народе новые политические течения, а потом и партии.
Так же и нам в России, на мой взгляд, надо сейчас попытаться отыскать те клеточки традиционных институтов, через которые может прорастать гражданское общество. Модернизации России мешают сегодня не столько косные культурные традиции, сколько отсутствие институтов гражданского общества, которые плохо приживаются как раз потому, что не опираются на традиционные.
Есть проблема поиска традиционных институциональных опор гражданского общества. В то же время традиционность ее нравственных истоков как раз в России очевидна. Если мы хотим найти доказательства национальных, российских, корней концепции гражданского общества, то их не нужно искать в мифах, снах или таинственных кодах. Вся классическая русская литература ее защитница и нравственный гарант. Та самая, которая в жестокий век восславила свободу и стремилась быть любезной не власти, а народу. Та, которая считала достойным служение, но не прислуживание. Та, которая превозносила гражданственность и утверждала, что “поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан”. Та, которая считала “слезу ребенка” мерилом политической эффективности.
Несвоевременная современность пристальное прочтение
(О поэзии Алексея Цветкова)
Об авторе
| Скворцов Артем Эдуардович – литературовед, критик, автор монографии “Игра в современной русской поэзии” и статей в журналах “Знамя”, “Арион”, “Октябрь”, “Вопросы литературы”, “Philologica”. Лауреат литературной премии “Эврика” (2008 г.). Живет в Казани.
Еще лет пять назад поэзия Алексея Цветкова воспринималась как явление свершившееся.
Его стихи безусловно успели утвердиться среди достижений новейшей литературы. Хотя нельзя сказать, чтобы раннее творчество поэта было хорошо известно широкой публике. Скорее, в актуальном культурном сознании на первом плане были иные имена. Да и библиография о Цветкове к тому моменту была обескураживающе скудна: буквально несколько статей и эссе С. Гандлевского, А. Зорина, М. Айзенберга, Л. Панн, а филологических исследований вообще имелось одно – Дж. Смита.
И вдруг… Случилось то, чего меньше всего можно было ожидать. Цветков вновь начал писать стихи и эссе. Регулярно появляться на публике. Участвовать в бурных литературных баталиях. За стремительно короткий период он стал одной из центральных фигур современного русского поэтического пространства. Если на протяжении семнадцати лет поэт словно находился в зоне “истории литературы”, то теперешнее его состояние больше похоже на пробудившийся поэтический вулкан.
Отношения автора с аудиторией часто вещь грустная. Как заметил И. Бутман, “музыканта любят, пока он играет”, – похоже, принцип следует распространить и на литературу. Десять лет назад сплошь и рядом в ответ на вопрос “читали ль вы Цветкова?” можно было услышать “а кто это?”. Ныне интересоваться поэзией и не слышать его имени просто невозможно. Остается только надеяться, что вслед за известностью автор действительно приобрел на порядок больше читателей, чем в девяностые.
С возвращением Цветкова стали говорить об изменении его поэтического мира. Как и положено, одних это радует, других удивляет, третьих возмущает. “Цветков нынче другой”, – говорят то с одобрением, то с безусловным порицанием.
А что, собственно, изменилось? Ну, лексикон стал еще богаче. В частности, полюбил поэт существительное “квант”, раритетный для стихов эпитет “квантовый” и даже совсем уж диковинный для гуманитарного сознания глагол “квантовать”. Ну, макаронических вплетений из латыни, греческого и новоевропейских языков прибавилось. Математические формулы появились (кстати, не редчайший ли это случай в русской словесности после Хлебникова? Пусть эрудиты проверят). Расширился метрический репертуар: кажется, еще не отмечалось, что в двух последних поэтических книгах автор свободно использует все четыре основные системы русского стихосложения – тонику, силлабо-тонику, верлибр и подзабытую силлабику – случай, скажем прямо, нетипичный, да и силлабика здесь какая-то причудливая, часто неравносложная, с плавающей цезурой.
Как и прежде, Цветков играет и заигрывается. Например, он может добродушно травестировать заветные строки самого известного стихотворения Тарковского “и слово ты раскрыло, / Свой новый смысл и означало: царь”, получив на выходе “вход в гастроном там слово рубль имело / старинный смысл и означало три”.
Он не боится писать чересчур знакомыми размерами, хотя бы двустопным анапестом, намертво связанным и с “Сколько надо отваги, / Чтоб играть на века, / Как играют овраги, / Как играет река…”, и с “Ни страны, ни погоста / Не хочу выбирать…”, умудряясь и тут сказать поверх и наперекор: “подступает отвага / от стакана в руке / почему мы однако / не такие как все”.
Он готов начать почти с ученической вариации на тему Анненского – “Среди миров, в собрании светил…”, чтобы, кинув в первой строке кость подтекстовым гурманам, увести высказывание в непредсказуемую сторону: “среди лучей космических планет / порой возможны голоса и лица / когда внезапной вечности момент / случается и начинает длиться”.
По запутыванию следов и неожиданности поворотов Цветков чемпион. Ну кто бы мог догадаться, что стихотворение, начинающееся строками “вот на каком остановлюсь моменте / людей негоже муровать в цементе / как поступает мафия в кино”, завершится саркастически-ритуальным “пойдем забудемся всеобщим вальсом / и если кто плеснул себе авансом / то с новым годом с новым счастьем всех”…
Удивительно то, что внешне Цветков изменился мало. Ведь сохранились многие устойчивые мотивы. Почти не подверглась ревизии поэтика: тут и некоторая монотонность интонации, и тяготение к неточным рифмам, и слабый интерес к анжамбеманам, и преимущественное совпадение синтаксических периодов со стиховыми, и виртуозная пластика метафор, и нередкие грамматические отступления от нормы, и, наконец, безусловное стилистическое единство. Так или иначе, в целом внутри собственной поэтики он устойчив и, говоря осторожно, даже консервативен.
Трансформации, однако, и в самом деле есть, но происходят они на более глубоком уровне. На чей-то взгляд, Цветков, возможно, и впрямь стилистически монотонен, зато подобное “однообразие” с лихвой компенсируется амплитудой отношения лирического субъекта к универсуму.
Герой нынешнего Цветкова состоит в сложных отношениях с Создателем: индивид то спокойно обращается к Творцу, то иронизирует, то проклинает, то благодарит, а то вообще отрицает саму возможность идеи верховного судии: “как счастлив вечерами человек / что он при бабе и богооставлен”, “он обещал вступиться в этот раз / но он оставил нас / оставил нас”, “редко жалели раньше какие стали / бога бы всем да нельзя остаемся сами”, “праздник прав а не святочный бог когда-то”, “как умел любил и не ведал что бог неправда / мы убили его и живем на земле всегда”, “когда бы вправду добрый доктор бог / пожать его целительную руку / творец бобров и повелитель блох / но бога нет и мы враги друг другу”. Соответственно, образ героя при всей устойчивости стилистики Цветкова предстает то умудренным опытом и даже пресыщенным жизнью мужем, то невинным дитятей. Этот плюрализм в одной голове – не шизофрения, а полифония, и под видом одного в поэтике Цветкова все чаще начинает говорить целый хор различных голосов, старающихся перепеть друг друга. Парадокс в том, что сам автор, разумеется – и тот, и другой, и третий, но он не может, да и не желает отдавать предпочтение какому-либо голосу.
Многие стихи в двух недавних книгах звучат как последнее слово и окончательный приговор – в пользу любви, либо сведения счетов, и после прочтения очередного сильного признания кажется, будто смысловая точка поставлена, но стоит перевернуть страницу, и все начинается заново. С чистого листа. И волны таких ложных финалов подсказывают, что разговор еще не закончен. От обилия метаний возникает резонный вопрос: а где же тут стержень? Что скрепляет весь этот вызывающий хаос поэтических явлений и состояний? И есть ли это единство вообще?
Герой последних стихов Цветкова лихорадочно колеблется между истовой верой и яростным атеизмом, между интеллектуальной изощренностью и детским простодушием. Но странно не это, а то, что во всех столь различных ситуациях поэту удается сохранить искренность. Каким же образом? Видимо, эмоции не лгут. Умственные стремления сымитировать можно, а гнев, радость, любовь – вряд ли. Они либо есть, либо их нет.
В поэзии Цветкова всегда был понижен эгоцентризм лирического субъекта – окружающий мир интересует его больше, чем он сам. Теперь же создается впечатление, что автор поставил перед собой вызывающе амбициозную задачу: вобрать и выразить через своего героя весь человеческий опыт как таковой. Но опыт не безличного джойсовского Here Comes Everybody, а реально некогда живших и поныне живущих. Его герой и подчеркнуто индивидуален, и всеобщ, оттого аграмматичные конструкции типа “долго на свете я был кто-нибудь” – не дразнилки для пуристов, а протокольно точный и единственно возможный способ фиксации этого отношения к универсуму: нет времени на размазывание манной каши по столу, и раз готовый язык не вмещает всеобщего гетерогенного опыта, значит, тем хуже для языка.
Вообще пресловутая “непонятность” языка Цветкова, последовательные нарушения некоторых школьных правил (кстати, довольно ограниченные и строящиеся в основном на расширении валентностей синтаксических связей, эллипсисе и нестандартном управлении), намертво связаны с его философией жизни, они – средство, а не цель. Об этом более десяти лет назад точно сказал А. Зорин: “Ощущение невозможности зафиксировать мир в слове при очевидном отсутствии других инструментов такой фиксации приводит автора к осознанному насилию над языком”. Но такое “насилие” не имеет отношения к авангардному стремлению обессмыслить словесный знак – вот уж чего у поэта не было и нет. Цветков – смысловик, причем один из самых радикальных.
Трудно не заметить, что большинство языковых аномалий у него связано с воплощением темы времени. В стихах Цветкова отношения со временем всегда строились напряженно, а в поэзии последних лет градус напряжения только возрос: “время повернуто в оба конца”, прошлое и будущее часто меняются местами или даже сосуществуют. Тогда торжествует, условно говоря, некое всеобщее настоящее. Одни и те же персонажи, существа и предметы могут одновременно действовать в разных хронологических отрезках: “рано выйди на дорогу / солнце медное над ней / там пасёт себе корову / человек вчерашних дней”, “почему на пристань Леты / с детства выданы билеты / почему еще в полете / чайки загодя мертвы”, “уснул и я проснуться в древнем риме”, “мы живы уже или жили тогда но не те”, “можно снова и никогда”, “смотри стекло просверлено насквозь / нить времени проложена подкожно / там предстоит то что давно сбылось / а то что было раньше невозможно” и т.д.
Временной континуум словно разделяется на ряд живых картин. Это мучительно напоминает стремление остановить мгновение средствами грамматики и поэтики. Иногда подобное приводит к почти безглагольному типу письма, к атемпоральности: “дробная россыпь черных грачей в ландшафте / или людей впереди один на лошадке”, “стрекот ходиков скорей / стриж в лазури лихо / после ловли пескарей / сбор ботвы и лыка”, “осины у ворот их медленное стадо / из земноводных уз зеленый водолаз / им невдомек пока что умирать не надо / когда стоит любовь как полынья до глаз”.
Сам поэт, объясняя такой эффект в своих стихах, сказал: “Время для меня очень важная материя, мне кажется, все наши несчастья заключены в нем, тогда как на самом деле его, может быть, нет вообще. Так считал Альберт Эйнштейн, так считал Курт Гедель. Вообще все религии пытаются как-то решить загадку времени, которой, быть может, не существует. Но, конечно, поэзия может только поднимать шум, чтобы привлечь внимание полиции, сама она ни заменить религию, ни стать ею не может”.
И грустно-ироничная строка “что мне вергилий или я ему” – в сущности, тоже о парадоксах времени. Здесь не просто остроумное переосмысление гамлетовской сентенции, а напоминание, что классики, как заметил М. Гаспаров, писали не для нас – мы все читаем чужие письма. Нет, не от “головы” идет Цветков при всем своем гиперинтеллектуализме – от “живота”.
Пожалуй, вот здесь-то действительно можно нащупать суть некоторых изменений в его мироощущении. Прежде тема страха перед Танатосом, столь важная для многих художников, решалась у него так: не страшно, что жизнь конечна, – само по себе это ни хорошо и ни плохо, – ужас и отвращение вызывает только то, что она может быть реализована без какой-либо рефлексии и понятий о чести, долге и чувстве собственного достоинства: “Оскудевает времени руда. / Приходит смерть, не нанося вреда. (…) / Поет гармонь. На стол несут вино. / А между тем все умерли давно, / Сойдясь в застолье от семейных выгод / Под музыку знакомых развозить, / Поскольку жизнь всегда имеет выход, / И это смерть. А ей не возразить. // Возьми гармонь и пой издалека / О том, как жизнь тепла и велика, / О женщине, подаренной другому, / О пыльных мальвах по дороге к дому, / О том, как после стольких лет труда / Приходит смерть. И это не беда”.
У Цветкова страх исчезновения своего “я” всегда был едва заметен. В его поэзии чувство ужаса перед небытием уступает вполне античному по духу страху утраты комплекса добродетелей, который в Древнем Риме принято было называть virtus, что условно можно перевести как “гражданское мужество”, чувство, позволяющее “сладостно и почетно”, как писал Гораций, умереть за общее дело – “dulce et decorum est pro patria mori”. Для римского гражданина такое общее дело – идея государства, верность духам предков и домашнему очагу, для современного русского поэта – русская поэзия: “Но я не духовные гимны – / Военные песни пою, / И строки мои анонимны, / Как воины в смертном бою”.
Тема античности у Цветкова, тесно переплетенная с темой смерти, в прежнее время была одной из ведущих. Античность в его понимании бесконечно далека от нашего типа сознания и столь же бесконечно выше нравственной парадигмы современности. Грекам и римлянам не нужно мучительно преодолевать идею смертности, поскольку основания подобной фобии – ощущения отъединенности и одиночества личности у древних еще попросту нет. Отсюда и откровенное пренебрежение поэта к так называемому “самовыражению”. Не самовыражение, а самораскрытие есть подлинно творческий акт, где личность меньше всего занята собой и более всего – Единым, ибо стремится понять и выразить смысл своего существования во всеобщем бытии.
История поэтом почти всегда понималась не столько как фиксация приобретений, сколько перечень утрат. Рушатся великие цивилизации, исчезают разрабатываемые веками сложнейшие представления о чести и долге, искажаются факты, и в конечном итоге малообразованный современник имеет дело с удобным и съедобным меню мифов и дней минувших анекдотов.
В эссе “Futurum imperfectum”, посвященном личному восприятию античности, Цветков писал: “Ученую беседу, то есть тусовку, давно не украшают цитаты из Вергилия или Гомера – иногда мелькнет Менандр или тот же Публий, но припишут в лучшем случае Максиму Горькому или Жванецкому. Что нам известно о Риме и Греции? Сказать “ничего” – значило бы преувеличить”. И далее – о принципиальнейшей разнице между мировоззрением антиков и современным, то есть об отношении к смерти: “(…) осталось убедить римлян и греков в моральном превосходстве цивилизации, которая уравнивает человека с треской. (…) Человеку известно, что он умрёт. Преклонение перед жизнью – это лицевая, парадная сторона страха. Мы боимся смерти так, как никто до нас не умел бояться, мы возвели этот трепет в нравственный закон, покрыли золотом и резьбой и поклонились ему. По словам Ницше, мы сделали свой порок добродетелью”.
У прежнего Цветкова смерть воспринималась как завершенность, а следовательно, и осмысленность конкретного человеческого существования. Страх смерти есть неосознанная демонстрация непонимания человеком того, что существует только жизнь и ее детали – в том числе и смерть.
Теперь же налицо некоторая смена вех. Уже не до чеканных общих суровых суждений. Изменилось не столько отношение к смерти, сколько к смертным – ныне жалко решительно всех: “день наступает со стороны луны / всех не спасти никого не спасти увы / (…) / боги неправда и смертному не друзья / хочешь люби любого спасти нельзя”. Теперь можно с полным основанием сказать: “доброй ночи свои а чужих не бывает”. Потому так пронзительна сегодня макабрическая тема у Цветкова, что умирает не солипсическое я – каждое мгновение умирает живое. Надежда есть, поскольку биота в принципе вечна, да только в составе ее происходит постоянная ротация, и с каждой конкретной смертью, особенно насильственной, примириться не удается.
И вот такие всеобщие, они же “абстрактные”, представления принимаются героем на удивление близко к сердцу и переживаются с не меньшей лирической интенсивностью, нежели сугубо частные, выношенные и выстраданные эмоции.
Что же получается в итоге – метафизическая поэзия? Трудно сказать. Само это понятие в русской культурной традиции на диво неустойчиво: что только под ним ни подразумевается – и “научная” составляющая, и “философская”, и “религиозная”… Пожалуй, для такой интерпретации поэзии Цветкова в ней слишком много жару. Горячности. Горечи.
Можно было бы красиво порассуждать об избытке романтического запала, если бы идеология романтизма не была так же далека от поэта, как живой человек далек от “человеческого фактора”. Не ночевал тут, разумеется, и постмодерн – при всем поверхностном сходстве ряда формальных особенностей цветковской поэтики с его инструментарием. Постмодерн, убаюканный тепловой смертью, ни холоден, ни горяч, а здесь несомненна точка кипения.
Цветков, – страшно сказать, – неравнодушен, но это еще не все: он не боится демонстрировать страсть. И потому не очень вписывается в нынешнее время. Скорее, изменился не сам автор, а социокультурный контекст, и на новом фоне поэт выглядит тоже по-новому. Очень несвоевременная книга “Имена любви”. Да и “Шекспир отдыхает” тоже не ко времени.
При всем том, что у лирического героя имен любви наберется не на одну книгу, любовь эта все же избирательна. Благостно-добреньким его не назовешь, ибо “пускай мне покажут землю где выбор прост / я пожил и в курсе какие возможны звери”. От иных событий и явлений вырываются признания вроде следующего: “может вслед придут кто меня добрее / и сожгут страну”. Цветков, не в пример многим его коллегам, с упорством Дон Кихота сражающимся с призрачными воинствами ада, умеет увидеть вполне отчетливый образ врага. Столько яду вкладывается, например, в строчку “помнишь они нас учили на человека”, что, не имея представления о том, кто эти “они”, читатель, впервые берущий в руки томик Цветкова, понимает: речь идет не о зле вообще, а о его вполне земном, конкретном и антропоморфном воплощении.
Но даже и зло, как выясняется, нередко достойно жалости. Да, его последствия чудовищны, и порой от имеющегося у человечества опыта хочется избавиться заклинательным “там нас не было не было нас это были не мы” или обратиться к создателю категорического императива с запросом “вот только скоро смерть а жизнь полна вопросов / в ней вор и хулиган открыто верх берет / хотя бы ты и дух ответь ему философ / как надо поступить чтоб шла мораль вперед”. В начале третьего тысячелетия слишком отчетливо видно, что “слагая свой трактат он думал о герое / герои мы не все а совесть только тень”, и все же “но верится что вдруг есть компас или карта / взять азимут с утра и по стопам твоим / пройти в хрустальный мир иммануила канта / где мы честны и зря прелюбо не творим”. В конце концов, возможно, нам зачтется не сама победа, а стремленье к ней: “пускай неумело любили / последние вспомнят мозги / какими хорошими были / и не были все но могли”.
Не удивительно ли, что автор, мастерски владеющий всеми оттенками черного юмора, с удивительным упорством, как в ранних стихах, так и в сегодняшних, не обинуясь употребляет наречия “нежно”, “бережно” или прилагательное “живой”? Вот свидетельства из давних стихов: “Наши нежные лица от прожитой жизни черны”, “Надо бережно жить, не страшась ни вражды, ни обиды”, “Он звездной родиной заброшен / На землю драки ножевой, / Такой потерянный и детский, / Еще живой, еще живой”. А вот уже из созданных в последние годы: “сиять на поле моего труда / на бережные чертежи и числа”, “чтобы бережно знать если выхода нет ни рубля”, “каждый наплачется всласть если нежно ранен”, “как жаль что ты умрешь но вероятна / весна раз мы живые ей нужны”.
“amat ergo est” – говорит героиня в финале одного стихотворения Цветкова, имитирующего средневековые поэтические диалоги-диспуты, и добавлять к этому признанию ничего не требуется.
В культурном пространстве наших дней многие искренно сомневаются в возможности прямого авторского высказывания: обращение к нему крайне рискованно – сорваться в пошлость ничего не стоит. Но Цветков и тут идет своей дорогой, без оглядки на моду. Достаточно сказать, что существительное “совесть”, не особо привечаемое в современной поэзии, у него звучит без ложного пафоса: “поэтому люди как дети / их совесть стремится к нулю / других бы придумать на свете / но все-таки этих люблю”. Или вот еще разительный пример по-этического суждения: “если брат им по праву терпи и не требуй ответа / это люди такие других не рожали от века” – куда уж откровенней. А если вспомнить, что “совесть” имеет прямое отношение к совместному переживанию, сочувствию, то признаем, что она попала в строку не для красного словца: сопереживанием поэзия Цветкова никогда обделена не была.
В наше время, когда причудливо тусуется колода крапленых литкарт, проводятся успешные атаки клонов против верных солдат Урфина Джюса и водружаются колоссы на века из папье-маше, Цветков относится к редкому виду литераторов уже потому, что – настоящий.